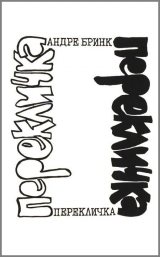
Текст книги "Перекличка"
Автор книги: Андре Бринк
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 31 страниц)
Галант
 Еще одна газета. Я подправляю стену вокруг двора в тех местах, где колеса выбили из нее несколько камней. Появляется Франс дю Той с газетами в седельной сумке и спрашивает, есть ли кто из хозяев.
Еще одна газета. Я подправляю стену вокруг двора в тех местах, где колеса выбили из нее несколько камней. Появляется Франс дю Той с газетами в седельной сумке и спрашивает, есть ли кто из хозяев.
– Оставьте ее мне, – говорю я. – Я им передам.
– Тебе доверить этого нельзя, – отвечает он. – Новости слишком важные.
Когда он отпускает поводья, язвительно предлагаю ему:
– Может, заглянете пока в свинарник? Вот времечко и скоротаете.
Он нацеливается ударить меня, но я успеваю отскочить в сторону.
– Держи ухо востро, – говорю я Памеле. – Если они станут говорить о газете, запомни и перескажи мне.
– Они никогда не говорят при мне об этом, – отвечает она. – Хозяйка вообще не пускает меня в комнаты. С тех пор как ко мне стал ходить баас, она снова взяла в дом Бет. И я стараюсь не попадаться ей на глаза.
– Слушай повнимательнее, когда будешь работать в доме, – приказываю я Бет. – Вчера привезли газету.
– Чего ради я буду пересказывать тебе что-то, даже если и услышу? – огрызается она.
– Хотя бы ради того, чтобы я не свернул тебе шею.
Но когда потом берусь за нее как следует, я узнаю только, что хозяйка ничего не рассказывает о новостях.
– Если хочешь знать, так, по-моему, хозяйка напугана газетой не меньше твоего. Говорит, мол, пусть полежит, придет время – прочитаем. Беспокойств, мол, и без того хватает, вот что она говорит.
– Остается только одно, – говорю я Памеле, стиснув зубы. – Когда он снова придет к тебе, спроси об этом прямо.
Но даже и таким способом из них ничего не выудишь. В ответ она слышит только одно: «Всему свое время, а сейчас не время говорить о газетах».
– Принеси мне эту газету, – приказываю я Бет. – Я должен знать, что в ней говорится. Я уверен, что там говорится о нас.
– Они убьют меня, если я украду ее.
– А я убью, если не украдешь.
Они долго ищут газету по всей ферме, пока она лежит, надежно спрятанная, у меня под матрасом. А когда меня посылают к баасу Даль ре, я беру ее с собой и прошу его объяснить, о чем там речь. Почему именно его? Потому что все его презирают. Даже рабы говорят: мол, невозможно уважать белого, который не умеет держать себя, как положено хозяину. Поэтому-то он мне и по душе, возражаю я. Он приехал сюда из далекой страны. Он слушает меня и разговаривает со мной так, будто и не замечает, что я раб. Он не поднял меня на смех, когда я попросил его сделать мне башмаки. Поэтому я прихожу к нему с газетой. Но на этот раз он не похож сам на себя. Вид у него напуганный. И он ничего не желает мне объяснить.
– Почему тебя занимает все это? – спрашивает он. – Если тебе так важно узнать это, пойди и спроси у своего бааса. Я не хочу встревать в чужие дела.
Он даже не глядит на меня, делая вид, будто занят своей работой.
– Если баас решит, что тебе стоит знать, он сам тебе все расскажет.
Я начинаю сомневаться в этом человеке. Где башмаки, которые он обещал сделать для меня? Почему он до сих пор их не сделал? Выходит, он врал мне? Или они и вправду все одинаковые?
Газета жжет мне руки. О великий творец, неужто во всем этом чертовом мире не найти человека, который рассказал бы мне, о чем говорит эта проклятая газета? Я раскладываю ее на муравейнике и пристально гляжу на маленьких черных муравьев, которые, не двигаясь с места, бегут по бумаге. Я знаю, они говорят что-то обо мне, но я не в силах разобрать ни слова. До боли прижимаю ухо к газете, но так ничего и не слышу. Затем в отчаянии я начинаю рвать газету в клочья, засовывая обрывки в рот. Раз она молчит, я съем ее. Может быть, тогда она заговорит во мне. Я жую и глотаю, жую и глотаю, пока от нее ничего не остается.
Но все это только начало. Самое страшное ждет меня впереди. Когда я засыпаю ночью – и рядом со мной, на том месте, где обычно лежала Памела, одна пустота, – муравьи вдруг начинают шевелиться и ползать во мне. Я ощущаю их крошечные лапки, снующие туда и сюда, повсюду. Они ползают у меня во внутренностях, по всему телу, от головы до пальцев ног, в кистях рук, прямо внутри моих глаз, у меня в голове. Они ползут и ползут, шелестят и шуршат, но мне так и не разобрать, о чем они говорят. А потом они принимаются грызть мои внутренности, и я понимаю, что они будут поедать меня до тех пор, пока от меня не останется ничего, кроме сухой скорлупы, похожей на панцирь старой черепахи, вычищенный изнутри муравьями. Я начинаю колотить себя, шлепая по телу в тех местах, где, как мне кажется, они продолжают ползать и пожирать меня, но мне до них никак не добраться. Бьюсь головой о стену, чтобы заставить их умолкнуть, чтобы напугать их, но они грызут меня – мой язык, мои глаза, все мои внутренности. Кричу, реву, точно вол, которого холостят, подскакиваю кверху. И вдруг просыпаюсь, весь в поту, от собственного крика, который все еще звучит у меня в ушах, – и вокруг ничего и никого, но я-то знаю, что муравьи ползали и поедали меня. Тянусь к Памеле, но рядом никого, она спит в доме, и рядом с ней сейчас Николас.
Это всего-навсего сон, уговариваю я себя. Ведь я не ребенок, чтобы пугаться страшных снов. Стыдись, говорю я себе. Это всего лишь сон! А может быть, и вообще все только сон: может быть, я не ел никакой газеты. Может быть, и не было никакой газеты. Может быть, я никогда не уходил в Тульбах и не встречал никакого мужчины в цепях. Может быть, у меня не было никакого ребенка. Откуда мне знать? Единственное свидетельство всего, что случилось, – это лохмотья моего жакета. Но что они доказывают? Я так и не узнал ничего о газете и теперь уже едва ли рискну узнавать. А вдруг Памела и Бет скажут, что они ничего не слышали ни о какой газете? Пожалуй, лучше всего просто лечь и попытаться заснуть. Но тогда вновь появятся муравьи и будут пожирать мои внутренности.
– Ты нехорошо поступаешь со мной, Николас, – наконец решаюсь я. – Памела – моя женщина. Я выбрал ее для себя, и мы хотим пожениться. А теперь ты хочешь, чтобы я спал один и муравьи пожирали меня по ночам.
– Она нужна в доме, – отвечает он, делая новую подпругу для своей лошади.
– Она нужна в доме вечером, чтобы прибраться после ужина, – говорю я. – А потом она нужна утром, чтобы сварить чай. Но ночью она моя. Только ночью мы и можем быть вместе.
– Тут не о чем говорить, – резко обрывает он меня и отворачивается.
– Николас! – Я пытаюсь сдержаться, хотя это и нелегко. – Я взял Бет только потому, что мужчине нельзя без женщины. Но Памелу я взял потому, что хотел, чтобы она стала моей, и только моей. Я никогда особенно не беспокоился о женщинах. Но Памела – единственная. Ты слышишь?
– Работа тебя давно дожидается, Галант. Займись-ка делом и не нарывайся на новые неприятности.
– Оставь Памелу в покое, не то ты сам нарвешься на неприятности.
Он идет ко мне, держа в руке готовую подпругу. И тут же, словно она нас подслушивала, из кухни выходит Памела.
– Пожалуйста, не встревай в это, Галант. Я не хочу, чтобы снова случилось что-нибудь ужасное.
– Скажи об этом ему, – говорю я, потом отворачиваюсь и ухожу.
– Зачем ты снова напялил этот жакет? – кричит мне вслед Николас. – Сколько раз я говорил тебе, что не желаю видеть эти чертовы лохмотья?
– Это мой жакет.
– Ты носишь его мне назло.
– Я ношу его потому, что ты дал его мне за ребенка.
Насвистывая, я спускаюсь вниз к краалю, вокруг которого мы надстраиваем стену – неделю назад леопарду удалось перескочить через нее. Стараясь сдержать гнев, яростно принимаюсь за работу, поднимаю и укладываю тяжелые камни. Камни, камни, камни. Но если он не оставит Памелу в покое, то, клянусь черным сердцем грома, грянет новая гроза. Я всегда знал, что от женщин одни мученья. Тебе больно, а ничего поделать не можешь. А с Памелой все и того хуже. Я продолжаю поднимать и укладывать тяжелые камни, безуспешно пытаясь успокоиться. Но мои мысли далеки от этой работы. Памелу – вот кого я мысленно вижу перед собой. И слышу ее голос. В полутьме хижины она спрашивает меня: «Галант, кто ты?» И слова эти раздирают меня больнее ударов бича. Я лежу рядом с ней, но мне не шевельнуться, а все из-за этих слов. Кто ты? Я все говорю и говорю, рассказываю о маме Розе, о Николасе, обо всех других. Но я знаю, что вовсе не это хочу сказать ей и не это, конечно, она хочет узнать от меня. Никому другому я не позволил бы спросить: «Кто ты?» Я начинаю рассказывать об отце – но кто он, что с ним теперь? О матери – но где она и что с ней случилось? О маме Розе, вырастившей меня. О Николасе, который был мне товарищем в детских играх. Но это все о других, о них, а не обо мне. Как рассказать ей то, что она хочет узнать: где начинаюсь сам я? В ночи, по которой я плыву, будто по глубокой темной реке, во мне понемногу рождается слепое предчувствие того, что предстоит еще что-то сделать, до чего-то добраться, чтобы и я сам, и она могли сказать наверняка: Вот это – Галант. Сейчас, в этот миг, в нашей темноте, лежа рядом с ней, я могу лишь ощущать самого себя, но мне не дано выразить свое ощущение словами. Вот мое тело с синяками, порезами, шрамами, тело, слепленное из боли, подобно фигурке, вылепленной из глины возле запруды, моя спина и живот, мои руки и ноги, мой упругий, вросший в нее корень. Но разве возможно, чтобы на этом все и кончилось? Наверняка есть нечто большее, нечто такое, отчего люди даже много времени спустя будут говорить: Это – Галант. И я должен отыскать скрытую, таинственную суть себя самого, отыскать вместе с ней. Вот почему никто в целом мире не вправе отобрать ее у меня – ведь той ночью она как бы стала частью меня самого, той частью, без которой я никогда не смогу стать Галантом. Теперь я навеки прикован к ней. Но почему эти цепи не тяжелы мне? Откуда возникло ощущение, что лишь с этой цепью я смогу по-настоящему познать свободу? Я все пытаюсь докопаться до сути всего этого, но мысли с трудом ворочаются у меня в голове.
Швыряю камни, но это не приносит облегчения, жду, пока наступит ночь, вывожу из конюшни вороного Николасова жеребца и без седла скачу на нем во тьму, чувствуя под собой эту огромную лошадь, ощущая ее движение, слыша стук копыт, громыхающих внизу подо мной, от бешеного ветра из глаз текут слезы. Я подобен камню, поднятому невидимой рукой и подброшенному вверх с такой силой, что он больше никогда не коснется земли. Может быть, такова и смерть?
Но стоит мне вернуться домой, как тотчас же возвращаются муравьи и снова принимаются пожирать меня.
Памела догадывается об этом. Недаром она ночью потихоньку выскальзывает из дома, чтобы прийти ко мне и прогнать этих страшных муравьев. С ее приходом как бы луч света врывается в мой мрак, и снова у меня в ушах стонами наслаждения звучит ее голос: «Галант. Галант. Галант». В звуке ее голоса я вновь обретаю себя. Я снова знаю, кто я такой. Мы снова вместе.
Она приходит и следующей ночью. Ждет, пока все в доме заснут, отодвигает засов на задней двери, в одной нижней юбке выскальзывает в темноту и идет ко мне, бесшумно ступая босыми ногами: в ее плодоносную борозду я вновь высеваю свое семя.
– А что будет, если они узнают?
– Они не узнают. Они спят.
Я готов спросить ее: Он снова был с тобой? Но вовремя удерживаюсь. К чему отравлять себе счастье, его у нас и так слишком мало.
– Им незачем знать об этом, – говорит она и перед восходом солнца выходит из хижины, а место, где она лежала, понемногу остывает.
Но Николас все же узнает. Как-то утром, когда я вхожу в кухню с охапкой хвороста, я вижу, что он стоит возле плиты, загнав Памелу в угол.
– Где ты была ночью? – спрашивает он.
Я осторожно кладу на пол хворост, а рядом с ним топор с длинной рукоятью.
– Сегодня ночью я вышел на кухню, и тебя тут не было.
– Она была со мной, – говорю я.
Николас делает вид, будто не слышит. Продолжая глядеть на Памелу, спрашивает:
– Памела, разве я не приказал тебе оставаться ночью в доме?
– Она была со мной, – повторяю я. – Она моя жена, и она приходит ко мне.
– Уйди, Галант, – поспешно говорит Памела. – Я сама разберусь с баасом.
– Разбираться тут не в чем, – говорит Николас. – Если ты еще раз уйдешь ночью из дома, тебе не миновать бича.
– Вам запретили избивать женщин-рабынь, – говорю я. – Франс дю Той привез газету, там сказано про это.
– Что ты понимаешь в газетах?
Я неторопливо беру в руку топор, поглаживаю пальцами его лезвие.
– Мы с тобой уже много толковали о Памеле, – говорю я. – Памела – моя.
Он пристально глядит сначала на меня, потом на топор.
– Галант… – встревоженно вмешивается Памела.
– Ну вот что, – поспешно перебивает ее Николас, – если я хоть раз замечу, что ты опоздала утром, пеняй на себя.
И, не сказав больше ни слова, выходит из кухни. А ночью Памела снова со мной.
И теперь Памела носит ребенка. Я вижу, как она разбухает все больше и больше. В темноте она кладет мою руку себе на живот, и я чувствую, как он шевелится в ней. Проходит лето, наступает пора уборки урожая и молотьбы. Памела вынашивает ребенка, а я словно летаю по полям, не чуя под собой ног от радости. «Скоро появится ребенок, – говорю я Онтонгу. – И тогда каждый будет знать, кто такой Галант». Когда работа не ждет и некогда идти домой обедать, Памела приносит нам обед на пшеничное поле, на гумно, на делянку бобов. Иногда обед несет Лидия или Бет, но чаще всего Памела. Я выпрямляюсь, чтобы поглядеть, как она подходит, и ощущаю прилив гордости, готовой выплеснуться наружу. Вот идет моя женщина. И она носит нашего ребенка. Мы люди сегодняшнего и вчерашнего дня, а он – наша завтрашняя утренняя заря. «Вот погодите. Скоро вы его увидите, – говорю я Онтонгу, Ахиллу, молодым Рою и Тейсу, рабам старого бааса Дальре, Долли и Платипасу, и даже белому управляющему Кэмпферу – всем, кто работает тут. – Скоро вы увидите его собственными глазами. Это будет еще один Галант, такой же, как я. Только он не остановится там, где остановлюсь я. Он пойдет дальше и пройдет весь путь до конца. С башмаками на ногах».
Но по ночам меня снова охватывает беспокойство, муравьи по-прежнему грызут меня. К тому времени, когда ребенок впервые шевельнулся в Памеле, происходят неприятности на ферме Баренда. Я имею в виду историю с Голиафом, которого чуть не запороли до смерти, когда он пошел в Ворчестер жаловаться, что его заставляют работать в воскресенье или еще черт знает на что. Я кормлю лошадей в конюшне, когда туда входят Николас и Баренд, только что вернувшийся от ланддроста. Они выбирают упряжь для завтрашней работы. Я прячусь за лошадьми, потому что слышу – они говорят про газеты.
– Уйма всяких слухов об освобождении рабов, – говорит Баренд. – Сейчас самое время всем нам объединиться и дать отпор этим проклятым англичанам.
– А рабы ударят нам в спину, – возражает Николас.
– Для начала мы перестреляем их всех до единого. Я скорее пойду на это, чем дам им свободу. А потом выступим против англичан.
– Можешь на меня положиться, – отвечает Николас.
А неделю спустя мы узнаем об английском комиссаре, которого, едва не пристрелив, вышвырнули из Эландсфонтейна.
– Теперь надо быть начеку, – предупреждаю я остальных. – Об этом-то и толковали Баренд с Николасом. В один прекрасный день дойдет очередь и до нас.
– Но рабов куда больше, чем хозяев, – говорит управляющий Кэмпфер, который работает с нами на поле. – Если вы будете держаться заодно, они не посмеют вас тронуть.
Удивительный человек этот Кэмпфер. Тощий и белобрысый, и говорит как-то не по-нашему, потому что приехал из чужой страны. Он белый, как и хозяева, а работает вместе с нами, будто он раб. Живет у старого бааса Дальре в хижине, в такой же, как Долли и Платипас, а когда бьет утренний колокол, выходит на работу. Он даже ест и пьет вместе с нами, хотя он не раб и не готтентот и может уйти, когда и куда ему вздумается.
– Судя по всему, – говорю я, – вы, должно быть, беглый раб.
Он громко хохочет.
– Никогда в жизни не был рабом, – говорит он. – В той стране, откуда я приехал, рабов вообще нет. Там все свободны.
– Разве может быть такое? – спрашиваю я. – А кто же там работает?
– Там работают все, каждый делает свое дело.
– Что-то не верится. Рабы есть везде. И тут, и в Тульбахе, и в Ворчестере, и в Кейпе – повсюду. Только за Великой рекой все люди свободны, но и они тоже беглые рабы.
– Страна, откуда я приехал, находится далеко за морем. Я знаю и другие страны, где нет никаких рабов.
– Должно быть, он говорит правду, – вдруг вмешивается Ахилл; обычно он отмалчивается, но тут не выдерживает и вступает в разговор. – Там, где я родился, в той далекой стране, где растут деревья мтили, тоже рабов не было. Это белые приехали туда, изловили нас и сделали рабами.
С того дня я часто ловлю себя на том, что гляжу на этого Кэмпфера и думаю: вот бы посмотреть на ту страну, где вообще нет рабов.
– Но если там нет рабов, – спрашиваю я, – то почему они должны быть тут?
– Так уж получилось, – отвечает он. – Но ты не думай, это не навсегда. Когда-нибудь и здесь все станут свободными.
Ночью, когда я снова вместе с Памелой, я рассказываю ей то, о чем говорил нам на поле Кэмпфер.
– Тише, тише, – шепчет она, зажимая мне рот рукой. – И у стен бывают уши. Это опасные сказки.
– Кэмпфер говорит, что все это правда.
– Откуда мы можем знать наверняка, что другой человек не врет?
– Когда ты что-то говоришь мне, я знаю, что ты не врешь.
– Возьми меня, – говорит она. И я понимаю, что все это не ложь. Ее тело, мое тело, ребенок между нами, ребенок, которому еще предстоит появиться на свет, но который уже живет в ней. Все это правда. И этого у нас не отобрать никому. Даже Николасу. Есть вещи, над которыми он не властен.
Вот что я думаю, лежа рядом с Памелой в темноте. Но когда начинает светать и она потихоньку выскальзывает из хижины, а я, проснувшись, вижу, что снова остался один, сомнения вновь одолевают меня: откуда мне знать, правда ли все это? Откуда мне знать, была ли она в самом деле со мной и точно ли в ней жил и шевелился ребенок? Может, все это вроде того страшного сна с муравьями, которые никогда не оставляют меня в покое? Да, жизнь – штука запутанная и таинственная.
Все это не выходит у меня из головы в тот субботний день, когда я отправляюсь на поиски бычка. Недавно мы холостили молодых быков. У одного из них, когда его завалили, оказалась подбита нога, и потому его оставили, чтобы подлечить, в краале с телятами. Но сегодня во время утреннего доения Ахилл сказал мне, что бычок сбежал. Я знаю, что Николас разозлится, когда услышит об этом, вернувшись из Буффелсфонтейна, куда поехал на день рождения хозяйкиного отца, и потому, едва закончив утреннюю дойку, отправляюсь на поиски.
– Куда это ты собрался? – спрашивает мама Роза, когда я проезжаю мимо ее хижины, одиноко стоящей на невысоком холме, откуда все видно далеко вокруг.
– Сбежал тот бычок, что поранил ногу.
– Вроде бы я видела его сегодня утром там, внизу, – говорит она. – Может, зайдешь выпить чаю?
– Нет, я тороплюсь, – отказываюсь я: с годами мама Роза делается все более словоохотливой.
Возле дома старого Дальре я слезаю с лошади, чтобы расспросить его о проклятой твари. Но тщедушный старик ничего не знает, он плохо видит и к тому же вечно занят лишь одним – кроит да шьет.
– А где же мои башмаки? – спрашиваю я, не ожидая в ответ ничего путного: я уже перестал верить ему.
Но он только тупо смотрит на меня сквозь круглые мутные стекла и бормочет что-то о том, что, мол, нужно запастись терпением. Я выхожу из дома и иду к Долли и Платипасу, которые выкорчевывают кусты на небольшой полоске земли. Они показывают в сторону ручейка, сбегающего с горного хребта.
Но и в зарослях на берегу ручья бычка нет. Медленно тянется холодный день, а я все дальше и дальше отъезжаю от Хауд-ден-Бека, следуя по узкой долине между горами и огибая гору Ваальбоксклоф. Руки немеют от поводьев, и тогда я растираю их и согреваю своим дыханием. Ближе к вечеру я добираюсь до Эландсфонтейна, слезаю с лошади и иду прямо к хижинам. Сегодня суббота, и все уже отдыхают.
– Что-то ты сегодня рановато! – кричит мне Абель, сидящий на солнышке с кружкой в руках. – Выпить хочешь?
– Я ищу сбежавшего бычка. Я тут не задержусь. Меня ждет Памела.
– Никогда не позволяй женщине держать тебя на привязи, – говорит Абель.
К нам подходит Клаас, как всегда подозрительно и с любопытством глядит на меня и спрашивает:
– Про бычка ты все выдумал, где твое разрешение?
– А ты кто такой, чтобы спрашивать меня об этом? – отмахиваюсь я от него.
– Не слушай эту старую обезьяну, – насмешливо говорит Абель.
Бычка и тут никто не видал, и я веду лошадь к бочке с водой, чтобы напоить ее перед дорогой. Пора возвращаться, солнце уже садится.
– Добрый вечер, Галант, – слышу я за спиной голос Эстер.
От этого голоса ноги у меня вдруг тяжелеют. Я еще не видел ее после той истории в конюшне, а это воспоминание такого рода, из-за каких мужчины и гибнут.
– Не беспокойся, – говорит она, – Баренд уехал в Лагенфлей.
– Я не встретил его по дороге.
– Он поехал напрямик через горы.
Я дергаю поводья, чтобы поторопить лошадь.
– Мне пора, – бормочу я, не глядя на нее. – Я ищу бычка, но Абель сказал, что он тут не появлялся.
– Ты, наверно, устал, – говорит она. – Давай я покормлю тебя перед дорогой.
– Не стоит.
Но она уже идет к дому, юбка на ходу обвивает ей ноги. Стройное, гибкое тело. Оно всегда было таким. И вдруг, сам не знаю почему, вспоминаю тот случай со змеей. Она умрет, с ужасом думал я тогда, в отчаянии разрывая ее кружевные панталоны, чтобы добраться до двойной отметины змеиных зубов на бедре. Неловкими пальцами открываю маленькую кожаную сумку, которую дала мне мама Роза, и прижимаю к ранке змеиный камень Онтонга – гладкий, круглый черный камень с серым пятном в середке и с крошечными дырочками. Онтонг привез его со своей далекой родины за морем, и никакому яду не устоять против таящейся в нем силы. Крепко держу ее за ногу, прижимаю камень к ранке и отсасываю яд до тех пор, пока ей не становится легче, хотя она по-прежнему бледна и испуганно дрожит. С трудом отвожу глаза от обнаженного бедра. Гладкое, как у выдры, тело возле запруды. Держись подальше, Галант. «Спасибо, Галант, – говорит она. – Я никогда этого не забуду». За что спасибо? Что я такого сделал? Просто прижал к ранке змеиный камень.
Забудь об этом, говорю я себе, следуя за нею по огромной пустоте двора. Откуда-то издалека доносится голос мужчины, который говорит мне: Это самое ужасное, что ты можешь сделать в этом мире.
– Вот тебе мясо, а вот хлеб.
– Спасибо. Мне пора.
– Тут есть еще немного супа. Я сейчас подогрею его.
– Хватит и этого. Я не голоден.
– Нет, подожди, пожалуйста. Зайди в кухню. На дворе уже холодает.
Где-то в передней части дома играют дети, но средняя дверь закрыта и приглушает их голоса, и потому дом кажется странно большим и пустым. У меня перехватывает дыхание. Она так близко от меня. Она помешивает угли, подбрасывает в очаг дров, подвешивает на цепочке черный котелок над огнем. Словно она рабыня, а я – хозяин, дожидающийся ужина.
– Как дела в Хауд-ден-Беке? – спрашивает она, не оборачиваясь.
– Не жалуемся.
– Надеюсь, что Николас больше не…
Я ничего не отвечаю. Она поворачивается ко мне. Несколько прядей волос выбивается из-за ушей и затеняет ей щеку. Глаза открыто глядят на меня.
Голым я был привязан тогда к балке в конюшне, и ее руки обмывали мое тело, не ведая стыда.
– Он делает что хочет, – сердито говорю я, стараясь отогнать от себя воспоминания.
– Но ты не должен позволять ему.
– Кто может не позволить ему что-то?
– Знаешь, еще когда мы были маленькие, мне всегда казалось… – Она замолкает и отбрасывает прядь со щеки. – Нет, наверно, глупо говорить об этом.
– Что тебе казалось? – спрашиваю я, сгущающиеся сумерки придают мне решимости, которой у меня никогда бы не хватило при свете дня.
– Что только ты один всегда понимал меня.
– Почему тебе так казалось?
– Потому что только мы двое, только мы с тобой всегда были среди них чужими.
– Суп подгорает.
Она отворачивается и снова берется за дело. Потом наливает суп в маленький котелок.
– Не слишком ли холодно ехать обратно?
– А что мне еще остается делать?
Некоторое время она молчит. Я доедаю суп, уже поднявшись.
– Да, конечно, – говорит она; голос ее словно мелеет, как мелеет в засуху река. – Пожалуй, тебе и в самом деле ничего другого не остается.
– Спасибо за суп.
– Я принесу тебе выпить на дорогу.
– Не надо, я не хочу.
– Ну, тогда возьмешь с собой.
Она берет с полки кувшинчик и уходит в комнату, чтобы налить в него бренди, а вернувшись, протягивает его мне.
– Спасибо. Теперь мне пора ехать.
– Да.
Я выхожу из дома и невольно останавливаюсь на миг от резкого удара холодного воздуха. Нерешительно оборачиваюсь. Она стоит на пороге, прислонясь головой к дверному косяку. Но ничего не говорит.
В дальней стороне двора вижу чью-то поспешно убегающую прочь тень. Человек спотыкается обо что-то, слышны ругательства. Это Клаас.
Когда я добираюсь до дому, Памела еще возится на кухне, я отдаю ей кувшинчик с бренди и прошу поставить на полку. Поздно ночью мы слышим, как во двор въезжает коляска. Я встаю, чтобы помочь Николасу увести лошадей в конюшню.
– Откуда бренди? – спрашивает он утром.
– Эстер дала мне.
– А что ты делал в Эландсфонтейне?
– Искал сбежавшего бычка.
– Мог бы и сам догадаться, что хромому бычку так далеко не уйти, – раздраженно говорит он. – Держись от Эстер подальше, Галант.
– Она дала мне поесть.
Он пристально глядит на меня, я чувствую, что нам не избежать новой ссоры, но тут он вдруг отворачивается и уходит. Ну и слава богу, думаю я, хоть с этим покончено. Но в то же утро, едва успел растаять последний ночной ледок, на ферму приезжает Баренд, так бешено настегивающий лошадь, что с нее стекает пена. Он что-то возбужденно рассказывает Николасу, стоя возле ворот. Затем направляется ко мне, ведя под уздцы лошадь. Николаса колотит от ярости, лицо у него белое.
– Баренд говорит, что Эстер пожаловалась ему, что ты слишком вольно вел себя с ней вчера вечером. – Голос его прерывается от гнева.
– Эстер пожаловалась? – изумленно спрашиваю я.
– Может, ты хочешь сказать, что я вру? – орет Баренд.
И снова конюшня.
– Галант, не ходи жаловаться, – умоляет Памела, вцепившись мне в ноги. – Сам знаешь, толку от этого никакого.
– Я и не собираюсь жаловаться. Я просто убегу. И они меня больше не увидят.
– Как же ты можешь оставлять меня одну? Ведь скоро у нас родится ребенок.
– Я сыт этой фермой по горло, – отвечаю я. – Все, хватит. Можно терпеть годы и годы. Но потом вдруг понимаешь, что с тебя довольно.
– Это просто безумие, Галант, – рыдает она, но, видя, что я не поддаюсь, зовет Онтонга, чтобы тот меня образумил.
– Время лечит любые раны, – уговаривает меня Онтонг. – Завтра тебе все покажется другим.
– Не бывать этому. Я сыт по горло и фермой, и всем ее дерьмом.
– Не нарывайся на неприятности, – говорит Ахилл, вздыхая и тряся седой головой. – Не то накличешь грозу на всех нас.
– О себе можете заботиться сами! – кричу я. – Я ухожу отсюда. Сегодня ночью. Я дойду до самого Кейптауна, и пусть попробуют поймать меня.
Все они что-то говорят, кричат, грозятся. Памела плачет. Но я слеп, глух и нем. Черные муравьи грызут меня изнутри, заползают в горло, пожирают язык. Я пытаюсь выплюнуть их, но они не желают выплевываться. Сегодня меня не остановит никто. Пусть только кто-нибудь посмеет. Хотя бы и хозяева. Кто угодно. Я ухожу. Сегодня я наконец свободен. Я ухожу в Кейптаун. А там сяду на корабль и поплыву далеко за море, в страну, где нет рабов. Я увижу ее собственными глазами. Я наконец свободен. И пусть эти чертовы муравьи делают что хотят.
Клаас
 Если бы баасу Баренду взбрело в голову сказать в дождливый день: «Чертова засуха!», я бы ответил, не отрываясь от работы: «Да, баас, засуха». А если бы он вдруг посреди ночи заявил: «Солнце спать не дает», я ответил бы, даже не открывая глаз: «Да, не дает, баас». Жизнь учит. В былые дни я пробовал бунтовать. И единственное, что получил, – это избитую спину, а хуже всего был тот день, когда эта женщина вмешалась, чтобы прекратить порку. Порка и без того дело паршивое, достаточно паршивое, даже если вокруг одни мужчины, но, когда пришла эта женщина, все стало еще хуже. Мужчина что камень, ты можешь обойти его и дотронуться до него, он тут, перед тобой. Но женщина – это вода, ты не в силах удержать ее. Вот чего я не мог вынести.
Если бы баасу Баренду взбрело в голову сказать в дождливый день: «Чертова засуха!», я бы ответил, не отрываясь от работы: «Да, баас, засуха». А если бы он вдруг посреди ночи заявил: «Солнце спать не дает», я ответил бы, даже не открывая глаз: «Да, не дает, баас». Жизнь учит. В былые дни я пробовал бунтовать. И единственное, что получил, – это избитую спину, а хуже всего был тот день, когда эта женщина вмешалась, чтобы прекратить порку. Порка и без того дело паршивое, достаточно паршивое, даже если вокруг одни мужчины, но, когда пришла эта женщина, все стало еще хуже. Мужчина что камень, ты можешь обойти его и дотронуться до него, он тут, перед тобой. Но женщина – это вода, ты не в силах удержать ее. Вот чего я не мог вынести.
С тех пор я покорился его воле, и жизнь стала легче. Меня сделали мантором, и даже Абель, который привык приказывать мне, должен был теперь повиноваться. Втершись в доверие к баасу, я мог теперь плевать на всех остальных. Они от этого впадали в такое бешенство, что по временам я боялся, как бы не очнуться в одно прекрасное утро с ножом под лопаткой. Но что оставалось делать? Жить надо.
Я мог бы и не выходить из хижины в тот вечер, когда здесь оказался Галант. Но я знал, что эта женщина одна. У меня и в мыслях не было ничего дурного, пока я следил за ними. Просто я надеялся, что мне, быть может, представится случай. Она встряла в мужские дела в тот день, когда меня пороли – для мужской гордости нет оскорбления тяжелее. А теперь наконец я сумею нанести ответный удар.
– Галант сегодня вечером слишком вольничал с хозяйкой, – сказал я баасу, когда тот вернулся домой. – А хозяйка его даже не остановила.
В некотором смысле теперь и он был у меня в руках. Он уже больше никогда не решится поглядеть мне прямо в глаза. По-прежнему оставаясь его рабом, я обрел над ним странную власть. И все вышло так просто.
Дю Той
 Когда они нуждаются во мне – перед лицом опасности или грозящих неприятностей, – они с готовностью и восторгом приходят ко мне, именуя «филдкорнетом» или «стариной Франсом», но, как только все входит в свои берега, им становится незачем знаться со мной. Матери прячут дочерей, стоит мне объявиться у них на ферме, а мужчины всегда слишком заняты, чтобы предложить мне выпить с ними. Когда поступают новые сообщения о пользовании отгонными пастбищами, налогах или предписаниях по поводу рабов, ланддрост Траппс велит мне объявить об этом фермерам, но те ругают меня за это так, словно я лично несу ответственность за то, какие законы принимает правительство. Для представителей власти я презренный мужлан или, хуже того, мальчик на побегушках, а для буров я любимчик англичан, живое исчадье ада с отметиной самого дьявола на лице. А когда я выхожу из терпения, измученный потребностями моей одинокой плоти, то в своем унижении понимаю, что, должно быть, сам господь отринул меня. Им тогда никакое ругательство не кажется слишком жестоким, чтобы заклеймить меня. Но в тот миг, когда в округе случается что-нибудь непредвиденное, я снова становлюсь филдкорнетом, которого они готовы всячески обхаживать, прося помочь выпутаться из очередных неприятностей.
Когда они нуждаются во мне – перед лицом опасности или грозящих неприятностей, – они с готовностью и восторгом приходят ко мне, именуя «филдкорнетом» или «стариной Франсом», но, как только все входит в свои берега, им становится незачем знаться со мной. Матери прячут дочерей, стоит мне объявиться у них на ферме, а мужчины всегда слишком заняты, чтобы предложить мне выпить с ними. Когда поступают новые сообщения о пользовании отгонными пастбищами, налогах или предписаниях по поводу рабов, ланддрост Траппс велит мне объявить об этом фермерам, но те ругают меня за это так, словно я лично несу ответственность за то, какие законы принимает правительство. Для представителей власти я презренный мужлан или, хуже того, мальчик на побегушках, а для буров я любимчик англичан, живое исчадье ада с отметиной самого дьявола на лице. А когда я выхожу из терпения, измученный потребностями моей одинокой плоти, то в своем унижении понимаю, что, должно быть, сам господь отринул меня. Им тогда никакое ругательство не кажется слишком жестоким, чтобы заклеймить меня. Но в тот миг, когда в округе случается что-нибудь непредвиденное, я снова становлюсь филдкорнетом, которого они готовы всячески обхаживать, прося помочь выпутаться из очередных неприятностей.








