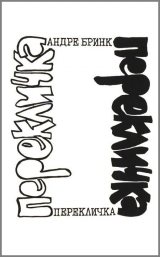
Текст книги "Перекличка"
Автор книги: Андре Бринк
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 31 страниц)
– Это не имеет никакого значения, Сесилия. Мы с ним отлично понимаем друг друга. Мы выросли вместе.
Давно бы следовало упразднить рабство. Терпеть не могу рабов. Они раболепствуют.
А еще эти ужасные сны, в которых я видела черных.
В отцовском доме рабы не слишком беспокоили меня – разве что в тех ночных кошмарах, – может быть, потому, что там я сама была мелкой сошкой. Но в моем собственном доме их присутствие раздражало и выводило из себя. Куда бы ты ни заглянул, куда бы ни пошел, они торчали у тебя за спиной или шли следом, бесшумно ступая босыми ногами и сверкая глазами в полутьме. Они были повсюду, точно тени, точно кошки. Опускали глаза, когда ты подходил к ним, – все, кроме Галанта, – или притворялись, будто чем-то заняты, но едва ты проходил мимо, как снова чувствовал, что их глаза следят за тобой. Невозможно быть хозяйкой в собственном доме, пока они рядом. Покорные и вездесущие, они заправляли всем и вся. Потому что они знали – и я тоже знала, – что без них не обойтись. Они были похожи на что-то мягкое и податливое, что уступает нажатию пальца, но, едва отпустишь, вновь обретает прежнюю форму. Они были как вода. Но не как камень. Это был поток, выбирающий кружные пути, отступающий назад и снова возвращающийся, все размывающий вокруг.
С благословения божия мы строили, возделывали земли и процветали. Живя бок о бок, Николас и я продолжали идти нашими обособленными путями. Я уже почти смирилась с тем, что его отчуждение неизбежно, что это часть нашего совместного существования. Он уходил рано утром, возвращаясь, чтобы позавтракать и немного поспать, а потом снова отправлялся в вельд. Или уезжал в Тульбах – гораздо чаще, по-моему, чем того требовали дела, – поручая Галанту присматривать за фермой. Вдобавок приобрел привычку вечерами после ужина молча подниматься из-за стола и уходить из дому, не возвращаясь порой часами. Но я смирилась и с этим. Я должна позволить ему жить собственной жизнью и не задавать ему никаких вопросов. Однако глубоко под поверхностью нашей жизни уже начался процесс разрушения.
Впервые я поняла это как-то вечером, когда Николас, как обычно, ушел из дому. Я легла спать, но ночь стояла душная, и вскоре мне захотелось пить. Я поднялась с постели и в привычной темноте прошла на кухню к бочонку с водой. Земляной пол приятно холодил босые ступни. Я открыла верхнюю створку двери, чтобы впустить немного воздуха, и долго стояла, глядя в тихую ночь. Ни ветерка. Вдалеке чернела зазубренная линия гор. Спокойная, невозмутимая луна. И тут я увидела Николаса, который шел к дому – но не от калитки, через которую он обычно выходил, когда хотел наведаться в крааль, а через старый вишневый сад, со стороны хижин. В хижинах было темно. Только дверь одной была приоткрыта, в глубине мерцал свет очага. В этой хижине жили Онтонг и Лидия. Но я знала, что Онтонга сейчас там нет. Еще утром он уехал на дальнее пастбище, где шакал утащил ягненка.
Галант
 Все теперь по-другому. Не важно как, но по-другому. Хауд-ден-Бек – это тебе не Лагенфлей. Николасу вовек не быть таким хозяином, как старый баас.
Все теперь по-другому. Не важно как, но по-другому. Хауд-ден-Бек – это тебе не Лагенфлей. Николасу вовек не быть таким хозяином, как старый баас.
– Галант, Николас женится на Сесилии из Бюффелсхука. Ему понадобится пара умелых рук, чтобы пустить дело в Хауд-ден-Беке. Ты будешь моим свадебным подарком Николасу. Теперь ты его раб.
Онтонг едет с нами, должно быть, одолженный на время, взаймы, но в конце концов остается. Потом приезжает и Ахилл: за это, объясняют мне, старый хозяин в течение семи лет будет получать часть урожая. В Лагенфлее Онтонг с Ахиллом присматривали за мной, а тут, в Хауд-ден-Беке, меня делают мантором, надсмотрщиком над ними. Но не в этом суть.
– Ты должен с уважением обращаться с человеком, который куда старше тебя, – предупреждает мама Роза. – Особенно если этот человек может быть твоим отцом. А если ослушаешься, напущу на тебя лунатиков, чтобы они высосали из тебя все соки. Слышишь меня?
– Слышу, мама Роза. Но не знаю, как сложатся дела с Николасом.
– Ты отправляешься с ним в Хауд-ден-Бек, вот и все. Не твое дело задавать вопросы.
Внимательно наблюдаю и уже в день свадьбы понимаю, что Николасу не совладать с женой. Вижу там и Эстер, замкнувшуюся в себе, стоящую в стороне от остальных, готовую зарычать на каждого, даже на меня; когда попадаюсь ей на пути, она торопливо выходит из кухни под дождь, словно это я виноват в том, что теперь ее навсегда лишили Хауд-ден-Бека и отцовской могилы. Кроме того, похоже, в ее глазах я теперь всего лишь раб. Это заставляет меня вновь задуматься о Николасе.
Вскоре после свадьбы мы с Николасом отправляемся вверх по склону горы, что поднимается прямо от болота сразу за домом, уступ за уступом, один красный, другой серый. Отсюда сверху видно далеко вокруг. Глубоко внизу болото, которое от непрерывных дождей разбухло и превратилось в озеро, так широко растекшееся среди холмов, что, подъезжая от Лагенфлея, приходится делать огромный крюк, чтобы попасть на ферму. Недавно побеленный, кричаще белый длинный дом с соломенной крышей высится посреди голого двора, чуть ниже раскинулись сады и огороды, а полосы пшеничных полей простираются аж туда, где вдалеке темнеют первые скалистые гряды гор Скурве, тех, что напротив нас. Необычные это горы. Вниз на закат они тянутся от Рие-Витценберха мимо Эландсфонтейна до поворота на Вагендрифт, там пропадают, но только для того, чтобы снова объявиться напротив Хауд-ден-Бека, словно река, русло которой то и дело уходит под землю. Там, где встает солнце, вельд огибает болото и горы и идет к Лагенфлею. И куда ни глянь, все это называется Хауд-ден-Бек.
– Я уже больше не под отцом, Галант, – говорит Николас, оглядывая то, что отныне принадлежит ему. – Теперь я женатый человек, и нам с тобой нужно превратить вот это место в настоящую ферму. Это вовсе не то, к чему я стремился, но на все воля божья.
– К чему говорить о нас с тобой? Ферма-то твоя.
– Ты – моя правая рука, Галант. Без тебя мне тут не справиться.
Он кивает на дальнюю сторону тесной долины, туда, где из земли выступают каменистые подножия холмов.
– Ты можешь обработать там поле, посадишь тыквы, бобы, овощи, если хочешь, сей пшеницу, я дам тебе семян и навоза сколько надо. Работай хорошенько, и я буду давать тебе каждый год телку и двух ягнят.
– Из тебя выйдет хороший фермер, – отвечаю, не глядя на него.
Не собираюсь говорить этого, а почему-то говорю. Должно быть, потому, что по его тону понимаю – теперь все по-другому. Мы уже не мальчики. Все по-другому. Теперь на мне упряжь, теперь есть вожжи. Их могут натянуть посильнее, могут чуть ослабить, но мне от них уже никогда не избавиться.
– И это все? Больше тебе сказать нечего? – В его голосе слышится разочарование.
Ничего не отвечаю на это. Откуда мне знать, что именно ему хочется услышать? Тут его ферма, я его раб. Мы молча спускаемся по крутому склону, вместе и порознь. Снова моросит дождь, а в дождь мне легче схоронить свои мысли.
В доме тоже каждый живет как бы сам по себе, хотя и все вместе. Те первые недели, пока льют дожди, мы спим на кухне, старые хижины еще не починены. Мы спим на полу возле очага, Онтонг и я, а между нами Лидия из Бюффелсхука. Хорошая женщина, щедрое тело, но не все в порядке с головой. Вдруг ни с того ни с сего начинает бегать кругами, будто цыпленок, укушенный осой; тогда ее приходится утихомиривать и силком приводить обратно: на губах пена, глаза закатываются, и видно одни белки. И вечно она – когда не работает, а то и когда работает – собирает всякий хлам (перья, веточки и листья), которым набивает матрас. А все из-за удара по голове, когда она была еще ребенком, говорит Онтонг. Но мама Роза думает иначе – Лидия, должно быть, попала на восходе солнца под чью-то тень, а это, как все говорят, поселяет в человеке темноту, и только очень редкостное снадобье, втираемое в надрезанную кожу, могло бы тут помочь. Онтонг – малаец, но даже он не в силах излечить эту женщину: Лидия остается такой, как была.
Мужчине не дело спать с такой вот женщиной, но, если она единственная в округе, приходится мириться, а в темноте это не так уж трудно. Она со странностями, конечно, но лучше такая, чем никакой. И вот Онтонг и я по очереди спим с ней. Но потом ее выходки надоедают мне.
– Бери ее себе, Онтонг, – говорю. – Ты терпеливее.
Лишь только кончаются дожди, Николас вызывает меня на грязный двор.
– Хозяйке не нравится, что вас так много в доме. Наруби деревьев в долине и строй себе хижину. А на болоте есть глина и тростник. И Онтонг тоже пусть строит себе хижину.
– Хижину для меня одного?
– Тебе же надо где-то жить.
Потому я и говорю, что Хауд-ден-Бек совсем особое место. Всю свою жизнь я жил вместе с другими. А теперь мне разрешают строить хижину для себя одного, подобно птице, вьющей гнездо в первые теплые дни после суровой зимы. Гнезда, нависшие над запрудой… Нет, нечего впутывать сюда запруду. Ее времена миновали.
Рубить ветви и таскать охапки камыша и тростника – дело нелегкое, но по вечерам, управившись с работой в доме, Лидия помогает обмазывать тростник глиной. К первой уборке бобов хижины готовы, моя довольно далеко от той, которую будут делить Онтонг и Лидия. Поглядите-ка на меня – хозяин собственной хижины, земляной пол в ней ровный и твердый, посреди хижины разостлана каросса, у стены в глубине сундук, в нем все мои вещи из Лагенфлея. Вполне хороша, чтобы поселить в ней даже маму Розу: я вижу, что она все больше склоняется к тому, чтобы последовать за мной в Хауд-ден-Бек. Но когда она наконец решается покинуть Лагенфлей, то перебирается в собственную хижину, особняком стоящую в получасе ходьбы от нас.
– Не хочу быть привязанной к дому другого человека, Галант, – говорит она, когда я в первые морозы достраиваю ей хижину. – Ни у кого не хочу просить милостыни. Я свободна.
– Молния ударит в тебя тут на холме, – остерегаю я. – Место уж слишком открытое.
– Не боюсь я никакой молнии.
И я знаю почему. Мне не раз доводилось видеть ее во время грозы: когда молнии неистовствуют и вспыхивают, по ее мнению, слишком близко, она выходит под дождь, поворачивается спиной к грозе, наклоняется и задирает свою кароссу. Ничто не может так устрашить Птицу-Молнию, как голый зад мамы Розы.
И в конце концов я перестаю сетовать на ее независимость. Потому что в эту пору на ферме появляется Бет, молодая женщина с далекой восточной границы, и она мне по нраву. Покладистая женщина эта Бет. Трудная, если заупрямится, но не жадная на свое тело, уживчивая и легкая. Обычно, когда у нас в округе появляется новая женщина, мы все идем к ней, как лошади к кормушке, ведь женское лоно редкость в наших краях, а мужчине нужна его влага. И вот, едва Бет поселилась у нас, еще до наступления нового полнолуния, я спрашиваю у нее:
– Что скажешь, Бет? Погляди на эту хижину, она моя. Будешь жить в ней?
Подобно птице, она внимательно осматривает гнездо, выщипывает там и сям по клочку соломы, заглядывает внутрь, приказывает перевесить дверь в сторону восхода, как то принято у койкойнов, велит изменить то да ее и остается довольна.
Я иду к Николасу и говорю ему:
– Я взял себе женщину и буду с ней жить. Это Бет.
И он великодушно дарит двух ягнят, чтобы мы устроили праздник.
Работа, конечно, идет своим чередом, ведь ферма сильно запущена, а рабочих рук не хватает. Время от времени Николас нанимает готтентотов, которым случается проходить мимо, или же Франс дю Той и другие соседи-фермеры дают взаймы своих работников, но постоянных рабочих рук не хватает: я, Онтонг, а потом еще Ахилл, вот и все. Поначалу мы все делаем вместе. Но потом каждый выбирает работу себе по душе. Мне поручают лошадей. Николас не любит лошадей, как не любит и собак. Он их побаивается, и они тоже с ним настороже. А я лошадник. Я готов без конца чистить и кормить их. Конечно, я мантор и должен присматривать за всем, что делается на ферме, но лошади – моя первая забота. И еще постройки. Николас решил понастроить стен по всей ферме. Краали, конюшни, хлева. Каменную стену вокруг двора и курятника. Ограду вокруг маленького кладбища с могилой отца Эстер. Еще одна стена перегородит плотиной восточную сторону болота. Он хочет прорыть новые канавы, чтобы подвести воду к бобовым и пшеничным полям, к садам и небольшой плантации табака. Копаю, устилаю камнем и затем обмазываю глиной. За все это отвечаю тоже я. Онтонг выделывает шкуры и режет ремни, работает в кузнице на заднем дворе, чинит плуги, колеса и телеги, а если надо, хотя такое случается нечасто, умеет изготовить столы, стулья и сундуки, как никто другой. Когда в Хауд-ден-Бек перебирается Ахилл, ему поручают овец, коз и небольшое стадо коров и быков.
Такова наша постоянная работа, каждому по его склонности. Но есть и другая, которую мы делаем все вместе, – сезонная работа. В Хауд-ден-Беке сажают и сеют всего понемногу, и нам приходится потрудиться. Нужно расчистить и заново вспахать заросшие сорняками, запущенные поля. Пшеница и ячмень посеяны в нижней части долины. А это значит, что нужно подготовить гумно, выровнять землю, разбросать на ней навоз и утрамбовать его. Ближе к дому бобовые поля и сады – старый вишневый сад, молодые персиковые деревья, посаженные перед домом, абрикосовые деревья и яблони.
На дальней стороне болота, влево, там, где начинаются горы, Николас пробует растить виноград. Но из этого ничего не выходит. В Лагенфлее старый баас каждый год собирает достаточно винограда, чтобы получилось несколько бочонков бренди, а здесь, в Хауд-ден-Беке, бренди приходится покупать в Тульбахе или в Кейпе, бочонки стоят в сарае, ключ от которого всегда при мне.
Как и в детстве, работа зависит от времени года. Когда после сбора бобов улетают ласточки и Ахилл угоняет овец на зимние пастбища Кару, мы, оставшиеся на ферме, в любую погоду, в мороз и снегопад, выкорчевываем кустарник, сжигаем сухую траву и готовим землю для пахоты. К тому времени, когда возвращаются ласточки и Ахилл, земля уже готова для сева. А потом мотыжим, пропалываем и орошаем ее до середины лета, когда пшеница начинает желтеть и пора жать ее, навивать стога, молотить зерно и убирать его в амбар. А едва покончишь с пшеницей, пора собирать бобы и фрукты, сушить их, не теряя времени – ведь дни становятся все короче и к вечеру все холоднее. И пока не ударил первый мороз, нужно успеть собрать в горах бушевый чай, а тут уже время выделывать шкуры, охотиться и забивать скот на зиму, а потом нагружать фургон продуктами, которые Николас отвезет на продажу в Кейптаун. Все те же дела, что и в Лагенфлее, каждый раз от начала и до конца, как день от восхода и до заката, а затем все сызнова.
Я поставлен главным над всеми остальными, а Николас главный и надо мной. Но я все же никак не могу понять, кто он теперь для меня и кто я для него. Правая рука или раб? Мы уже не дети. Теперь он всегда ходит в башмаках, а я, как и прежде, хожу босиком. Так что же значат на самом деле его слова: без тебя мне тут не справиться? Я пробую проверить это как-то в полдень во время поздних заморозков, нарочно сломав плуг. Неподходящий день для пахоты: моросит дождь, северо-западный ветер пронизывает до костей, но Николас приказывает пахать. Сегодня мы все выясним, думаю я. Устроить это нетрудно – плуг сломается, напоровшись на торчащий из земли камень. К закату работа так и не закончена, и тут на поле спускается Николас.
– Что у тебя случилось?
– Плуг сломался.
– А почему ты не поднялся ко мне и не доложил?
– Хотел сам починить его.
– Отчего он сломался?
– Я сломал его. Я же говорил тебе, что сегодня неподходящий день для пахоты.
Он усмехается, но как-то неуверенно. Изучающе поглядывает на меня, я смотрю ему прямо в глаза, и он отворачивается.
– Ну что ж, – говорит наконец, – такое может приключиться с кем угодно.
– Я ударил его о камень.
– Беда с этими камнями, их никогда не углядишь вовремя.
Он, понимаю, знает, что все это не так. Но хочет верить в то, во что верит. Хочет избежать того, что на самом-то деле уже случилось, увильнуть от открытого столкновения со мной. Что он станет делать в Хауд-ден-Беке без меня? Но что стану делать я, если он откажется помочь мне понять, кто я для него?
Насвистывая, иду по неровно вспаханной земле обратно к хижине, к Бет. Но понимаю, что вопрос не решен. Лошадка не укрощена. Ее поставили на колени, но ненадолго. Николас еще не решается оседлать ее и скакать на ней, как ему вздумается. Но это все равно случится рано или поздно. Мы не сможем вечно уклоняться от этого.
А работа идет своим чередом, день за днем. Несмотря на усталость или болезни: когда ломит спину, болят зубы, мучает кашель или понос; мама Роза даст тебе лекарство, и работа продолжается. И подобно выдохшейся кляче на гумне, ты идешь круг за кругом и зимою и летом.
Конечно, бывают и праздники. Когда Николас уезжает в Кейптаун, а его жена отправляется навестить больного отца, мы остаемся на ферме за хозяев. По вечерам на лошадях отовсюду съезжаются гости, Абель и другие рабы с ближних ферм, звучит музыка, и все пляшут, скачут и красуются друг перед другом. Никто не играет на скрипке лучше Абеля, никому не сравняться с ним, когда он кружится в танце. А если устанешь, есть бренди, украденное на окрестных фермах, а кончится бренди, есть еще медовуха старого Ахилла, которая ударяет тебя посильнее любого жеребца. Ее нужно выдерживать целый год, но зато это настоящая огненная вода. В глиняный горшок кладется дюжина, а то и больше яиц, сверху наливают уксус и лимонный сок, если есть лимоны, а когда растворятся даже скорлупки, туда добавляют много меда и бренди и еще какие-то таинственные травы мамы Розы, чтобы придать ей совершенно особый вкус; выдержав несколько месяцев в темном углу хижины, ее разливают в тыквы-горлянки и запечатывают глиной до будущей зимы. Медовуха старого Ахилла – это огненная кровь наших диких празднеств. Танцы, выпивка, шутки и перепалки с вечера и до рассвета. Частые стычки из-за немногих женщин в нашей многочисленной мужской компании. Из-за Бет тоже. Теперь, когда она живет со мной, я не позволяю никому прикоснуться к ней. Как-то ночью старый Адонис из Бюффелсхука отправляется домой, получив от меня удар топором по голове. Этот теперь уже никогда не будет приставать к Бет. Задаю трепку и самой Бет, просто чтобы знать наверняка, что она не станет заигрывать с другими мужчинами, а после валю ее на пол и объезжаю так, что ей этого никогда не забыть. А вокруг продолжается веселье, наполняя ночь криками и музыкой.
Но когда ночь содрогается в последних конвульсиях, когда угли в очаге из красных становятся серыми, когда шакалы притворяются духами мертвецов, когда бабуины кричат на утесах и женщины-лунатики прокрадываются в хижины к спящим мужчинам, когда веселье на дворе начинает мало-помалу стихать, я ускользаю от всех, вывожу из конюшни Николасова жеребца и скачу куда глаза глядят, в темноту, в никуда и куда угодно. Кажется, будто смерть наступает тебе на пятки и вот-вот выследит и схватит тебя. Есть в такой ночи одиночество, какого я не знавал до сих пор. Вдалеке слышно, как Абель и все остальные гости разъезжаются по домам, на фермы своих хозяев, где вскоре им придется вставать под удары колокола, едва успев прилечь. Так коротко наше веселье, а затем на вырвавшуюся на волю лошадь снова надевают упряжь.
Спрыгиваю с Николасова жеребца, поднимаю камень с земли и запускаю им в другой, высекая в темноте искры. Подхожу к одной из стен, которые мы тут понастроили, и принимаюсь разбирать ее, хватаю камень за камнем и швыряю в ночь, как голыши в запруду, хотя на этот раз тут нет никакой воды и, стало быть, нет никаких кругов. Швыряя камни, крепко зажмуриваюсь, пытаясь разбить образ детей с гладкими телами, купающихся в той темной запруде. Ты сегодня не пойдешь с нами, Галант. Тебе нельзя смотреть на Эстер. Ты раб.
Но ничего не могу добиться.
Тяжело дыша и дрожа от усталости, снова сажусь на лошадь и еду к хижине мамы Розы. Она не рассердится, даже если ее разбудишь среди ночи.
– Зачем, – спрашивает, – так терзать себе душу?
– Опостылел сам себе, мама Роза.
– А чего ты ждешь от меня?
Откуда мне знать? Может, стало бы легче, если бы я снова превратился в ребенка, заполз бы под кароссу и подчинился ее ласкающим рукам, гладящим и гладящим меня, пока я не усну. Но разве теперь это поможет?
Она заваривает бушевый чай над дымным очагом, в котором медленно тлеют дрова. Глаза у нее слезятся. Она уже старая, как горы.
– Расскажи мне какую-нибудь историю, мама Роза.
– Ты что, рехнулся? Ты же теперь взрослый. Прошло время рассказывать тебе истории.
– Расскажи мне о Великом Охотнике Хейтси-Эйбибе. О Водяной Женщине. Расскажи о Птице-Молнии, что кладет свои яйца в землю.
Я возвращаюсь к хижине, построенной моими руками, и к женщине, принадлежащей мне.
Она стонет, просыпаясь, садится и трет глаза. Теплый запах женщины.
– Где ты был всю ночь, Галант?
– Ездил на лошади.
– Кто крепок ночью, тот днем слаб, – поддразнивает она низким со сна голосом. – Иди ко мне.
Это помогает. И она это знает. Знает нужды моего тела. И присматривает за мной и ночью и днем. Она теперь стряпает в доме Николаса и потихоньку таскает для меня мясо и всякую другую снедь. «Ешь, – говорит она. – Тебе нужно есть мясо». Приносит и другие лакомства – слухи и новости, все, что услышит в доме. Еще один раб сбежал от Баренда, такое случается часто, у Николасова брата тяжелая рука. И всякие другие вести. Какой-нибудь хозяин уезжает на неделю или на месяц, и будет где устроить пиршество. И всегда держит ухо востро в те дни, когда привозят газеты. Новый закон о рабах, рассказывает она. Теперь мужа и жену нельзя продавать раздельно. Еще одно собрание в Кейпе. Хотят, чтобы дети рабов считались свободными от рождения. Но правительство против этого. В газетах всегда какие-то новости, и в основном о рабах.
– Ты уверена, что это правда? – с жадным волнением спрашиваю ее. – Уверена, что не ослышалась?
– Конечно, уверена. Я же сама читала.
– Ты умеешь читать? – удивляюсь я.
– Меня научили в Бреинтуисхохте, где я жила раньше.
– Тогда принеси сюда газету и покажи мне.
– Они не выпускают газету из рук. Ты сам знаешь.
– Ты все время в доме. Тебе нетрудно. А потом положишь ее на место.
– Я и так уже рассказала все, что в ней говорится.
– Почему ты увиливаешь?
– Я не увиливаю. Просто говорю.
– Бет, ты у меня дождешься.
Но даже колотить ее бессмысленно, она упряма. Придется добыть газету самому. В полдень я вижу, как Бет выходит из дому. Николас далеко на пастбище, а хозяйка в огороде. Я прячусь за персиковыми деревцами возле парадной двери с охапкой хвороста, чтобы было чем оправдаться, если меня заметят. А когда убеждаюсь, что никого поблизости нет, проскальзываю в дом. Газеты в сундуке, это я знаю от Бет.
Настороженно прислушавшись, не заскрипит ли задняя дверь, сую газету в охапку хвороста, поспешно выхожу и ныряю за деревья.
– Вот она, – говорю я, входя в хижину. – Должно быть, та самая. Она лежала сверху.
– Галант, нам не поздоровится.
– Читай. – Я сую ей газету под нос. – Читай мне. Я хочу услышать.
– Я все и так рассказала.
– Женщина, читай.
– Тут о правительстве.
– Покажи значок правительства. Я хочу увидеть своими глазами.
– Вот.
Она прижимает палец к цепочке следов в середке газеты. Я внимательно изучаю эту цепочку.
– А о чем говорится вот тут?
– Тут о собрании. То, что они говорили.
Я вырываю газету и мну ее.
– Не надо! – кричит она. – Баас будет…
– Его звать Николасом.
– Но он наш баас.
Я отталкиваю ее и сую ей смятую газету.
– Покажи мне еще раз значок правительства.
– Я же показывала.
– Покажи снова.
Я вижу, что она боится. Поколебавшись, она снова прижимает палец к маленькой цепочке знаков.
– Это не те значки, что ты показала в первый раз! – кричу я.
Она трясется от страха и пытается выкрутиться.
– У правительства есть несколько значков.
– Ты лжешь, Бет. Ты не умеешь читать, умеешь ничуть не больше, чем я.
– Я просто хотела, как лучше для тебя, Галант. Ну пожалуйста…
– Ты обманула меня. Этого я не прощаю никому.
Я замахиваюсь топором, которым обычно колю дрова.
– Нет, Галант, не надо!
– Бет! – зовет из кухни хозяйка. – Где ты там?
Я отпускаю ее. А сам остаюсь в хижине, пока не слышу, как через ворота проскакала лошадь; тогда выхожу, держа газету в руках.
– Я хочу знать, что тут говорится о рабах, – говорю я Николасу, когда он слезает с лошади.
Он удивленно забирает у меня газету.
– Зачем ты берешь вещи, в которых ничего не понимаешь?
У меня все плывет перед глазами, но я сдерживаюсь.
– Николас, я хочу знать, что тут говорится.
Он смеется, в смущении удерживая лошадь между собой и мной.
– Там говорится о всяком, – говорит он, ухмыляясь. – В том числе и о белой курице, которая в заморской стране высидела на яйцах черную кошку.
Я крепко сжимаю поводья, суставы пальцев белеют.
– А теперь распряги лошадь и почисти ее, – говорит он. – Солнце уже садится.
Я знаю, что не могу тронуть его пальцем. И он тоже это знает. В том-то и разница между нами. Я смотрю ему вслед, пока он идет к дому. Мне остается только одно: как следует объездить сегодня ночью Бет.
Я делаю это, и вот теперь она ждет ребенка.
И это тоже то новое, что вызывает во мне возмущение. Что я буду делать с ребенком? Что из него получится? Каждого жеребенка, рожденного здесь, укротят, я не хочу этого для своего сына.
– Я не хочу его, мама Роза, – обрушиваюсь я на старуху. – Тут не место для ребенка.
– Но он не будет рабом, – напоминает мне она. – Он ребенок Бет, а она свободная женщина, она из койкойнов, как и я.
По телу у меня пробегает дрожь, как от глотка медовухи старого Ахилла. Страшная молния. Я готов и плакать и смеяться. Я скачу домой на лошади Николаса, глядя на звезды. Этот ребенок будет ходить, куда захочет. Он сможет дойти до самого Кейптауна. Вот я тут, я скачу в темноте, но мой сын ускачет навстречу солнцу. У меня никогда не было ничего, кроме упряжи сегодняшнего дня. Но дорога этого ребенка пройдет до самого рассвета.
От этой мысли у меня кружится голова, и, когда лошадь спотыкается, я теряю равновесие и лечу на землю, расцарапав локти и колени. Я готов чертыхаться, но смеюсь. Пусть ваши чертовы белые курицы, думаю я, выводят сколько угодно ваших чертовых черных кошек. Что мне до этого? Привязывайте меня на веревку, как скотину, держите меня на самом коротком поводке. Но мой сын умчится навстречу солнечному восходу.
Эстер
 Баренда никто не заставлял селиться на этой ферме. Он старший, и у него было право выбирать. А Хауд-ден-Бек куда лучше, Много воды, пшеничные поля на равнинах, пастбища в вельде, почва каменистая, но глубокая и тучная. Ферма стоит на открытом месте, даже кладбище ничем не защищено. Но чтобы держать меня подальше от могилы отца и от дома, в котором я родилась, он предпочел взять себе Эландсфонтейн, ферму, упрятанную в тесной долине между двумя крутыми хребтами гор, далеких и суровых. Чтобы заточить меня тут и безраздельно владеть мной.
Баренда никто не заставлял селиться на этой ферме. Он старший, и у него было право выбирать. А Хауд-ден-Бек куда лучше, Много воды, пшеничные поля на равнинах, пастбища в вельде, почва каменистая, но глубокая и тучная. Ферма стоит на открытом месте, даже кладбище ничем не защищено. Но чтобы держать меня подальше от могилы отца и от дома, в котором я родилась, он предпочел взять себе Эландсфонтейн, ферму, упрятанную в тесной долине между двумя крутыми хребтами гор, далеких и суровых. Чтобы заточить меня тут и безраздельно владеть мной.
Еженощная звериная схватка, когда он жадно хватал и брал меня, стремясь усмирить, укротить, словно кобылицу, а я яростно сопротивлялась, понимая, что, так или иначе, он куда более уязвим, нежели я. Одно лишь унижение было в его триумфе, когда, обессиленный и жалкий, он оставлял меня, разодрав и истоптав только мое тело. То была настоящая борьба – сохранить неприкосновенными собственные желания и мечты. Тело должно выжить. Мы обречены на зависимость от его пределов и побуждений. Но тело – всего лишь движимое имущество вроде домашней скотины, а ведь есть еще земля и текучее упорство воды. Ими он овладеть не мог, только я сама, хотя и заточенная в собственном теле, имела доступ к ним.
Наши дети были итогом этой нескончаемой войны. Я не хотела их. Но, даже родив двух мальчиков, я странным образом обрела еще большую неуязвимость. Точно они были и не мои; даже выношенные и рожденные мною, они сумели утвердить мою независимость от него. Поначалу я казалась бесплодной. Во мне, вероятно, была некая горечь, которая отравляла и убивала его семя, – и я радовалась этому. Я боялась, что дети могут укрепить его власть надо мной, и каждый месяц я как бы заново утверждала свою беспощадную девственность, которая не имела ничего общего с той испачканной простыней, которую он вывесил из окна, чтобы на нее могли полюбоваться ласточки и горные орлы. Мое бесплодие было демонстративным и гордым. Я расцветала под испуганными взглядами его матери, внимая раздраженному шепоту того человека, моего свекра: «Я же говорил тебе, Баренд, чтобы ты женился на большой, крепкой женщине. Что же будет с нами, что будет с Ван дер Мерве?»
Почувствовав себя беременной, я оцепенела от отвращения. Я отказывалась смириться с этим. Должно быть, я просто больна, это просто какая-то странная опухоль. Все во мне противилось мысли о ребенке. Я ничего не скажу ему, даже если он что-то и заподозрит. Не знаю, что он заметил, но он стал смотреть на меня не с прежней похотью и яростью, а с каким-то благоговением. Даже выказывал признаки нежности. И эта нежность бесила меня. Теперь он слишком напоминал мне Николаса. От насилия я могла защититься, нежность куда коварнее. Оставшись одна, я изо всех сил надавливала на живот руками, пытаясь изгнать из тела растущую в нем плоть, это враждебное присутствие во мне чего-то чужого, изнутри угрожавшего моему одиночеству. А потом первое робкое движение, легкое, как помаргивание века, шевеление маленькой ручки или ножки. И что-то во мне переменилось. Я еще продолжала бороться так, словно на чашу весов была брошена моя последняя свобода, но уже знала, что проиграла. Ребенок был во мне, и я желала его. С тех самых пор, как я осталась одна после смерти отца, я ничего не желала столь страстно. Когда я потеряла его – так глупо и бессмысленно, – мне хотелось умереть. Я понимала, почему потеряла его – потому что слишком его желала, такое случалось со мной и прежде. Но на этот раз мне было особенно тяжело. Ноющая пустота внутри не возвращала меня к моему нормальному состоянию, а лишь говорила о моей потере. Утратить то, чего еще не имел, – это оказалось страданием куда более мучительным, чем просто физическая боль. То была смерть возможного, внезапное сужение горизонта, уточненная и потому более отчетливая ограниченность тела. Размытая земля, высохший подземный источник.
Когда я больная лежала в постели, в комнату вошел Баренд. Что-то всколыхнулось у меня в душе, мне хотелось, чтобы он подошел и обнял меня. Хотелось сказать ему, как мне жаль. Но, увидав суровую злобу в его взгляде, поняла, что он винит и ненавидит меня за случившееся. Я не произнесла ни звука, и он ушел. Мне кажется, в тот раз мы упустили последнюю возможность приблизиться друг к другу. Беременность сделала меня менее защищенной. Теперь следует быть еще более осторожной, чтобы меня не захватили врасплох.








