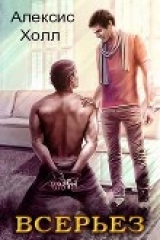
Текст книги "Всерьез"
Автор книги: Алексис Холл
Жанры:
Эротика и секс
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 24 страниц)
И все, что ему осталось, это жить. Пока не перестанет.
И есть мои пирожные.
Он слабый в последнее время, очень слабый. Но, кажется, еще ничего. Иногда ему грустно и больно, но все равно ничего. В хосписе следят, чтобы большинство его дней были хорошими. И мне кажется, память у него уже… Не знаю. Он все еще в трезвом уме, все еще мой дед, но как будто потихоньку начинает терять время. Плохо помнит недавние события. Что, пожалуй, и к лучшему – не придется объяснять ему про универ и все с ним связанное.
И последнее, что он вспомнит обо мне, будет не то, как я его подвел.
Но уж про своего парня-то я ему точно расскажу. Такое он запомнит, знаю.
Я ему первому признался, что гей. То есть он не первый человек, который об этом узнал – мама, по-моему, всегда знала – но первый, которому мне было важно сказать. Меня случайно раскрыли в школе после всей этой петрушки с лучшим другом, и некоторые пацаны стали вести себя как говнюки, некоторые – нет, а некоторые говнились, но совсем по другим причинам, потому что – давайте уж честно – школа – это такой узаконенный генератор говнюков. Стэнфордский тюремный эксперимент.
Я как считаю: если тебя воротит, прям вот по чесноку воротит, что я западаю на парней, а не на девчонок, значит, друзьями нам все равно не быть. Иди на хер.
Но совсем другое дело, когда ты кого-то любишь, и их любовь – это лучшее, что у тебя есть.
И потом, дед же из совсем другого поколения. Ну, то есть годах в двадцатых детишек в принципе растили расистами, сексистами, гомофобами и все такое прочее. Сейчас, конечно, тоже растят, но общество хотя бы где-то внушает, что это плохо. И если кто-то ни с того ни с сего начнет вести себя со мной по-гомофобски, он, по крайней мере, смутится и потом выдаст целую речь – что на самом-то деле совсем не гомофоб потому-то и потому. Но вот моя прабабушка честно звала черных людей словом, которое белым сейчас вообще запрещено произносить. И она не считала себя расисткой. Просто реально думала, что черные так и называются. Нда. Неловко.
Хорошо, наверное, что она уже умерла. Шучу. В смысле, она и правда умерла, но я тогда еще пешком под стол ходил, поэтому это не стало каким-то страшным событием. Для меня, в смысле. Для нее-то, наверняка, стало. И для деда. Хотя они друг друга вроде и не слишком-то любили, так что кто знает? Взрослые отношения для меня – тайна за семью печатями. То есть, я не знаю, когда случается переход от любви и потрахушек к разговорам ни о чем и постоянному легкому раздражению друг на друга. И никто при этом ни разу не вспомнит, что ты с этим человеком, по правде говоря, до гробовой доски быть не обязан. Хотя у меня, конечно, выборка маловата. В семье Финчей мужчины не задерживаются. Это типа нашего семейного проклятия такого, и я пипец как надеюсь, что мне оно не передалось или что для геев не считается, поскольку теперь, когда у меня есть свой мужчина, я его хочу удержать, уж будьте уверены.
Короче, когда бабуля приказала долго жить, дед опять стал ходить на танцы.
Так раньше находили партнеров для секса, и он по этой части был ого-го, но потом случилась война, а после нее дед женился со всеми вытекающими, так что для него внезапное возвращение танцев стало таким невероятно желанным подарком. Как будто он вновь обрел что-то, утерянное много лет назад. Дед и меня стал учить. С большим терпением, потому что я товарищ неуклюжий. Он не сообщил прямым текстом, что это для секса (но я вам говорю – намек присутствовал). По его словам, так джентльмен завоевывает сердце леди. Жизненно важное умение.
Вот тут-то я ему и сказал. Точнее, спросил:
– А если джентльмен хочет завоевать сердце другого джентльмена, сработает?
Он помолчал.
А мое собственное сердце в это время заходилось – тудух-тудух-тудух. Под ритм «мать-мать-мать».
И тут дед ответил: «Обязательно».
Так что после этого я стал попрыгунчиком-балерунчиком. Все шаги-фигуры как Отче наш. Самый любимый танец у меня – квикстеп. Он такой классный, легкий и элегантный, словно вы с партнером оба летаете.
Вот было бы здорово станцевать с Лори. Что угодно, но лучше всего квикстеп.
Когда я заканчиваю уборку на кухне и мы закрываемся, я складываю пирожные в коробку и выдвигаюсь к Сент-Энтони. Пилить мне аж в глубину северного Лондона, но серьезно – это ж дед. Тут считать километры и пересадки – последнее дело. Я к нему езжу примерно через день. Вот еще один большой плюс хосписов – это вам не больница, где терпеть не могут, когда ты заявляешься с визитом и начинаешь мешаться под ногами, и в палату пускают только, там, на две минуты шестнадцать секунд, когда Меркурий во втором доме и тому подобное. А в хосписе тебе всегда рады. Там вечно собирается куча народу. И можно даже остаться на ночь, если хочешь, или если нужно, или если тебе страшно.
Это больше всего походит на настоящую семью в моем представлении.
Сидя в пустеющем и темнеющем вагоне метро, я вдруг понимаю, что если б тогда не облажался по полной, то, может, вообще не смог бы вот так кататься. Вот честно, у меня в голове полно тараканов из-за универа – и черной дыры, в которую сам же превратил свое будущее – но, может, я тем самым подарил себе последние дни с дедом.
Когда я добираюсь до хосписа, на улице уже стемнело, но нестрашно – внутри-то горит свет. И слышится музыка и разговоры. Все знают, как меня зовут. Не только персонал, но и волонтеры, и другие семьи. Я даже скучаю по некоторым людям, которые сюда раньше ходили, и это, наверное, странно, но здесь быстро сближаешься. И никому не рассказываешь, если вы вдруг наткнулись друг на друга, оба в слезах.
Вскоре я раздаю почти все пирожные и отношу остаток деду, который сегодня не выходил из комнаты.
В последнее время он часто не выходит.
Не самый лучший его день, но ничего.
Ничего.
Медсестры помогли мне обустроить его комнату. Чтобы она не выглядела, ну, временным пристанищем, понимаете, да? На подоконнике всегда стоят цветы. И кругом фотографии и его любимые вещи – всякая мелочевка, которая всегда с ним, но я мало что знаю и о ней, и о том, почему он ее хранит. Например, видавшая виды деревянная шкатулка, которую для него кто-то украсил резьбой. Или эти его медали, которые он держит под рукой, но никогда не достает. И куча всякой хрени, что я ему сделал, когда был маленьким. Вон та чашка из кружка лепки или этот кривой игрушечный попугай с уроков по шитью на трудах. Потому что я, оказывается, баба, когда доходит до столярного дела.
В школе меня чморили, когда нам задавали нарисовать свою семью, потому что в моем случае она всегда состояла из меня с дедом. Ну, и мамы иногда. Что, как выяснилось, странно, и неправильно, и должно быть по-другому.
Сейчас-то я думаю, не пойти бы им всем на хер. Ну, то есть в лицо бы не сказал – нам же по шесть тогда было. Но вот если у меня когда-нибудь появится свой ребенок, а он, возможно, появится – надеюсь – я его таким растить не собираюсь. Чтоб он верил, что его версия мира – единственно правильная и возможная. Хотя особого выбора-то у спиногрыза и так не будет, думаю. Все-таки жить-то ему с двумя отцами.
А вот все мои школьные рисунки до сих пор хранятся у деда. Там есть целая серия нас на Примроуз Хилл – по одной для каждого сезона. Человечки из палочек и кружочков в соломенных шляпах или теплых шарфах. И первое стихотворение, которое я написал. Любовно проиллюстрированное от руки на бумаге с волнистыми краями, которые сделаны специальными ножницами. Оно называется «Жабы» и выглядит так:
Жабы
Прыгают по лужам.
Прыг прыг прыг ПРЫГ.
Да-а, чувачки, вот это я понимаю, полет мысли. Меня чуть ли не гением провозгласили, когда я его написал. Этот стих, возможно, самое великое достижение моей жизни. Детский лепет, конечно, но и мне в то время сколько было? Пять, что ли. По-моему, я тогда оказался единственным, кто понял, что стихи – это иной способ выражения мыслей на письме. И много лет после этого считал, что вырасту и буду поэтом. Так же, как мама – художник.
А потом заметил принципиальный прокол в этом плане, который, в общем, заключался в том, что стихи у меня отстойные.
Самое странное, что поэзию я вроде как понимаю. Немножко. Как такой умственно отсталый с синдромом саванта[11], наверное, раз я ее, кажется, усвоил методом диффузии еще в утробе матери и в раннем детстве, поскольку из книг у нас водятся только артбуки и сборники стихов. Но я потому и смог распознать свою отстойность еще до того, как кому-то пришлось бы открыть мне на нее глаза.
Не знаю, что случится со всей этой ерундой, когда деда не станет. Со всеми вещами, которые только ему и нужны.
Блин, ну вот, ничего лучше не нашел, чем свести рассказ на себя. Но все эти рисунки-поделки и правда ни для кого, кроме него, ничего не значат. А если ничего не значат, то и сами они – ничто. Следовательно… и я тоже ничто.
Я разуваюсь и сижу босой в изножье его кровати. Дед пока спит. Он дышит с хрипами, но не так, как когда больно. И я внезапно обнаруживаю, что делаю вдохи-выдохи в его ритме, словно помогаю или что-то вроде.
Конечно, проснувшись – чего долго ждать не пришлось, поскольку спит он не так глубоко, просто часто – дед говорит, что мне стоило его разбудить, пока он не проспал половину визита. А я такой: «Ага, из-за тебя я теперь опаздываю на ужин к королеве», и дальше нас понесло.
Он сообщает, что хорошо себя чувствует, что наверняка неправда.
Я говорю, что скоро появятся подснежники. Мы раньше притворялись, как однажды снова посмотрим на них вместе, но теперь уже не пытаемся.
Я рассказываю про мамину выставку под сводами заброшенного железнодорожного виадука.
Говорю, что добавил яблочный уксус к крему с маскарпоне, которым обмазываю красный бархат.
Он отвечает, что позже поделится своим мнением. Не думаю, что сейчас у него есть силы съесть хоть одно пирожное.
Но ничего.
Ничего.
Я спрашиваю, не хочет ли он чего. Он не хочет, но я все равно приношу ему воды. Вода организму нужна всегда, правильно?
Мы какое-то время говорим о некоторых здешних обитателях. Их нельзя назвать друзьями. Они – это что-то другое, в чем-то ближе, в чем-то дальше, чем друзья.
Так странно, когда тебе хочется о стольком рассказать, а ни фига не выходит. И я вижу, что дед опять начинает проваливаться в сон.
– Деда?
Он моргает в ответ. Сейчас он весь в глазах – живет в них, а не в своем теле. Тело у него теперь – это просто пустая кожаная оболочка.
– Тоби?
– Я тут познакомился кое с кем.
Он весь загорается интересом, и я улыбаюсь в ответ.
– С кем? Где? Не в этой вашей, как бишь ее… интерпаутине?
Прекрасно. Деда прямо на мемы пускать.
– Нет, в… – Ой блин, бли-ин. «В секс-клубе с уклоном в изврат»? – На, э-э, вечеринке. Его зовут Лоренс. Лоренс Дэлзил.
– Как «Дэлзил и Пэскоу»?
– А?
Он характерно выдыхает – это все, что осталось от его смеха – так что я не спрашиваю. Наверняка это какая-то стариковская отсылка, которая до меня все равно никогда не дойдет.
– В общем, я его зову Лори. – И небрежно так не упоминаю, что мне пришлось с нытьем выпрашивать эту привилегию. Оно того стоило. – Он очень… хороший. Умный, веселый, добрый и красивый.
Я, конечно, упрощаю. Пусть и витаю в облаках, но мозги пока работают. В смысле, про Лори и правда можно сказать все вышеперечисленное (ну, не совсем в плане красоты, но деду же не будешь говорить «сексуальный»), но и… много чего еще. Более сложного. И – странно, да? – он мне от этого только больше нравится. Так и всерьез влюбиться можно. Если он даст – поделится собой достаточно, чтобы я смог.
– Он доктор. И помнишь сказочные дома около Примроуз Хилл? Он в таком живет. В смысле, не на Примроуз Хилл, но в таком же доме, как там. Как те белые. Вообще нереально, скажи?
У меня в детстве это была любимая игра. Мы ходили мимо тех пряничных домиков по пути в парк, и я дергал деда за руку и начинал: «А кто тут живет?». А он: «Моряк, который встретил русалку, которая дала ему жемчужину размером с грушу». А потом мы проходили чуть подальше, и уже он показывал на дом и спрашивал: «А здесь кто живет, Тоби?» – и я отвечал: «Принц целого королевства, которого запрятали в стеклянный шар».
Реальность оказалась куда лучше любой из наших сказок, пусть это и всего лишь мужчина по имени Лоренс Дэлзил.
– Лучше скажи, как он танцует? – спрашивает тем временем дед.
Вот нахальный старикан. Я расплываюсь в улыбке.
– Спокойно. Я пока не узнавал. А то еще подумает, что мне от него только одно и нужно. Но честно тебе скажу, он мне не разонравится, даже если будет кривой на обе ноги. Когда мы вместе… я чувствую такое… – Не знаю, как ему объяснить. Частично из-за секса с извращениями и частично как раз потому, что к сексу с извращениями это отношения не имеет. – …такое «Дзинь!», понимаешь?
– Струны твоего сердца, да?
Киваю, чувствуя себя при этом почти ботаном. Я обожал эту песню[12], когда был маленьким. Мне казалось, что когда влюбляешься, это именно так и должно звучать: звонко, радостно и с оркестром.
В любом случае, дед, кажется, одобряет:
– Рад… это слышать.
По-моему, он хочет сказать что-то еще, но не может толком произнести. Я даю ему стакан с водой. Да и все равно догадываюсь, что у него на уме. По правде, деда моего не назовешь объективным. Ему кажется, что я такой удивительный, талантливый и прекрасный юноша, несмотря на кучу имеющихся доказательств в обратном. Но это и есть любовь, наверное. Состояние неослабевающей полуневменяемой предрасположенности к конкретному человеку. И дед, похоже, переживает, что без него у меня не останется никого, кто бы так обо мне думал.
Так что я говорю:
– Дед, Лори меня понимает. Правда понимает. – Ну, да, стих о жабе он, конечно, хранить не станет. Но вот самую наименее объяснимую часть меня – ту, которая хочет заставить его страдать, умолять и плакать, потому что он мне нравится – ту часть он понимает. А это вам не абы что. Блин, это, можно сказать, даже «что-то». – Тебе он, наверное, понравится.
– Ну, кое-что общее у нас уже есть.
– А?
– Ты… дуралей.
Я смеюсь. Когда твой собственный дед называет тебя дуралеем – это определенно хороший день.
Но тут я вдруг понимаю, что Лори никогда не встретит деда.
Потому что дедушка скоро умрет, а Лори на самом деле не мой парень. Я могу приказать ему встать на колени, могу велеть ему трахнуть меня, но не могу привести сюда. Не могу познакомить с человеком, которого люблю больше всего на свете. И не могу надеяться на его поддержку, когда я этого человека потеряю насовсем.
Дед выглядит довольно устало, так что мы после этого почти не разговариваем. В самом начале лечения я много ему читал. Но потом, когда стало более-менее ясно, что он уже вряд ли поправится, мы как-то молча бросили романы. Он любит классические детективы, но вы только представьте, как стремно будет умереть… ну… посередине, так и не узнав, кто убийца. Теперь я читаю ему стихи. Просто чтоб он мог взять с собой хоть какие-то слова, а мой голос сопровождал его в темноте.
Читаю ему «Упоение[13]». Части «Упоения», если точнее, хоть так, наверное, и нельзя, раз это задумано как цикл, но мне хочется, чтобы он слушал только про любовь, а не про потерю, что опять же неправильно, поскольку одного без другого не получишь. Но вот деду сейчас можно, потому что он умирает. Потому что потеря уже происходит прямо здесь.
Мне больше всего нравятся стихи в начале. А те, что в конце, меня даже пугают. Но, наверное, если хочется, чтоб был «Ты», то с ним придет и «После». И для каждого «Часа» существует своя «Скорбь».
Я думаю о Лори, когда читаю.
О том, как это – влюбиться, и как, не считая «Дзинь!», я пойму, что влюблен. Если между нами вообще может быть любовь. Если это не просто секс и увлеченность. И так ли важна разница.
Да, я был с ним только два раза. И едва его знаю.
Но как еще можно влюбиться, кроме как захотеть?
Так что, может, этого и достаточно. На данный момент, по крайней мере.
На этой неделе мы с Лори встречаемся в воскресенье, потому что мне пришлось проработать все выходные. Как только я захожу внутрь, он прижимает меня к стене, и в итоге мы трахаемся в коридоре.
Такой вот у нас репертуар.
Мне так нравится, как он меня трогает, словно целую неделю только и ждал, и я просто вываливаю на него все: как счастлив его видеть, как по нему скучал и как сильно хочу – все это плюс литров восемьдесят спермы. Поэтому в итоге мои шмотки отправляются в стиралку, а я отправляюсь отмокать в ванную, на этот раз вместе с Лори, и лениво покачиваюсь в воде под его руками. И только уже стоя на его крыльце в половине шестого утра следующего дня – потому что ему надо на работу – я понимаю, что время ушло. И Лори ушел – обратно к своей остальной жизни. Оставив меня одновременно счастливым и пустым, и с ноющим телом.
На следующей неделе – те же яйца только в профиль. В смысле, с разницей, в основном, в том, где и как мы трахаемся.
И не то чтоб мне этого не хотелось – нет. Хочется. Так сильно, что башка с трудом соображает. И не то чтобы мы не разговаривали совсем. Разговариваем. И не то чтобы он со мной плохо обращается. Он, на самом деле, добрее, чем кто-либо другой, которого не обязывают семейные узы и тому подобное.
Но у него в голове как будто черта такая нарисована. И мне можно брать все, что до нее, а после – ни-ни. Иногда у меня за эту черту получается заглянуть. В ту ночь, когда мы познакомились. Когда он подобрал меня с порога. Временами после секса, когда он дает себя обнять. Короче, достаточно, чтобы захотелось жить там – на другой стороне Лори.
Вот только не знаю, как туда попасть. И боюсь давить на него – опять – а то еще потеряю все, что имею.
Прям какой-то мотив всей моей гребаной жизни.
А главное, у меня нет ничего конкретного. Не на что жаловаться. Никакого способа подтолкнуть его. Все, что я могу – надеяться на те моменты, когда он забывает про черту, и в них сделать так, чтобы он почувствовал себя настолько защищенным, настолько самым-самым и настолько охрененно обласканным, что ему никогда не захочется переступать обратно на другую сторону. Чтобы он увидел, что здесь все всерьез.
А единственный мой способ довести его до такого – секс.
Не, я не жалуюсь, не подумайте. Уж если я и научился чему, так это работать с тем, что есть. И потом, кого я обманываю – секс о-фи-ги-тель-ный.
Лори мне нравится в любой позиции, которая приходит нам в голову – а воображение у него хорошее – но больше всего люблю, когда я на спине, чтобы можно было смотреть на него, трогать и целоваться, хоть нежно, хоть яростно, хоть как. Иногда я как бы удерживаю зубами его нижнюю губу, чтобы сделать ему больно, пока он заставляет меня кончить. Он от этого превращается в настоящее животное – капец просто – а потом становится беспомощным, абсолютно беспомощным, когда мое даже самое простое прикосновение буквально обращает его тело в рабство.
Как-то, когда у нас был один из медленных разов – ну, знаете, чтобы лучше ощущать друг друга – и наши тела сливались в одно в плавном и глубоком скольжении, я вытянул руку и положил ее ему на горло – просто, без нажима, но он так отреагировал. Мама родная. В меня как будто еще один член вошел. А ведь он всего-то сказал: «О, Тоби», но как. С надрывом, словно я наконец-то достучался до его сердца. Только вот потом оно опять оказалось за семью печатями. Не достанешь. Как обычно.
Так что через неделю-другую я дожидаюсь момента, когда он уже после всего лежит весь такой тихий и расслабленный, со смягчившимся взглядом, и спрашиваю его прямо в лоб:
– Лори, ты с кем-нибудь еще, кроме меня, спишь?
Он со вздохом поворачивается.
– Нет, милый. Если я не с тобой, то, скорее всего, в больнице.
Ага, начало хорошее.
– А хочешь?
– А что спрашиваешь? Планируешь меня с кем-то делить?
Произносит он это так лаконично, будто вполне себе нормальное предположение – хренасе, да? – но у меня от самой мысли все сердце сжимается в кулак. Не дам. Мое.
– Нет!
Смеется.
И теперь я чувствую себя идиотом. Дубиной не по ту сторону черты. Будто бы меня подставили. Я чуть было не плюю на весь разговор. Бесит, когда он так делает. Притворяется, что то, что важно для меня – то, что он мне дает – на самом деле незначительные мелочи.
– Так это... – Блин, как вообще говорить о таких вещах? – Ну… если мы вроде как только друг с другом, значит… можно не заморачиваться с презервативами?
– Не вижу почему нет, – монотонно так отвечает он.
Мне почему-то казалось, что такой разговор будет романтичным. Будет больше вот этого его хриплого «Я тебе верю, Тоби», как когда я боялся по-настоящему его ранить. Стараюсь ответить в том же тоне:
– А, круто.
И что теперь? Мы нежно обмениваемся распечатками анализов?
Я лежу весь в сомнениях, и мне вообще неловко, когда Лори наконец, сжалившись, продолжает.
– Я сдавал анализы после Рождества – все отрицательно, а с тех пор был только с тобой.
Ага. Так, ну кое-чем мы точно обмениваемся. Но все равно как-то неловко. Грязно. Я и сам не понимаю, в чем именно, но однозначно не одобряю. Даже не столько из-за секса или прямых намеков на сексуальное прошлое, а из-за такой, мать ее, медкнижки. Это же близость, а не… а не выезд с парковки на одностороннее.
Посмотреть в зеркало.
Поворотники.
Презерватив.
Плюс придется признаться в отсутствии у меня приключений на пятую точку.
– Я… я кроме тебя был еще с тремя, и мы всегда, ну, с контрацептивами.
– Для всех видов полового акта?
Огосподи. Да чтоб мне в жизни после этого хоть еще раз захотелось секса. Я угукаю в ответ.
– Тогда уверен, что все нормально.
– Ты уверен, что все нормально? – Я сажусь, весь оторопелый, и он протестующе мычит, когда я случайно утягиваю за собой одеяло, обнажая его спину… и все оставленные мной на ней отметины. – Кто из нас тут доктор, а? Ты и пациентам своим так же говоришь? «Хм-м, у вас странное пятно на МРТ, но уверен, что все нормально».
– Я доктор… – отвечает он совсем другим тоном. Ни следа от недавнего безразличия. Я из-за этого даже немного злюсь на него за ту дурь. – …но, тем не менее, брал твой член в глотку и засовывал язык тебе в задницу. Так что, как видишь, мое желание тебя трахать и ублажать стабильно сильнее любых политкорректных вопросов безопасности.
Ладно, больше не злюсь. Теперь мне просто не по себе.
– Лори. – Провожу рукой ему по плечу. – Разве нам не надо быть осторожнее?
Он поворачивается на спину и смеется. Но добрым смехом, а не таким, из-за которого я чувствую себя идиотом.
– Иди сюда, мой смешной чудесный мальчик.
Он кладет ладонь мне на затылок и притягивает вниз для поцелуя. Лори редко целует, когда мы не в процессе, так что это неожиданно. И приятно. Так охерительно приятно, что мы целуемся и целуемся, просто вот этот медленный танец ртов, движение в унисон под неслышную музыку.
А когда он меня отпускает, и я снова могу дышать, то пробую еще раз:
– Нет, серьезно, а вдруг у меня был бы сифилис, как у графа Рочестера? Его тоже растлили в четырнадцать.
– Милый, ты такой же растленный, как пастушка с картинки Хюммель. Если тебя это успокоит, я могу еще раз провериться, но если нет, пожалуйста… дай мне тебя трахнуть. Войти в тебя. Хочу почувствовать, как ты от этого кончаешь. У меня… у меня так уже давно не было.
– Да я под тобой кончил с полчаса назад.
Он подчеркнуто вздыхает.
– Ты же знаешь, о чем я.
– Знаю, но хочу, чтоб ты сказал словами.
Его руки все еще меня обнимают, тело напрягается под моим, становится нетерпеливей и – почти незаметно – податливей. Я за чертой. Точно знаю.
– Я уже давно не был так близок с кем-то. И не хотел быть.
Надо, наверное, вести себя как взрослый человек и настоять, чтоб мы точно удостоверились – никаких «все нормально» – но такой момент с Лори слишком особенный, чтобы его упускать.
И мне тоже хочется. С ним.
Все не так… не так, как я думал. И хоть мы уже весь дом у него обкончали за последние недели, мне внезапно опять неловко. Как не было с того самого первого раза, когда он меня разложил задницей кверху и ногами к изголовью кровати.
Просто это мой настоящий первый раз. Со мной раньше никто вот так не был. И не касался. Чтобы без барьеров.
Я дрожу, стесняюсь и сгораю от нетерпения. Пусть даже мы и опять на грани неловкости, а Лори изводит чуть ли не пол-литра смазки, потому что моя задница практически превратилась в замок Спящей Красавицы, заросший колючим бурьяном.
Кожа. Она шершавее, чем кажется.
Но господи. Господи.
Как же мне нравится это трение, этот привкус боли, растяжение, шероховатость и жжение, потому что они от Лори. Потому что так я чувствую Лори, когда он осторожно входит в меня.
В физическом плане разница небольшая. Но сейчас все по-другому. Совсем по-другому. Сам же и надумал наверняка, но все равно я в таком, ну… шоке от всего этого. И лежу тут, как оглушенный кролик, и смотрю на Лори у меня между ног, а в голове проносится только, что… он внутри меня. Вот этот незнакомец, в которого я, кажется, влюбился, внутри меня.
Я знаю, что говорят про мальчиков, которым нравится, когда их в попку. Знаю, что имеется в виду.
Вот только все совсем не так.
Я жадный, и сильный, и даже не представлял, что можно быть так близко к Лори. Мы буквально соединены, наши тела вложены друг в друга, все секреты оголены.
Я улетаю.
Потому что вот так оно и должно быть. Когда отбросишь догмы, политику и всякие бла-бла-бла. Вот это и есть секс. Это и есть любовь. И это и есть мы. Я и Лори. Вместе. Чувствуем прикосновения друг друга и касаемся в ответ. Настолько глубоко, насколько могут двое.
Он смотрит вниз, на место, где мы соединяемся, где я принимаю его в себя, и какое-то время мы оба разглядываем, как наши тела приладились друг к другу – я обхватываю его, а он вжимается в меня сантиметр за сантиметром. Но потом я велю ему смотреть на меня, и когда он поднимает взгляд, вижу в нем страх даже в полумраке комнаты. Страх и желание. Которые он мне показывает и дает, как когда я завязал ему глаза галстуком.
Жестом призываю его ближе, и он накрывает меня собой.
Целует. Неуклюже и грубо, издавая стоны прямо мне в рот. И я пою ему в ответ. Ту же песню.
Мы оба такие оголенные.
И когда я готов, то говорю ему: «Давай», и он выходит почти до конца и засаживает мне, как я люблю. Крепко сжимает горячими руками лодыжки и держит мои ноги широко раскинутыми и открытыми для всего офигительного, неземного удовольствия, которое может выбить из меня его бесподобный член. А сейчас все еще круче. Красиво, с полной отдачей и только кожа к коже. Только мы.
Я лежу – его разнузданный принц – и позволяю ему мне прислуживать.
А он сейчас просто само совершенство: каждая жила натянута, а кожа играет тенями и блестит от пота. Натруженное дыхание и отчаянный самоконтроль. Не мужчина, а дикий жеребец, который для меня становится ручным. И вот тут-то я и кончаю, разбрызгивая горячие струи по груди и животу, как будто мой член и сам удивлен такому повороту событий.
Чувствую себя почти разочарованным.
Не потому, что было плохо, а наоборот – так хорошо все это время, что не хочется, чтобы оно заканчивалось. Не хочется терять этот жар, эту наполненность и эту близость.
Не хочется терять Лори.
– Боже. Тоби. О, Тоби.
Он нагибается, и мне на секунду кажется, что он тоже кончил, но потом чувствую на себе его губы. Трепетное теплое дыхание на груди, а за ними – мягкие прикосновения языка, которым он слизывает все только что излитое из меня. Кожа сейчас настолько чувствительная, что мне почти щекотно, но все равно – так нравится. Особенно учитывая, что его все еще твердый член до сих пор внутри меня. Зная, что он с ума сходит от желания.
Я думаю, не поиграть ли с ним. Притвориться, что не разрешу кончить, заставить умолять. Знаю, нам обоим понравится.
Но не сейчас.
Сейчас никаких игр.
– Лори, – глажу я его по голове, – кончай. Для меня.
Он пытается что-то сказать – ужасно мило и нечленораздельно – и опирается на локти. Вжимается лицом в мою шею и начинает двигаться. Знаю, что он и тут думает обо мне, когда так осторожно берет собственное удовольствие, раз я уже получил свое. Я обнимаю его макаронинами рук и держу крепко, как только могу. И ногами бы обнял – ему нравится – но я еще слишком хорошо оттрахан, чтобы двигаться. И когда он кончает – хотя телеграфируется оно обычным способом, и я вообще не уверен, что именно сейчас чувствую в заднице, там все так скользко – все равно еще раз накрывает с головой, что Лори внутри меня.
Кончает внутри меня.
Кажется, несмотря на все свое недавнее безразличие и невозмутимость, он тоже понимает. Потому что практически всхлипывает. И какое-то время мы просто лежим, хватаясь друг за друга.
Когда он выходит, немного жжется. У меня там точно… тепло и мокро. Остро ощущается, что часть Лори еще осталась внутри. Хотя, думаю, рано или поздно оно ведь… выльется.
Я честно не знаю, почему дальше так делаю. Что на меня нашло. Ничего подобного не планировал, но когда мы с Лори вместе, и он весь такой – когда я за чертой – у меня появляется вот эта смелость, которой больше никогда не бывает.
После него я верю, что могу все.
Так вот, пока он стоит на коленях между моих раскинутых ног, я переворачиваюсь на живот и встаю на четвереньки.
Ему не надо объяснять, чего мне хочется. Его рот уже там, на мне, язык внутри меня. По новой наполняет все тело мягкими пульсами удовольствия. Недостаточно для еще одного стояка. Хотя дрочить мне теперь на это всю жизнь. Лори, вылизывающий собственную сперму из свеже– и тщательно оттраханной задницы Тоби Финча. Так же, как пил мою с моей кожи.
Господи, нам точно надо что-то придумать со светом и зеркалами. Я хочу это видеть. Хоть иногда.
Иначе не поверю, что мне не снится.
Когда он отстраняется, а я уже наполовину вырубился просто… от всех этих ощущений… он укрывает меня одеялом и осторожно целует. Сомкнутыми губами, которые я открываю языком и влезаю прямо в его рот. Где все такое вкусное и порочное – он, я сам и незамутненный секс.
– О, Тоби. Тоби.
Я широко улыбаюсь в ответ. Касаюсь его губ.
– Твое с моим здесь… смешано сейчас[14].
И после этого мы, кажется, засыпаем.
Не знаю, чего именно я ожидал на утро. Чего-то другого. Но он целует меня как обычно прямо в лоб и оставляет стоять на крыльце в розовеющей рассветной дымке.
И уходит жить своей жизнью. Бросает меня на произвол моей.
Следующие несколько дней проплывают в тумане сомнений.
Блин… и что это было? Как он вообще мог? Это нормально, да? Я что, один тут веду себя странно? Может, и черта – это все плод моего воображения, а на самом деле Лори просто такой по жизни. Просто взрослые все такие. Проблема-то в том, что мне и сравнить больше не с кем, и спросить некого, а сам я уже даже не пойму, чего мне надо. В смысле, еженедельный крышесносный секс с извращениями у меня уже есть, и мужчина, с которым я им занимаюсь, все остальное время хорошо ко мне относится. Но все равно я… похоже… до сих пор чем-то недоволен.








