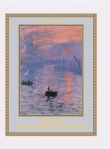Текст книги "История живописи всех времен и народов. Том 1"
Автор книги: Александр Бенуа
Жанр:
Искусство и Дизайн
сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 31 страниц)

Козимо Тура. Мадонна со святыми. Берлинский музей.
Наиболее характерным примером архитектурного вкуса Коссы является великолепное, сверкающее красками, как будто только что написанное "Благовещение" Дрезденской галереи. Здесь же ясно выступает связь мастера с Пьеро деи Франчески, который, работая при феррарском дворе, должен был произвести громадное впечатление на местных художников[302]302
Источники феррарской школы кватроченто покамест не удается выяснить. Фреска 1440 года в С.-Аполлинаре (Воскресение), написанная еще до прибытия Пьеро, производит, во всяком случае, уже очень внушительное впечатление, и пейзажу отведено значительное место.
[Закрыть]. Влияние Пьеро выразилось в дрезденской картине как в перспективном построении, так, в особенности, в искании передачи равномерно разлитого яркого света. Особенно это искание заметно в нежной лепке лица Богоматери и в тонко изученном рефлексе, очерчивающем профиль в тень обращенного ангела. Эффектная и благородная по формам декорация состоит из двух арок, разделенных колонной и открывающихся слева на улицу, а справа – на келью Марии. Характерно для феррарца при этом, что улица уже через два дома переходит в угрюмую гористую местность, а окно в келье закрыто «буценшейбами», через которые нельзя разглядеть наружного вида. Флорентиец воспользовался бы этим самым окном, чтобы развернуть приветливую панораму на холмы и долины, соответствующую душевному настроению Марии.
Все в этой изумительной картине Коссы изображено с величайшей отчетливостью, не менее твердо и уверенно, чем у Мантеньи, но, пожалуй, с меньшей последовательностью в передаче античных форм. Одна игра разноцветных камней, рыжеватых, золотистых, черно– зеленых, серых, розоватых, вместе с кусками позолоты на дворце, видимом через левую аркаду, выдают опять-таки какой-то "византийский вкус[303]303
Пестрый, роскошный, также несколько византийский характер носит архитектура на картине Мантеньи Представление в храм в Уффици. Но эта картина является исключением в творении этого художника, тогда как Франческо дель Косса в своих произведениях всегда цветист и не боится пестроты.
[Закрыть]". Но и, кроме того, у Мантеньи не встретишь этих «готизированных» аркад, которыми закончена кверху архитектура дрезденского «Благовещения», или тех готических розеток, которыми украшена кровать Марии. Наконец, вполне «средневековый» вкус обнаруживается еще в разноцветных павлиньих перьях, из которых состоят крылья ангела[304]304
Укажем здесь на то, что Мантенья избегал изображения взрослых ангелов, и это лишний раз подтверждает связь его искусства с искусством Донателло и с античностью. Даже в сцене Гефсимани, вместо традиционного одного ангела, у Мантеньи является Христу целая группа нагих ребятишек-эротов. В Мадонне Тривульцио художник прячет ангелов за нижний край картины, из-за которого они появляются в виде полуфигур – мотив, уже предвещающий Сикстинскую Мадонну Рафаэля. Другие его Мадонны окружены или головами херувимов, или фигурами эротов.
[Закрыть].
Следует окончательно остановиться на Косее и как на авторе лучших среди прекрасных фресок замка Скифанойя в Ферраре, остатках сложной росписи, в которой принимали участие все видные художники, состоявшие при дворе "просвещенного деспота" Борзо, и в том числе Пьеро деи Франчески. В этих фресках художникам, видимо, было вменено в обязанность приноровиться к придворным вкусам, быть изящными и даже веселыми. Однако изящное веселье было не в духе времени, не для него были воспитаны живописцы, и потому вся сохранившаяся декоровка Скифанойи носит совершенно особый характер какой-то смеси приветливости с кошмарностью.

Франческо Косса (?). Триумф Венеры. Фреска в палаццо Скифанойя во Феррари.
Особенно характерны в этом отношении верхние сцены фресок, изображающие триумфы разных божеств, покровителей человеческой жизни. Тяжелые триумфальные колесницы, запряженные героическими конями, катятся по каменистым, точно выдолбленным в камне дорогам, или же их тянут лебеди по волнам узкого пролива, извивающегося между острыми скалами. С такими пейзажными мотивами мы уже знакомы – это все тот же "колючий", жесткий пейзаж скварчионистов. Но вот справа и слева от центра каждой композиции расположены мягкие, покрытые травой, кустами и плодовыми деревьями холмы, а дали заняты радостными полями, лесами и городами. Фиваида несколько ожила, принарядилась, и даже острые скалы у реки имеют вид скорее забавный, нежели страшный[305]305
Замечательно при этом проявляющееся здесь местами сходство с северными миниатюрами начала XV или даже конца XIV века. Опять мы видим плоские кулисы, несообразности в пропорциях, торчащие из-за холмов горизонта вышки городов. Неужели все это дело рук того же мастера Коссы, который выказал столько передовых знаний в других своих достоверных работах? Эти несообразности наводят на мысль, не следует ли видеть в верхнем ярусе фресок Скифанойи произведение какого-то для нас еще не выясненного мастера, состоявшего, вероятно, под руководством Коссы, за последним же оставить лишь три нижних ряда, в которых аллегории и жанровые фигуры написаны частью на сплошном темном фоне, частью на фоне характерных для Коссы, отлично придуманных и разработанных архитектур. Достоверно, по документам, известно, что в 1470-х годах Косса писал изображения месяцев марта, апреля и мая. Но, разумеется, умолчание о других месяцах еще не может служить доказательством того, что он их не писал.
[Закрыть].
Берлинская "Осень" ("Октябрь"?) Коссы[306]306
Эта картина происходит из зала заседаний инквизиции при старом доминиканском монастыре в Ферраре.
[Закрыть], единственный дошедший до нас фрагмент целого декоративного ансамбля, символизировавшего времена года, или двенадцать месяцев, подтверждает предположение, что наиболее слабые пейзажи в «Триумфах» не кисти самого мастера. Эта «Осень» наряду с портретными фигурами Кастаньо (из виллы Леньайи), с пейзажами Пьеро деи Франчески на портретах урбинской герцогской четы (Уффици) представляется одним из самых изумительных чудес живописи XV века. Какая здесь зрелость мысли! Как грандиозно вырисовывается эта «колоссально понятая» фигура крестьянки в розоватом платье на фоне неба, над плодородной землей, которой она служит. Какой полный дивный орнамент образуют ветви, листья и гроздья винограда у нее в руке и какую символическую силу сумел придать Косса всей картине одним гениальным расположением тяжелых орудий земледельческого труда – заступа и лопаты. Но особенно замечателен пейзаж. Уж одно то, что из «иллюзионных» соображений (вероятно, фигуры месяцев были размещены фризом на значительной высоте от пола) Косса поместил горизонт пейзажа ниже колен фигуры, придает композиции какой-то «современный» характер. Этот же прием поднимает фигуру и позволяет художнику предоставить озаренному светом небесному своду значительную роль в общем эффекте.
Но и далее, в кусочке феррарской кампаньи, стелющейся у ног монументальной фигуры, сколько непосредственной поэзии, сколько простого чувства природы! Крестьянка эта – родная сестра грандиозных потомков Адама, которых мы видели на фресках Пьеро деи Франчески в Ареццо; это сама сила, само несокрушимое здоровье. Но если пейзаж и напоминает своим ровно разлитым светом[307]307
Подобно тому, как на Триумфах Пьеро (оборотные стороны портретов герцога и герцогини Урбинских), дальний пейзаж открывается и у Коссы за уступом какой-то каменной террасы, на которую встала крестьянка.
[Закрыть] и мягким контуром холмов пейзажи умбрийца, то все же еще более он напоминает картины нидерландцев. Настаивать, впрочем, на непременном воздействии северного искусства здесь не следует[308]308
Разница, которую мы усматриваем при отмеченном сходстве, во всяком случае, характерна. Косса подчиняет найденную им формулу натуралистического пейзажа утвердившимся в итальянском искусстве требованиям стиля. У него это не только прелестный и поэтичный фрагмент природы, но и часть величественного декоративного ансамбля. Несмотря на жанровый мотив дощатого недостроенного моста через протекающую между пастбищами реку, или еще на тщательное изображение полей, которыми исполосован холм слева, все производит не столько впечатление какой-либо определенной ведуты, сколько символического изображения матери-кормилицы земли вообще.
[Закрыть].
Наряду с берлинским образом Туры и с предэллой Коссы самой характерной для феррарской школы картиной является "Святой Иоанн Креститель" в Берлинском музее, считающейся ныне (не вполне достоверно) за произведение Эрколе ди Роберти[309]309
Ercole di Roberti родился около 1450 года в Ферраре, где и закончил жизнь после временного пребывания в Болонье. При дворе герцогов Феррарских Эрколе пользовался большим успехом, получал огромное, потому времени, содержание, и на него была возложена почетная обязанность руководить устройством всех празднеств. Он был и архитектором. Умер Эрколе в 1496 году.
[Закрыть]. Это одна из самых странных картин кватроченто. Как должны были углубиться феррарские художники в мысли об аскезе, чтобы представить себе подобный образ святого, этот чудовищно изможденный скелет, держащий в расслабленных руках символ своей горестной веры – Распятие. Самое Распятие в стремлении к стилизации превратилось у феррарского мастера в какое-то подобие тончайшего, колючего и хрупкого веретена. И что за чудовищный вид позади! Несомненно, этот кошмарный сон есть порождение грозных проповедей, взывавших к общему покаянию. Позади горизонтально срезанной и как бы отшлифованной вершины скалы, на которой стоит святой, далеко внизу стелется, в чудовищном изображении, «вселенная»: сонное, застывшее море, унылый скалистый полуостров с развалинами пристани, противоположный берег с опустелым городом, с покинутыми в порту судами, а вдали, под бледнейшим вечерним заревом, серо-синие цепи гор! Все вымерло, все меркнет в какой-то агонии, даже вода застыла под опустевшим небом. Один лишь Предтеча, иссохший, коричневый Кащей, стоит и бормочет что-то своими увядшими старческими губами. Что может говорить он, к кому обращается, чей приход предвещает? Ведь уже все потухло, все судьбы свершились, и некого спасать...
Суровая античная дисциплина падуйцев и "византийский" аскетизм феррарцев не могли существовать долго среди общего пробуждения к жизни, общего ликования, общей жажды наслаждения кватроченто. И вот мы видим уже некоторый поворот в самом Косее, еще более явно выраженный в достоверных работах Эрколе ди Роберти[310]310
Монументальный образ мастера в Брере (1480 года) совсем еще близок к Туре, но в красочном отношении Эрколе, бывший лет на двадцать моложе учителя, превосходит его, он ярче и гармоничнее. Совершенно фантастична картина Аргонавты Падуйского музея, считающаяся одними работой Эрколе, другими работой Парентино, с ее нагромождением серых, зеленых и светло-сиреневых скал, Эрколе был очень любим при дворе своих герцогов и много для них трудился, но произведения его погибли во время войн. Некоторые из них сохранились в современных копиях.
[Закрыть], и, наконец, полное «бегство из Фиваиды в Аркадию» в искусстве четвертого из знаменитых феррарцев – Лоренцо Косты, переселившегося в Болонью, и также еще в искусстве Эрколе Гранди. Однако прежде чем обратиться к этому новому веянию, характерному для поворота от кватроченто к чинквеченто, следует покончить с остальными отражениями и разветвлениями падуйской школы на севере Италии[311]311
Рассматривая разветвления падуйских влияний во всевозможных школах северной Италии, мы чаще всего встречаемся с явлениями, представляющими лишь местный интерес. Среди них, однако, необходимо выделить образ в галерее Фаэнцы Мадонна со святыми Леонардо Скалетти, представляющий один из самых ярких и выдержанных примеров падуйского стиля. Все в этой поразительной картине отличается силой и вдумчивостью. Мадонна восседает на троне, архитектура которого сделала бы честь Мантенье, а тип святого бенедиктинца, коленопреклоненного перед Мадонной, принадлежит к самым изумительным порождениям аскетических идеалов; наконец, пейзаж, состоящий из скал и замков, выделяющихся на фоне печальной зари, не уступает лучшим произведениям Коссы. Сильным мастером, не чуждым феррарских влияний, является еще романьольский художник Франческо Дзаганелли из Котиньолы, обычно работавший со своим братом, Бернардино. Франческо умер в 1531 году в Равенне. Две лучшие картины братьев находятся в Миланской Брере. Этих художников, носивших прозвище Котиньола, не следует смешивать с Джироламо Маркези Котиньола, всецело уже принадлежащего к чинквеченто, но в начале своей деятельности примыкающего к Дзаганелли и к феррарским художникам.
[Закрыть].
VII – Венецианская школа
Бартоломео ВивариниНe миновала жесткая, «бронзовая» система падуйской школы и праздничной Венеции. И здесь художники в середине XV века были заражены ею, а следы ее можно найти еще в начале чинквеченто даже в самых обаятельных представителях раннего расцвета венецианского Ренессанса – у Беллини, Карпаччио, у обоих Пеннаки, у Дианы, Биссоло, Катены. Решительно порывают уже с Падуей Джорджоне, Пальма и Тициан. Для объяснения этой зависимости Венеции от ее «провинции» Падуи следует иметь в виду, что сама Венеция в середине XV века не обладала еще вполне сложившейся собственной школой и что Византия продолжала быть как бы главным ее «культурным ментором»; но и, помимо того, нельзя игнорировать и такие частные, но не лишенные значения явления, как то, что Скварчионе имел «отделение» своей мастерской в самой Венеции, что многие лучшие венецианцы учились у него в Падуе и что между Мантеньей и славнейшими представителями венецианской живописи, братьями Беллини (сыновьями Якопо), установились самые близкие отношения после того, как Мантенья женился на сестре их, Николозии.
Целый ряд венецианских художников XV века, по сути, совершенные "скварчионисты" и "мантеньисты": Бартоломео Виварини, сын его Луиджи (или Альвизе, особенно в начале своей деятельности) и Ладзаро Себастиани (предполагаемый учитель Карпаччио), оба Кривелли. Всем им присуща одна черта – чудесное сплетение традиций тречентистской иконописи с новыми падуйскими формулами. Они продолжают любить архаические золотые небеса, жесткие золототканые штофы, неподвижный иератический стиль, аскетическую суровость ликов. Но в то же время они перенимают у Падуи "новые античные" мотивы в декоровке, схему падуйского пейзажа, необычайную виртуозность в имитации камня, широкие приемы драпировать свои фигуры на античный лад.

Альвизе Виварини. Святой Амвросий, окруженный другими святыми. Венеция. Браз окончен Марко Базаити.
Бартоломео Виварини[312]312
Деятельность Бартоломео Виварини, брата и ученика (?) известного нам Антонио (принимавшего, кстати сказать, участие в росписи капеллы церкви Эремитани Антонио принадлежат орнаментные работы), протекла между 1450 и 1499 годами.
[Закрыть] в большинстве случаев ограничивается, в смысле обстановки своих картин, одними лишь «реквизитами» – тронами, занавесками, кустами, гирляндами или небольшой стенкой, и именно игнорирование пространства придает его торжественным иконам архаичеcкий, несколько уже «отсталый» для времени характер. Но иногда Бартоломео в какой-нибудь незначительной детали обнаруживает свое мастерство в передаче природы, например, в изображении куропаток на прекрасном образе в Неаполитанском музее, персика у ног Мадонны в галерее Колонна, облачного неба на триптихе в церкви Фрари, и это мастерство, связанное с каким-то воздержанием от «суетных подробностей», доказывает, что Виварини был сознательно и по доброй воле тем аскетом живописи, тем архаиком, каким он нам представляется.
Пейзаж в настоящем смысле почти отсутствует в его творении. Там же, где он появляется (чаще всего в виде полоски пустынной земли под ногами фигур), он являет примеры чисто падуйского понимания природы. Таков кусочек безотрадного пейзажа у ног св. Иоанна Крестителя на триптихе Бартоломео 1478 года в церкви S. Giovanni in Bragora (Венеция), а также оба схематичных пейзажа в сценах "Рождества", помещенных в середине больших раззолоченных ретаблей в Венецианской академии.
Значительно мягче работы одного из самых искусных мастеров Венеции XV века, сына Антонио, Альвизе Виварини[313]313
Альвизе Виварини родился около 1446 года, умер до 1507 года.
[Закрыть]. Но и он предпочитает скрывать фон занавеской, троном или стеной. Лишь иногда, в более поздних своих картинах, Альвизе решается строить архитектуру очень благородного, строгого и простого стиля (например, запрестольный образ во «Фрари», доконченный Базаити, или великолепная «Мадонна со святыми» в Академии), и тогда он является соперником Джованни Беллини и Чимы да Конелиано как в смысле иллюзионистской передачи глубины, так и в смысле последовательно проведенной светотени.
Карло Кривелли[314]314
Карло Кривелли предполагаемый сын Якопо, живописца, работавшего в Венеции в 1440-х годах. Родился Кривелли между 1430 и 1440 годами, умер после 1493 года. Герцог Фердинандо Капуанский даровал ему рыцарское достоинство.
[Закрыть] принадлежит к венецианской школе по происхождению и образованию, но деятельность его протекла почти целиком в Марках. Этот странный, чопорный живописец предпочитает ставить свои жесткие, носатые, точно из дерева вырезанные и в медные одежды закованные персонажи на блестящий золотой фон; иногда же он заполняет воздушное пространство позади них орнаментально расположенными, точно из камня высеченными головами херувимов («Pieta» в Ватикане). Подобно Бартоломео Виварини, но еще более охотно, Кривелли изливает свою, парализованную требованиями церковного стиля, любовь к природе в изображении «мертвой натуры» – фруктов, овощей. С величайшим усердием вырисовывает он и оттеняет подробности костюмов и всякие сакральные предметы, которые держат в руках его святые: скипетры, молитвенники, кадильницы, подсвечники, чернильницы и проч.[315]315
Иногда в преследовании пластичности Кривелли доходит до того, что делает эти детали действительно выпуклыми, вылепляя их из стюка и покрывая эту приклеенную к картинам бутафорию позолотой. Так, например, в триптихе Миланской Бреры. Прием этот нам уже знаком по картине Антонио Виварини в Берлине и по многим примерам сиенской и умбрийской живописи первой половины XV века.
[Закрыть].
Встречаются у Кривелли и пейзажи в настоящем смысле, но это только в виде исключения. Довольно приветлив мотив, изображенный слева на не вполне достоверной "Мадонне" Веронской галереи: дерево с густой макушкой, зеленый луг, река, горы. Но тут же рядом, справа, мы видим знакомую "скварчионскую" растительность – оголенные деревья, простирающие свои ветви к небу[316]316
«Приветливые» мотивы встречаем мы с обеих сторон «Мадонны» в собрании лорда Норфбрука в Лондоне. Суровый пейзаж, опять-таки с оголенными деревьями, стелется в фоне «Распятия» Миланской Бреры.
[Закрыть]. В картине Страсбурского музея «Рождество» Кривелли неожиданно уделяет пейзажу много места, но снова выдает и свою зависимость от падуйско-феррарских формул. Не будь некоторых деталей, легко было бы принять эту жесткую, точно вычеканенную из металла картину за произведение Дзоппо или Парентино.
Лишь в одной из дошедших до нас картин Кривелли удалось создать нечто равноценное, в смысле общего построения, в смысле роскоши "постановки", фрескам капеллы Эремитани Мантеньи или дрезденскому "Благовещению" Коссы. Это в позднем лондонском "Благовещении" 1492 года. Самая тема по традиции требовала сложной декорации. Даже византийцы изображали в данном случае нечто вроде дворца или павильона. Мария, девушка царского рода, будущая Царица Небесная, представлялась художникам не иначе, как богатой патрицианкой, живущей в роскошном или, по крайней мере, изящном, просторном дворце. Но Кривелли довел эту традиционную формулу до предельного великолепия[317]317
Роскошнее, нежели Кривелли, обставил сцену разве только Паоло Веронезе, однако, в это время (вторая половина XVI века) замечается в живописи скорее тенденция упрощать обстановку в сценах, иллюстрирующих жизнь священных лиц. Возможно, что это произошло под влиянием «демократического» толкования Евангелия реформацией и попыток ее вернуться к исторической точности.
[Закрыть].
Справа, в открытой стене" палаццо, между двух богато орнаментированных пилястр, мы видим тесную, но богатую комнату Марии. Расшитый золотом полог отдернут и за ним стоит тщательно прибранная кровать с тремя большими подушками. Странным контрастом этому изящному богатству является полка над кроватью с ее простым шандалом, с банками, склянками и коробками; но, вероятно, нечто подобное можно было встретить тогда в самых аристократических домах, не знавших еще выдержанности позднейших обстановок. Над дверью в комнату Марии тянется пышный античный фриз, над фризом открывается прелестная, выложенная мрамором лоджиетта, на парапете которой стоят цветы, лежит персидский ковер и чванливится своим сверкающим хвостом павлин. Слева в глубине картины, в довольно правильной, но чересчур подчеркнутой перспективе, уходит улица. Среди нее, как бы не решаясь войти в дом Царевны-Марии, стоит на коленях архангел и рядом юноша-епископ, патрон города, модель которого он держит в руках. Через арку в фоне виден род площадки, замковая стена с окном посреди и, наконец, торчащие из-за нее макушки деревьев. На самом первом плане Кривелли кладет, с явным намерением "обмануть" зрителя, большой огурец и яблоко.
Любопытно еще раз отметить в этой картине зависимость подобных перспективных композиции от схем интарсиаторов, а следовательно, от уже далеких для данного момента образцов Брунеллески[318]318
Особенно богаты подобными интарсиями церкви Веронской и Бергамской областей.
[Закрыть]. Приходит на ум и сходство всей композиции с картинами Пахера, Тиролец Пахер мог побывать в Венеции, но не исключена возможность и обратного явления, что Кривелли или венецианцы одной с ним школы перебрались через Альпы на север и там научили местных художников новой строгой науке, как передавать пространство и глубину на плоскости картины, еще до того, как формы возродившейся античности приобрели значение чего-то общеобязательного и абсолютного[319]319
Рядом с Кривелли нужно назвать еще более архаичного и еще более приближающегося к немцам мастера – Квирицио да Мурано (образ св. Лючии с эпизодами из ее жития в Ровиго, «Игуменья перед Христом» в Венецианской академии), а также Антонио да Негропонте. Громадный образ последнего в Сан-Франческо делла Винья (Венеция) представляет типичную смесь самых разнородных влияний: готических и ренессансных, византийских, немецких (так называемых «кельнских») и падуйских. Небо и части трона точно написаны учеником Мантеньи. «Rosenhag» позади трона достоин Лохнера, неподвижность строгого лика Мадонны, ее поза, ее риза, «деревянность» лежащего на коленях Младенца годились бы для русской церкви XV, XVI веков. Близок к Кривелли еще умбриец Никколо да Фолиньо (неправильно называемый Алунно), которого Морелли считал учеником и помощником Беноццо Гоццоли. Его связь с Падуей и Венецией сказывается особенно в его жестких, каменистых пейзажах. Пейзажи и вообще «декорации» других художников того же круга, как-то: Пьетро Алеманни (немца по происхождению), Витторе Кривелли (брата Карло?), Стефано Фолькетти и Кола дАматриче – не представляют чего-либо выдающегося. Красив, впрочем, пейзаж на картине последнего «Успение Богородицы» в Риме (Капитолий), носящий некоторые умбрийские черты.
[Закрыть]. Пахер мог остаться готиком, сделавшись превосходным перспективистом. Это было тем возможнее, что и ренессансист Кривелли и ему подобные художники при всей их верности принципам Скварчионе обладали душой еще вполне средневековой с глубоко внедрившимися церковными идеалами.

Карло Кривелли. Благовещенье. Национальная галерея в Лондоне.
СебастианиЛадзаро Себастиани, или Бастиани[320]320
Ладзаро Бастиани родился около 1430 года, умер в 1512 году.
[Закрыть], которого Вазари называет братом Карпаччио[321]321
Вазари усложняет свою ошибку тем, что он упоминает двух художников, Ладзаро и Себастиани, которых считает двумя братьями Карпаччио,
[Закрыть], был на самом деле художником предшествующего поколения, и черты сходства, существующие между ним и знаменитым автором «Легенды святой Урсулы», навели на предположение, что Ладзаро был учителем Карпаччио. Упоминается он в документах, во всяком случае, очень рано – в 1449 году, и принадлежность его к «падуйскому толку» очевидна[322]322
Совершенно в падуйском стиле написана картина «Pietа» Ладзаро Себастиани в венецианском С.-Антонио.
[Закрыть]. Из Падуи исходит стиль его длинных, тощих, жилистых и костлявых фигур и весь аскетический дух его картин. Подобно человеческим фигурам, тощи, измождены и все остальные формы; даже дома венецианских улиц, даже стены городов – все вытянулось, все имеет тенденцию к высоте за счет толщины. В Падуе же следует искать склонность художника к строгим перспективным построениям. Когда Себастиани пишет «Рождество», то он придает столько значения навесу, под которым происходит сцена, так тщательно вырисовывает его и добивается в нем такого рельефа, что об этом навесе только и помнишь, представляя себе эту картину[323]323
Однако очень любопытен и пейзаж в фоне этой же картины (Венецианская академия): долина между холмами, город в фоне и особенно пальмы, указывающие на желание Себастиани придать «палестинскую» couleur locale картине. Достоин внимания если и не красивый, то, во всяком случае, совершенно особенный оливковый, довольно светлый тон как этой, так и других картин мастера.
[Закрыть].
Точно так же, когда Себастиани досталось (наряду с другими первоклассными венецианскими художниками) изобразить для "Скуолы" Св. Иоанна Евангелиста одно из чудес Животворящего Креста (ныне в Венецианской академии), то он все свое усердие положил, главным образом, на правильное построение перспективы площади и церкви с открытым на улицу перистилем, тогда как карикатурно длинные фигуры в этой же картине представляются не имеющим никакого отношения к делу "стаффажем". Свое знание перспективной премудрости Ладзаро при этом выставляет с особенной нарочитостью в изображении лютни, лежащей на парапете самого первого плана[324]324
Этот мотив изображенной в ракурсе лютни часто соблазнял художников благодаря своей замысловатости; между прочим, он встречается весьма часто в интарсиях и к нему же прибегнул Дюрер в качестве примера для своих перспективных теорем.
[Закрыть].
Тем не менее связь с живописцами Венеции конца XV века и, в частности, с Карпаччио, у Себастиани большая и до известной степени объясняет ошибку Вазари, которая была исправлена лишь изысканиями Людвига. Если бы только удалось узнать подробнее жизнь и развитие этого загадочного мастера! Откуда, например, появляются у него рядом с жестокостью скварчионистов нежные линии далей, напоминающие Перуджино? Существовали ли какие-нибудь связи между ним и умбрийцами? Если уже в 1449 году Себастиани был готовым художником, то он должен был родиться, по крайней мере, в 1430 году, следовательно, он был на много лет старше Перуджино. Или же эти мягкие горизонты не его изобретение, а лишь заимствованы им у сверстника его, Джованни Беллини? Как бы то ни было, но именно пейзажи Себастиани означают, вместе с картинами Беллини, перелом в венецианской живописи, освобождение от сухой схематичности падуйцев[325]325
Принято сводить все видоизменение в стиле венецианцев второй половины XV века к влиянию Антонелло да Мессина, о котором мы будем говорить ниже. Однако мы полагаем, что это «приведение всего к одному знаменателю» есть одна из опаснейших ошибок художественной науки нашего времени. На образцах менее давнего прошлого, например, в течение XIX века, мы всегда видим, что все новое, значительное и жизнеспособное возникает от скрещивания бесчисленных разнородных явлений и при непременном обмене «почвенных» сил с такими, которые являются со стороны. Мессина, несомненно, должен был найти уже вполне подготовленную почву для своего влияния.
[Закрыть]. В высшей степени интересна как показатель этого перелома картина его в Венецианской академии «Прославление Франциска Ассизского», изображающая серафического святого восседающим на дереве. Последнее уже не тощее и высохшее дерево Скварчионе, а полный соков ствол, из которого во все стороны выступают мощные сучья, покрытые только что распустившейся, прелестно нарисованной листвой[326]326
Один из самых правдивых пейзажей XV столетия мы встречаем в любопытной картине собрания Митке в Вене, считающейся работой Бастиани или его мастерской. Этот пейзаж изображает далекую равнину, в глубине которой высятся отроги Альп.
[Закрыть], образующей чарующий прозрачный орнамент, заполняющий весь верх картины. Судя, однако, по некоторым признакам, картина эта написана после 1500 года. Напротив того, подписанная картина Себастиани в Бергамской галерее «Святая Троица», 1490 года, отличается еще чрезвычайной архаичностью.

VIII – Карпаччио
Карпаччио
Карпаччио. Прибытие послов английского короля к отцу святой Урсулы. Венецианская академия.
Рядом с полутаинственным Бастиани предполагаемый его ученик Карпаччио представляется нам совершенно знакомой и близкой личностью, но как раз зависимость Карпаччио от отжившего уже к концу XV века "скварчионизма" все же остается невыясненной[327]327
Год рождения Карпаччио неизвестен. Умер он в 1525 году. Предполагают, что он был учеником Бастиани и братьев Беллини. Возможно, что он сопутствовал Джентиле да Фабриано в его поездке в Константинополь.
[Закрыть]. Карпаччио чарующий мастер. Не будь его, жизнь расцвета Ренессанса не имела бы одного из главных ее иллюстраторов; он дает нам все лицо быта своей эпохи и, в особенности, своей родины[328]328
Согласно последним догадкам, Карпаччио был родом из самой Венеции, а не из Каподистрии, как это считалось раньше. Настоящая его фамилия была Scarpazzo, но сам он себя называл Carpatio.
[Закрыть]. Но если принять во внимание, что Карпаччио на двадцать лет моложе Мантеньи, Беллини, Кривелли и Бастиани, то он оказывается в некотором отношении художником уже отсталым; в особенности должна поражать нас его жесткость, его чопорность. Сказывается эта черта и в его «декорациях». Потрясающая композиция его в Берлинском музее «Положение в гроб», носящая поддельную подпись «Andreas Mantinea f», считается работой позднейшего времени Карпаччио, но если согласиться с этим (а отвергать подобное предположение нет веских оснований), то окажется, что Карпаччио до самого конца своей деятельности писал картины совершенно падуйского стиля, картины, полные самого строгого аскетизма.

Карпаччио. Положение во гроб. Берлинский музей.
Юное, но истощенное тело Спасителя лежит на низком столе с каменным пьедесталом и бронзовыми ножками на углах. Вокруг по голой земле разбросаны черепа, кости, иссохшие трупы. Поодаль, у оголенного дерева, присел тощий изможденный старец – совершенное подобие тех чудовищных нищих, которые видны на загадочных картинах школы деи Франчески в галерее Барберини и которые у феррарцев играют иногда роль святых анахоретов; еще несколько дальше открыта в скале гробница, перед которой с странным спокойствием беседуют какие-то турки (очевидно, изображающие Иосифа Аримафийского, Никодима и одного из апостолов). "Второй" план составлен сплошь из скал, утесов, пещер, могил и проходов. Во всех очертаниях сказывается желание произвести впечатление уныния и безысходной тоски. Лишь в низких деревьях, растущих по уступам скал, в силуэте пастушка, играющего на рожке, и в крайней правой стороне картины, в просвете на далекое пространство, на мягкое очертание приморских гор, сказывается иной, более жизнерадостный взгляд на мир.
Картина Берлинского музея не одинока в творениях Карпаччио. Каждый раз, когда представляется случай, мастер с особой любовью останавливается на подобных же пейзажных мотивах, близких к формуле "падуйской Фиваиды". В Фиваиде происходит бой св. Георгия с драконом (одна из картин очаровательного фриза в венецианской церкви Сан Джордже деи Скиавоне, относящегося к 1502-1511 гг.), под чудовищной, готовой подломиться аркой из корявых скал помещает художник Святое Семейство (музей в Caen). Он любит пустынные площади, лишь по краям окаймленные нарядными зданиями, суровые крепости, огромные голые лестницы. Когда ему приходится изображать жизнь анахоретов в пустыне, он это делает столь убедительно (смерть св. Иеронима в той же церкви Св. Георгия), что возникает предположение, не побывал ли он в Сахаре или в каких-либо захолустных, печальных монастырях Сирии.

Карпаччио. Чудо со святым крестом (в отдалении мост Риальто), фрагмент. Венецианская академия.
Даже в тех пышных картинах, в которых Карпаччио передает быт венецианских патрициев в дни, когда уже началась деятельность Джорджоне и Тициана, несмотря на все богатство форм, чувствуется его "аскетическая дисциплина", близкая к суровым формулам падуйцев. Исчезли, правда, тяжесть и "ужас" в пропорциях зданий, они сделались легкими, "ажурными". Карпаччио соперничает с лучшими венецианскими архитекторами, с Ломбарди в сочинении своих дворцов, лоджий, павильонов и башен. Однако исполнены эти архитектурные композиции далеко не в том духе, в каком сочинены. Как живописец, Карпаччио остается всегда отчеканенным, слишком прибранным, вычищенным, почти черствым. Эта черта сказывается не столь в формах, сколько в красках, в технике письма. В колорите Карпаччио доминируют глухие коричневые и оливковые оттенки, в манере их класть есть всегда что-то робкое, "графическое"[329]329
В гамме красок Карпаччио яснее всего чувствуется близость его и Себастиани; что же касается техники, то в ней он значительно свободнее своего предполагаемого учителя. Характерно для него уже то, что он пишет по довольно грубому холсту той же ткани, которой любил пользоваться Тициан. Это заставляет его в некоторых частях прибегать к приемам, которые мы бы назвали импрессионистскими. Особенно это заметно в передаче толпы на задних планах.
[Закрыть]. Неизмеримо красивее краски и несравненно более совершенна техника Джованни Беллини. От Кривелли, от Бастиани до Карпаччио расстояние не столь уж велико, а в произведениях его сотрудников, помощников и подражателей, Мансуети, Марциале, та же черта сказывается даже в уродливой степени. Характерна также для «строгости» Карпаччио его склонность ставить архитектурные формы в определенном фасовом повороте и на плоский грунт[330]330
Последняя черта, впрочем, понятна в жителе всюду одинаково плоской Венеции.
[Закрыть]. Благодаря этому, часто постройки его кажутся какимито геометрическими, не имеющими глубины, схемами.