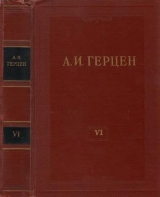
Текст книги "Том 6. С того берега. Долг прежде всего"
Автор книги: Александр Герцен
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 41 страниц)
– Уж не лучше ли молиться?.. Кому проповедовать, когда с обеих сторон падают ряды жертв? Это один парижский архиерей не знал, что во время сражения ни у кого нет уха. Погодимте еще немного; когда борьба кончится, тогда начнемте проповедовать о смерти, никто не будет мешать на обширном кладбище, на котором лягут рядом все бойцы; кому же лучше и слушать апотеозу смерти, как не мертвым? Если дела пойдут, как теперь, зрелище будет оригинальное; будущее, водворяемое погибнет вместе с дряхлым, отходящим; недоношенная демократия замрет, терзая холодную и исхудалую грудь умирающей монархии.
– Будущее, которое гибнет, не будущее. Демократия – по преимуществу настоящее; это борьба, отрицание иерархии, общественной неправды, развившейся в прошедшем; очистительный огонь, который сожжет отжившие формы и, разумеется, потухнет, когда сожигаемое кончится. Демократия не может ничего создать, это не ее дело, она будет нелепостию после смерти последнего врага; демократы только знают (говоря словами Кромвеля), чего не хотят; чего они хотят, они не знают.
– За знанием чего мы не хочем, таится предчувствие чего хочем; на этом основана мысль, которая до того часто повторялась, что совестно на нее ссылаться, – мысль о том, что каждое разрушение – своего рода создание. Человек не может довольствоваться одним разрушением, это противно его творческой натуре. Для того, чтоб он проповедовал смерть, ему нужна вера в возрождение. Христианам легко было возвещать кончину древнего мира, у них похороны совпадали с крестинами.
– У нас не одно предчувствие, но есть и нечто побольше; только мы не так легко удовлетворяемся, как христиане; у них один критериум и был – вера. Для них, конечно, было большое облегчение в незыблемой уверенности, что церковь восторжествует, что мир примет крещение; им и в голову не приходило, что крещеный ребенок выйдет не совсем по желанию духовных родителей. Христианство осталось благочестивым упованием; теперь, накануне смерти, как в первом столетии, оно утешается небом, раем; без неба оно пропало. Водворение мысли о новой жизни несравненно труднее в наше время, у нас нет неба, нет «веси божией», наша весь человеческая и должна осуществиться на той почве, на которой существует все действительное, – на земле. Тут нельзя сослаться ни на искушение диавола, ни на помощь божию, ни на жизнь за гробом. Демократия, впрочем, и не идет так далеко, она сама еще стоит на христианском берегу, в ней бездна аскетического романтизма, либерального идеализма; в ней страшная мощь разрушения, но как примется создавать, она теряется в ученических опытах, в политических этюдах. Конечно, разрушение создает, оно расчищает место, и это уж создание; оно отстраняет целый ряд лжи, и это уж истина. Но действительного творчества в демократии нет – и потому-то она не будущее. Будущее вне политики, будущее носится над хаосом всех политических и социальных стремлений и возьмет из них нитки в свою новую ткань, из которой выйдут саван прошедшему и пеленки новорожденному. Социализм соответствует назарейскому учению в Римской империи.
– Если припомнить, что вы сейчас сказали о христианстве, и продолжить сравнение, то будущность социализма незавидная, он останется вечным упованием.
– И по дороге разовьет блестящий период истории под своим благословением. Евангелие не осуществилось, да это и не нужно было; а осуществились средние века, века восстановления, века революции, но христианство проникло во все эти явления, участвовало во всем, указывало, напутствовало. Исполнение социализма представляет также неожиданное сочетание отвлеченного учения с существующими фактами. Жизнь осуществляет только ту сторону мысли, которая находит себе почву, да и почва при том не остается страдательным носителем, а дает свои соки, вносит свои элементы. Новое, возникающее из борьбы утопий и консерватизма, входит в жизнь не так, как его ожидала та или другая сторона; оно является переработанным, иным, составленным из воспоминаний и надежд, из существующего и водворяемого, из преданий и возникновений, из верований и знаний, из отживших римлян и неживших германцев, соединяемых одной церковью, чуждой обоим. Идеалы, теоретические построения никогда не осуществляются так, как они носятся в нашем уме.
– Как и для чего они приходят в голову после этого? Это какая-то ирония.
– А отчего вам хочется, чтоб в уме человека все было в обрез? что за прозаическое сведение всего на крайне нужное, на необходимо полезное, на неминуемо прилагаемое? Вспомните старика Лира, который, когда одна из дочерей уменьшала его штат и уверяла, что ему про нужду достанет, сказал ей: «Про нужду – может быть, знаешь ли ты, когда человек сводится только на то, что ему нужно, он делается зверем». Фантазия и мысль человека несравненно свободнее, нежели полагают; целые миры поэзии, лиризма, мышления, независимые до некоторой степени от окружающих обстоятельств, дремлют в душе каждого. Их будит толчок, и они просыпаются с своими видениями, решениями, теориями; мысль, опираясь на фактическое данное, стремится к их всеобщим нормам, старается ускользнуть от случайных и временных определений в логические сферы, – но от них до сфер практических очень далеко.
– Слушая ваши слова, я думал теперь, отчего у вас так много нелицеприятной справедливости, – и нашел причину: вы не ринуты в поток, вы не вовлечены в этот круговорот; посторонний всегда лучше разбирает семейные дела, нежели члены семейства. Но если б вы, как многие, как Барбес, как Маццини, работали всю жизнь, потому что внутри вашей души раздавался голос, который требовал этой деятельности, которого перекричать не было у вас возможности, потому что не поднимался из глубины оскорбленного сердца, обливающегося кровью при виде притеснения, замирающего при виде насилия; если б этот голос был не только в уме и сознании, но в крови, в нервах, и вы, следуя ему, попали бы в действительное столкновение с властью, долю жизни были бы в цепях, скитались бы изгнанником, и вдруг для вас наступила бы заря того дня, который вы ожидали полжизни, – вы бы, как Маццини, на итальянском языке, при громе рукоплесканий, говорили бы в Милане на площади, открыто, слова независимости и братства, не боясь белого мундира и желтых усов. Если б вы, после десятилетнего заключения, как Барбес, были принесены ликующей толпой на площадь того города, где вам один товарищ палача читал приговор, а другой его товарищ вас миловал пожизненными цепями; и вы бы после всего этого увидели осуществленною вашу мысль и слышали бы двухсоттысячную толпу, которая приветствует мученика криком: «Vive la République!»[43]43
«Да здравствует республика!» (франц.). – Ред.
[Закрыть], и вслед за тем вам пришлось бы увидеть Радецкого в Милане, Каваньяка в Париже и опять сделаться скитальцем, колодником; представьте к тому, что вы не имели бы утешения отнести все это на счет материальной, грубой силы, а напротив, видели бы народ, изменяющий самому себе, видели бы те же толпы, избирающие теперь, кому дать в руки нож против себя, – вы не стали бы тогда умеренно и основательно рассуждать, насколько мысль обязательна и где пределы воли. Нет, вы прокляли бы эти людские стада, любовь превратилась бы в ненависть или, хуже, в презрение. Вы, может, пошли бы в монастырь со всем атеизмом вашим.
– Это было бы доказательством, что и я слаб, подтверждением того, что все люди слабы, что мысль не только не обязательна для мира, но даже для самого человека. Но, простите, я никак не могу вам позволить свести разговор наш на личности. Замечу одно: да, я зритель, только это и не роль, и не натура моя, это мое положение; я понял его, это мое счастие; когда-нибудь поговорим обо мне, теперь мне не хочется отвлекаться. – Вы говорите, что я проклял бы народ; может быть, но это было бы очень глупо. Народы, массы – это стихии, океаниды; их путь – путь природы, они, ее ближайшие преемники, влекутся темным инстинктом, безотчетными страстями, упорно хранят то, до чего достигли, хотя бы оно было дурно; ринутые в движение, они неотразимо увлекают с собою или давят все, что попало на дороге, хотя бы оно было хорошо. Они идут, как известный индийский кумир, все встречные бросаются под его колесницу, и первые раздавленные бывают усерднейшие поклонники идола. Народы обвинять нелепо, они правы, потому что всегда сообразны обстоятельствам своей былой жизни; на них нет ответственности ни за добро, ни за зло, они факты, как урожай и неурожай, как дуб и колос. Ответственность скорее на меньшинстве, которое представляет собою сознанную мысль своего времени, хотя и оно не виновато; вообще юридическая точка зрения не годится нигде, кроме в суде, и именно потому все суды в мире никуда не годятся. Понимать и обвинять – это почти так же нелепо, как не понимать и казнить. Виновато ли меньшинство, что все историческое развитие, вся цивилизация предшествующих веков была для него, что у него ум развит на счет крови и мозга других, что оно вследствие этого далеко ушло, вперед от одичалого, неразвитого, задавленного тяжким трудом народа? Тут не вина, тут трагическая, роковая сторона истории; ни богатый не отвечает за богатство, найденное им в колыбели, ни бедный за бедность, они оба оскорблены несправедливостью, фатализмом. Если мы и имеем некоторое право требовать, чтоб страждущий, худой от голода и горя, притесненный и оскорбляемый народ отпустил нам наше неправое стяжение, наше превосходство, наше развитие, потому что мы в нем неповинны, потому что мы работаем над тем, чтоб сознательно поправить бессознательный грех, то откуда возьмем мы силу проклинать, презирать народ, который остался Каспаром Гаузером для того, чтоб мы с вами читали Данте, слушали Бетховена? Презирать за то, что он не понимает нас, пользующихся монополью понимания, – это безобразная, гнусная жестокость. Вспомните, как было дело: образованное меньшинство, долго наслаждаясь в своем исключительном положении, в своем аристократическом, литературном, художественном, правительственном круге, наконец почувствовало угрызение совести, оно вспомнило забытых братии, мысль о несправедливости общественного устройства, мысль о равенстве, как электрическая искра, облетела лучшие умы прошлого века. Книжно, теоретически поняли люди несправедливость и книжно хотели ее поправить, это позднее раскаяние меньшинства назвали либерализмом. Они, добросовестно желая вознаградить народ за тысячелетние унижения, провозгласили его самодержавным, требовали, чтоб каждый поселянин вдруг сделался политическим человеком, понял запутанные вопросы полусвободного и полурабского законодательства, оставил свою работу, т. е. кусок хлеба, и, новый Цинциннат, шел бы заниматься общественными делами. О хлебе насущном – либерализм серьезно не думал, он слишком романтик, чтоб печься о таких грубых потребностях. Либерализму легче было выдумать народ, нежели его изучить. Он налгал на него из любви не меньше того, что на него налгали другие из ненависти. Либералы сочинили свой народ a priori, построили его по воспоминаниям, из прочтенного, одели его в римскую тогу и в пастушеский наряд. О действительном народе мало думали; он жил, работал, страдал возле, около, и если его кто-нибудь знал, то это его враги – попы и легитимисты. Судьба его оставалась по-старому, зато народ вымышленный сделался кумиром в новой политической религии – елей, которым мазали чело царей, перешел на загорелое чело, покрытое морщинами и горьким потом. Не освободивши ни его рук, ни его ума, либерализм посадил народ на трон и, кланяясь ему в пояс, старался в то же время оставить власть себе. Народ поступил, как один из его представителей, Санчо-Панса, – он отказался от мнимого престола или, лучше сказать, и не садился на него. Мы начинаем понимать ложное с обеих сторон, это значит, что мы выходим на дорогу; будемте указывать ее всем, но зачем же, обертываясь назад, мы будем ругаться? Я не токмо не виню народ, но не виню и либералов; они большею частию любили народ по-своему, они много жертвовали для своей идеи, это всегда почтенно, – но они были на ложном пути. Их можно сравнить с прежними натуралистами, которые начинали и окончивали изучение природы в гербарии, в музее; все, что они знали о жизни, был труп, мертвая форма, след жизни. Честь и слава тем, которые догадались взять котомку и идти в горы, плыть за моря ловить природу и жизнь на самом деле. Но зачем же их славой, их успехами задвигать труды их предшественников? Либералы были вечные жители больших городов и маленьких кружков, люди журналов, книг, клубов, они вовсе не знали народа, они его глубокомысленно изучали по историческим источникам, по памятникам – а не по деревне, не по рынку. Больше или меньше все мы грешны в этом, отсюда недоразумения, обманутые надежды, досада, наконец отчаяние. Если б вы были знакомы с внутренней жизнию Франции, вы не удивлялись бы, что народ хочет вотировать за Бонапарта; вы знали бы, что народ французский не имеет ни малейшего понятия о свободе, ореспублике, но имеет бездну национальной гордости; он любит Бонапартов и терпеть не может Бурбонов. Бурбоны для него напоминают корвею[44]44
барщину, от corvée (франц.). – Ред.
[Закрыть], Бастилью, дворян; Бонапарты – рассказы стариков, песни Беранже, победы и, наконец, воспоминания о том, как сосед, такой же крестьянин, возвращался генералом, полковником, с Почетным Легионом на груди… и сын соседа торопится подать голос за племянника.
– Конечно, так. Одно странно, отчего же они забыли деспотизм Наполеона, его конскрипции, тиранство префектов, если у них так хороша память?
– Это очень просто, для народа деспотизм не может составить характеристики империи. Для него до сих пор все правительства были деспотизмом. Он, например, узнал республику, провозглашенную для удовольствия «Реформы», для пользы «Насионаля», – по 45-сантимному налогу, по депортациям, по тому, что бедным работникам не выдают пассов в Париж. Народ вообще плохой филолог, слово «республика» его не тешит, ему от него не легче. Слова «империя», «Наполеон» его электризуют, далее он не идет.
– Если на все смотреть таким образом, то я сам начинаю думать, что не только перестанешь сердиться и что-нибудь делать, но перестанешь иметь даже желание что-нибудь делать.
– По-моему, я говорил вам, понимать – это уж действовать, осуществлять. Вы думаете, что, когда поймешь окружающее, пройдет желание действовать, – это значило бы, что вы хотели делать не то, что надобно. Ищите в таком случае другой работы; не найдете внешней, найдете внутреннюю. Странен человек, который ничего не делает, имея дело; но ведь странен и тот, который, не имея дела, делает. Труд вовсе не клубок на нитке, который дают котенку, чтоб его занимать, он определяется не одним желанием, но и требованием на него.
– Я никогда не сомневался, что думать всегда можно, и не смешивал насильственного бездействия с произвольным безмыслием. Я предвидел, впрочем, утешительный результат, к которому вы придете, – оставаться в рассуждающем бездействии, останавливая умом сердце и критикой любовь к человечеству.
– Для того, чтоб деятельно участвовать в мире, нас окружающем, я повторяю вам, мало желания и любви к человечеству. Все это какие-то неопределенные, мерцающие понятия – что такое любить человечество? что такое самое человечество? Все это сдается мне прежними христианскими добродетелями, подогретыми на философском очаге. Народы любят соотечественников – это понятно, но что такое любовь, которая обнимает все, что перестало быть обезьяной, от эскимоса и готтентота до далай-ламы и папы, – я не могу в толк взять… что-то слишком широко. Если это та любовь, которою мы любим природу, планеты, вселенную, то я не думаю, чтоб она могла быть особенно деятельна. Или инстинкт, или понимание среды, в которой вы живете, ведут вас к деятельности? Инстинкт ваш утрачен, – утратьте ваше отвлеченное знание и станьте самоотверженно перед истиной, поймите ее, тогда вы увидите, какая деятельность нужна, какая нет. Хотите вы политической деятельности в существующем порядке, сделайтесь Маррастом, сделайтесь Одилоном Барро, и она вам будет. Вы этого не хотите, вы чувствуете, что всякий порядочный человек – совершенно посторонний во всех политических вопросах, что он не может серьезно думать – нужен или не нужен президент республике? может или нет Собрание посылать людей на каторгу без суда? или еще лучше – должно ли подать голос за Каваньяка или за Луи Бонапарта?.. Думайте месяц, думайте год, кто из них лучше, – вы не решите, оттого что они, как говорят дети, «оба хуже». Все, что остается делать человеку, уважающему себя, – вовсе не вотировать. Посмотрите на другие вопросы à l'ordre du jour[45]45
в повестке дня (франц.). – Ред.
[Закрыть] – всё то же; «они посвящены богам», смерть у них за плечами. Что делает священник, призванный к умирающему? Он не лечит его, он не возражает на его бред, а читает ему отходную. Читайте отходную, читайте смертный приговор, исполнение которого идет не по дням, а по часам; убедитесь раз навсегда, что никто из осужденных не уйдет от казни: ни самодержавие петербургского царя, ни свобода мещанской республики, да и не жалейте ни того, ни другого. Убеждайте лучше легкомысленных, поверхностных людей, которые рукоплещут падению австрийской империи и бледнеют за судьбу полуреспублики, что падение ее – такой же великий шаг к освобождению народов и мысли, как падение Австрии, что никаких исключений не надобно, никакой пощады, что время снисхождения не пришло; скажите словами либералов-реакционеров, что «амнистия – дело будущего», требуйте вместо любви к человечеству ненависти ко всему, что валяется на дороге и мешает идти вперед. Пора перевязать всех врагов развития и свободы одной веревкой так, как они перевязывают колодников, и провести их по улицам, чтоб все видели круговую поруку – французского кодекса и русского свода, Каваньяка и Радецкого, – это будет великое поучение. Кто теперь, после этих грозных, потрясающих событий не протрезвится, никогда не протрезвится и умрет каким-нибудь рыцарем Тогенбургом либерализма, как Лафайет? Террор казнил людей, наша судьба легче, мы призваны казнить учреждения, разрушать верования, отнимать надежду на старое, ломать предрассудки, касаться до всех прежних святынь без уступок, без пощады. Улыбка, привет одному возникающему, одной заре, и если мы не в силах подвинуть ее часа, то, по крайней мере, можем указывать ее близость тем, которые не видят.
– Как этот старик-нищий на Вандомской площади, который всякую ночь предлагает прохожим свой телескоп, чтоб посмотреть на дальние звезды?
– Ваше сравнение очень хорошо, именно показывайте каждому идущему мимо, как все ближе и ближе подступают, как растут и поднимаются волны карающего потока. Указывайте с тем вместе и белый парус ковчега… там вдали на горизонте. Вот вам и дело. Когда все утонет, когда все ненужное растворится и погибнет в соленой воде, когда она начнет сбывать и уцелевший ковчег остановится, тогда будет людям другое дело, много дела. Теперь нет!
Париж, 1 декабря 1848 г.
V
Consolatio[46]46
Утешение (лат.). – Ред.
[Закрыть]*
Из окрестностей Парижа мне нравится больше других Монморанси. Там ничего не бросается в глаза, ни особенно береженые парки, как в Сен-Клу, ни будуары из деревьев, как в Трианоне; а ехать оттуда не хочется. Природа в Монморанси чрезвычайно проста, она похожа на те женские лица, которые не останавливают, не поражают, но привлекают каким-то милым и доверчивым выражением, и привлекают тем сильнее, что это делается совершенно незаметно для нас. В такой природе и в таких лицах есть обыкновенно что-то трогательное, успокоивающее, и именно за этот покой, за эту каплю воды Лазарю всего больше благодарит душа современного человека, беспрерывно потрясенная, растерзанная, взволнованная. Я несколько раз находил отдых в Монморанси и за это благодарен ему. Там есть большая роща, местоположение довольно высокое, и тишина, которой под Парижем нигде нет. Не знаю отчего, но эта роща напоминает мне всегда наш русский лес… идешь и думаешь… вот сейчас пахнет дымком от овинов, вот сейчас откроется село… с другой стороны, должно быть, господская усадьба, дорога туда пошире и идет просеком, и верите ли? мне становилось грустно, что через несколько минут выходишь на открытое место и видишь вместо Звенигорода – Париж; вместо окошечка земского или попа – окошечко, в которое так долго и так печально смотрел Жан-Жак…
Именно к этому домику шли раз из рощи какие-то, повидимому, путешественники: дама лет двадцати пяти, одетая вся в черном, и мужчина средних лет, преждевременно седой. Выражение их лиц было серьезно, даже покойно. Одна долгая привычка сосредоточиваться и жизнь, обильная мыслию, событиями, дают чертам этот покой. Это не природная тишина, а тишина после бурь, после борьбы и победы.
– Вот дом Руссо, – сказал мужчина, указывая на маленькое строение, окна в три.
Они остановились. Одно окошко было немного приотворено, занавеска колебалась от ветра.
– Это движение занавески, – заметила дама, – наводит невольный страх, так и кажется – вот сейчас подозрительный и раздраженный старик ее отдернет и спросит нас, зачем мы тут стоим. Кому придет в голову, глядя на мирный домик, окруженный зеленью, что он был прометеевской скалой для великого человека, которого вся вина состояла в том, что он слишком любил людей, слишком верил в них, желал им больше добра, нежели они сами? Современники не могли ему простить, что он высказал тайное угрызение их собственной совести, и вознаграждали себя искусственным хохотом презрения, а он оскорблялся; они смотрели на поэта братства и свободы как на безумного; они боялись признать в нем разум, это значило бы признать свою глупость, а он плакал об них. За целую жизнь преданности, страстного желания помочь, любить, быть любимым, освобождать… находил он мимолетные приветы и постоянный холод, надменную ограниченность, гонения, сплетни! Мнительный и нежный от природы, он не мог стать независимо от этих мелочей и потухал, оставленный всеми, больной, в нищете. В ответ на все его стремления к симпатии, к любви, ему досталась одна Тереза, в ней сосредоточивалось для него все теплое, вся сторона сердца, – Тереза, которая не могла научиться узнавать, который час, существо неразвитое, полное предрассудков, которая стягивала жизнь Руссо в узкую подозрительность, в мещанские пересуды и кончила тем, что рассорила его с последними друзьями. Сколько горьких минут провел он, облокачиваясь на эту оконницу, с которой кормил птиц, думая, каким злом они ему заплотят! У бедного старика только и оставалось, что природа, – и он, восхищаясь ею, закрыл глаза, усталые от жизни, тяжелые от слез. Говорят, что он даже ускорил минуту покоя… на этот раз Сократ сам осудил себя на смерть за грех сознания, за преступление гениальности. Когда взглядишься серьезно во все, что делается, становится противно жить. Все на свете гадко и притом глупо; люди хлопочут, работают, ни минуты не находят отдыха, а делают всё вздор; другие хотят их вразумить, остановить, спасти – их распинают, гонят – и все это в каком-то бреду, не давая себе труда понять. Волны подымаются, торопятся, клубятся без цели, без нужды… там они разбиваются с бешенством об скалу, тут подмывают берег… мы стоим середь водоворота, бежать некуда. – Я знаю, доктор, вы не так смотрите на жизнь, она вас не сердит, потому что вы в ней ищете один физиологический интерес и мало требуете от нее, вы большой оптимист. Иногда я с вами соглашаюсь, вы меня сбиваете с толку вашей диалектикой; но как только сердце принимает участие, как только из общих сфер, где все разрешено и успокоено, коснешься живых вопросов, взглянешь на людей, душа возмущается. Подавленное на минуту негодование снова просыпается, и досадуешь об одном: что нет достаточно сил ненавидеть, презирать людей за их ленивое бездушие, за их нежелание стать выше, благороднее… если б было можно отвернуться от них! И пусть они делают что хотят в своих полипниках, пусть живут нынче, как вчера, опираясь на привычки и обряды, бессмысленно принимая на веру, что делать и чего не делать… и изменяя притом на каждом шагу своей собственной нравственности, своему собственному катехизису!
– Я не думаю, чтоб вы были справедливы. Разве люди виноваты в вашем доверии к ним, в вашем идеальном понятии об их нравственном достоинстве?
– Я не понимаю что вы говорите, я сейчас сказала совершенно противуположное. Кажется, это не верх доверия, когда говорят об людях, что у них ничего нет, кроме мученических венцов для всякого пророка и бесполезного раскаяния после их смерти; что они готовы броситься как звери, на того, кто, заменяя их совесть, назовет их дела; кто, снимая на себя их грехи, хочет разбудить их сознание.
– Да, но вы забываете источник вашего негодования? Вы сердитесь на людей за многое, чего они не сделали, потому что вы считаете их способными на все эти прекрасные свойства, к которым вы воспитали себя или к которым вас воспитали, – но они по большей части этого развития не имели. Я не сержусь, потому что и не жду от людей ничего, кроме того, что они делают; я не вижу ни повода, ни права требовать от них чего-нибудь другого, нежели что они могут дать, а могут они дать то, что дают; требовать больше, обвинять – ошибка, насилие. Люди только справедливы к безумным и к совершенным дуракам, их, по крайней мере, мы не обвиняем за дурное устройство мозга, им прощаем природные недостатки; с остальными страшная моральная требовательность. Почему мы ждем от всех встречных на улице примерных доблестей, необыкновенного понимания – я не знаю; вероятно, по привычке все идеализировать, все судить свысока – так, как обыкновенно судят жизнь по мертвой букве, страсть по кодексу, лицо по родовому понятию. Я иначе смотрю, я привык к взгляду врача, к взгляду, совершенно противуположному – судьи. Врач живет в природе, в мире фактов и явлений, он не учит, он учится; он не мстит, а старается облегчить; видя страдание, видя недостатки, он ищет причину, связь, он ищет средств в том же мире фактов. Нет средств, он грустно пожимает плечами, досадует на свое неведение – и не думает о наказании, о пени, не порицает. Взгляд судьи проще, ему, собственно, взгляда и не надобно, недаром Фемиду представляют с завязанными глазами, она тем справедливее, чем меньше видит жизнь; наш брат, напротив, хотел бы, чтобы пальцы и уши имели глаза. Я не оптимист и не пессимист, я смотрю, вглядываюсь, без заготовленной темы, без придуманного идеала, и не тороплюсь с приговором – я просто, извините, скромнее вас.
– Не знаю, так ли я вас поняла, но, мне кажется, вы находите очень естественным, что современники Руссо его мучили маленькими преследованиями, отравили ему жизнь, оклеветали его; вы им отпускаете их грехи, это очень снисходительно, не знаю, насколько справедливо и нравственно.
– Для того, чтоб отпускать грехи, надобно прежде обвинять; я этого не делаю. Впрочем, пожалуй, я приму ваше выражение, да, я отпускаю им зло, ими причиненное, так, как вы отпускаете холодной погоде, которая на днях простудила вашу малютку. Можно ли сердиться на события, которые независимы ни от чьей воли, ни от чьего сознания? Они иногда бывают очень тяжелы для нас; но обвинение не поможет, а только запутает. Когда мы с вами сидели у кроватки больной и горячка так развернулась, что я сам испугался, мне было бесконечно горько смотреть и на больную и на вас; вы так много страдали в эти часы – но вместо того, чтоб проклинать дурной состав крови и с ненавистию смотреть на законы органической химии, я думал тогда о другом, а именно о том, как возможность понимать, чувствовать, любить, привязываться необходимо влечет за собою противуположную возможность несчастия, страданий, лишений, нравственных оскорблений, горечи. Чем нежнее развивается внутренняя жизнь, тем жестче, губительнее для нее капризная игра случайности, на которой не лежит никакой ответственности за ее удары.
– Я сама не обвиняла болезнь. Ваше сравнение не совсем идет; природа вовсе не имеет сознания.
– А я думаю, что и на полусознательную массу людей нельзя сердиться; взойдите в ее состояние борьбы между предчувствием света и привычкой к темноте. Вы берете за норму береженые, особенно удавшиеся оранжерейные цветы, за которыми было бездна уходу, и сердитесь, что полевые не так хороши. Не только это несправедливо, но это чрезвычайно жестоко. Если б у большинства людей было сознание сколько-нибудь светлее, неужели вы думаете, что они могли бы жить в том положении, в котором живут? Они не только зло делают другим, но и себе, и это именно их извиняет. Ими владеет привычка, они умирают от жажды возле колодца и не догадываются, что в нем вода, потому что их отцы им этого не сказали. Люди всегда были такие, пора, наконец, перестать дивиться, негодовать; можно было привыкнуть со времен Адама. Это тот же романтизм, который заставлял поэтов сердиться за то, что у них есть тело, за то, что они чувствуют голод. Сердитесь сколько хотите, но мира никак не переделаете по какой-нибудь программе; он идет своим путем, и никто не в силах его сбить с дороги. Узнавайте этот путь – и вы отбросите нравоучительную точку зрения, и вы приобретете силу. Моральная оценка событий и журьба людей принадлежат к самым начальным ступеням понимания. Оно лестно самолюбию – раздавать Монтионовские премии и читать выговоры, принимая мерилом самого себя, – но бесполезно. Есть люди, которые пробовали внести этот взгляд в самую природу и сделали разным зверям прекрасные или прескверные репутации. Увидали, например, что заяц бежит от неминуемой опасности, и назвали его трусом; увидали, что лев, который в двадцать раз больше зайца, не бежит от человека, а иногда его съедает, – стали его считать храбрым; увидали, что лев сытый не ест, – сочли это за величие духа; а заяц столько же трус, сколько лев великодушен и осел глуп. Нельзя больше останавливаться на точке зрения Эзоповых басен; надобно смотреть на мир природы и на мир людской проще, покойнее, яснее. Вы говорите о страданиях Руссо. Он был несчастлив, это правда, но и это правда, что страдания всегда сопровождают необыкновенное развитие, натура гениальная может иногда не страдать, сосредоточиваясь в себе, довольствуясь собою, наукой, искусством; но в практических сферах никак. Дело очень простое: такие натуры, входя в обычные людские отношения, нарушают равновесие; среда, их окружающая, им узка, невыносима, их жмут отношения, рассчитанные по иному росту, по иным плечам и необходимые для тех плеч. Все, что давило по мелочи того, другого, все, о чем толковали вразбивку и чему покорялись обыкновенные люди, все это вырастает в нестерпимую боль в груди сильного человека, в грозный протест, в явную вражду, в смелый вызов на бой; отсюда неминуемо столкновение с современниками; толпа видит презрение к тому, что она хранит, и бросает в гения каменьями и грязью, до тех пор пока поймет, что он был прав. Виноват ли гений, что он выше толпы, виновата ли толпа, что она его не понимает?








