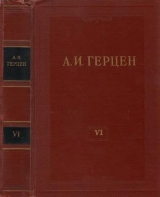
Текст книги "Том 6. С того берега. Долг прежде всего"
Автор книги: Александр Герцен
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 41 страниц)
I
Перед грозой (Разговор на палубе)*
…Я согласен, что в вашем взгляде много смелости, силы, правды, много юмору даже; но принять его не могу; может, это дело организации, нервной системы. У вас не будет последователей, пока вы не научитесь переменять крови в жилах.
– Быть может. Однако мой взгляд начинает вам нравиться, вы отыскиваете физиологические причины, обращаетесь к природе.
– Только наверное не для того, чтоб успокоиться, отделаться от страданий, смотреть в безучастном созерцании с высоты олимпического величия, как Гёте, на треволненный мир и любоваться брожением этого хаоса, бессильно стремящегося установиться.
– Вы становитесь злы, но ко мне это не относится; если я старался уразуметь жизнь, у меня в этом не было никакой цели, мне хотелось что-нибудь узнать, мне хотелось заглянуть подальше; все слышанное, читанное не удовлетворяло, не объясняло, а, напротив, приводило к противуречиям или к нелепостям. Я не искал для себя ни утешения, ни отчаяния, и это потому, что был молод; теперь я всякое мимолетное утешение, всякую минуту радости ценю очень дорого, их остается все меньше и меньше. Тогда я искал только истины, посильного пониманья; много ли уразумел, много ли понял, не знаю. Не скажу, чтоб мой взгляд был особенно утешителен, но я стал покойнее, перестал сердиться на жизнь за то, что она не дает того, чего не может дать, – вот все выработанное мною.
– Я, с своей стороны, не хочу перестать ни сердиться, ни страдать, это такое человеческое право, что я и не думаю поступиться им; мое негодование – мой протест; я не хочу мириться.
– Да и не с кем. Вы говорите, что вы не хотите перестать страдать; это значит, что вы не хотите принять истины так, как она откроется вашей собственной мыслию, – может, она и не потребует от вас страданий; вы вперед отрекаетесь от логики, вы предоставляете себе по выбору принимать и отвергать последствия. Помните того англичанина, который всю жизнь не признавал Наполеона императором, что тому не помешало два раза короноваться. В таком упорном желании оставаться в разрыве с миром – не только непоследовательность, но бездна суетности; человек любит эффект, ролю, особенно трагическую; страдать хорошо, благородно, предполагает несчастие. Это еще не всё – сверх суетности тут бездна трусости. Не сердитесь за слово, из-за боязни узнать истину, многие предпочитают страдание – разбору; страдание отвлекает, занимает, утешает… да, да, утешает; а главное, как всякое занятие, оно мешает человеку углубляться в себя, в жизнь. Паскаль говорил, что люди играют в карты для того, чтоб не оставаться с собой наедине. Мы постоянно ищем таких или других карт, соглашаемся даже проигрывать, лишь бы забыть дело. Наша жизнь – постоянное бегство от себя, точно угрызения совести преследуют, пугают нас. Как только человек становится на свои ноги, он начинает кричать, чтоб не слыхать речей, раздающихся внутри; ему грустно – он бежит рассеяться; ему нечего делать – он выдумывает занятие; от ненависти к одиночеству – он дружится со всеми, все читает, интересуется чужими делами, наконец, женится на скорую руку. Тут гавань, семейный мир и семейная война не дадут много места мысли; семейному человеку как-то неприлично много думать; он не должен быть настолько празден. Кому и эта жизнь не удалась, тот напивается допьяна всем на свете – вином, нумизматикой, картами, скачками, женщинами, скупостью, благодеяниями; ударяется в мистицизм, идет в иезуиты, налагает на себя чудовищные труды, и они ему все-таки легче кажутся, нежели какая-то угрожающая истина, дремлющая внутри его. В этой боязни исследовать, чтоб не увидать вздор исследуемого, в этом искусственном недосуге, в этих поддельных несчастиях, усложняя каждый шаг вымышленными путами, мы проходим по жизни спросонья и умираем в чаду нелепости и пустяков, не пришедши путем в себя. Престранное дело: во всем, не касающемся внутренних, жизненных вопросов, люди умны, смелы, проницательны; они считают себя, например, посторонними природе и изучают ее добросовестно; тут другая метода, другой прием. Не жалко ли так бояться правды, исследования? Положим, что много мечтаний поблекнут, будет не легче, а тяжеле – все же нравственнее, достойнее, мужественнее не ребячиться. Если б люди смотрели друг на друга, как смотрят на природу, смеясь сошли бы они с своих пьедесталей и курульных кресел, взглянули бы на жизнь проще, перестали бы выходить из себя за то, что жизнь не исполняет их гордые приказы и личные фантазии. Вы, например, ждали от жизни совсем не то, что она вам дала; вместо того, чтоб оценить то, что она вам дала, вы негодуете на нее. Это негодование, пожалуй, хорошо, – острая закваска, влекущая человека вперед, к деятельности, к движению; но ведь это один начальный толчок, нельзя же только негодовать, проводить всю жизнь в оплакивании неудач, в борьбе и досаде. Скажите откровенно: чем вы искали убедиться, что требования ваши истинны?
– Я их не выдумывал, они невольно родились в моей груди; чем больше я размышлял об них потом, тем яснее раскрывалась мне их справедливость, их разумность – вот мои доказательства. Это вовсе не уродство, не помешательство; тысячи других, все наше поколение страдает почти так же, больше или меньше, смотря по обстановке, по степени развития – и тем больше, чем больше развития. Повсюдная скорбь – самая резкая характеристика нашего времени; тяжелая скука налегла на душу современного человека, сознание нравственного бессилия его томит, отсутствие доверия к чему бы то ни было старит его прежде времени. Я на вас смотрю как на исключение, да и, сверх того, ваше равнодушие мне подозрительно, оно сбивается на охладившееся отчаяние, на равнодушие человека, который потерял не только надежду, но и безнадежность; это неестественный покой. Природа, истинная во всем, что делает, как вы повторяли несколько раз, должна быть истинна и в этом явлении скорби, тягости, всеобщность его дает ему некоторое право. Сознайтесь, что именно с вашей точки зрения довольно трудно возражать на это.
– На что же непременно возражать; я ничего лучше не прошу, как соглашаться с вами. Тягостное состояние, о котором вы говорите, очевидно и, конечно, имеет право на историческое оправдание и еще более на то, чтоб сыскать выход из него. Страдание, боль – это вызов на борьбу, это сторожевой крик жизни, обращающий внимание на опасность. Мир, в котором мы живем, умирает, т. е. те формы, в которых проявляется жизнь; никакие лекарства не действуют более на обветшалое тело его; чтоб легко вздохнуть наследникам, надобно его похоронить, а люди хотят непременно его вылечить и задерживают смерть. Вам, верно, случалось видеть удручающую грусть, томительную, тревожную неизвестность, которая распространяется в доме, где есть умирающий; отчаяние усиливается надеждой, нервы у всех натянуты, здоровые больны, дела не идут. Смерть больного облегчает душу оставшихся; льются слезы, но нет более убийственного ожидания, несчастие перед глазами, во весь рост, безвозвратное, отрезавшее все надежды, и жизнь начинает врачевать, примирять, брать новый оборот. Мы живем во время большой и трудной агонии, это достаточно объясняет нашу тоску. К тому же предшествовавшие века особенно воспитали в нас грусть, болезненное томление. Три столетия тому назад все простое, здоровое, жизненное было еще подавлено; мысль едва осмеливалась поднимать свой голос, ее положение было похоже на положение жидов в средних веках, лукавое по необходимости, рабское, озирающееся. Под этими влияниями сложился наш ум, он вырос, возмужал внутри этой нездоровой сферы; от католического мистицизма он естественно перешел в идеализм и сохранил боязнь всего естественного, угрызения обманутой совести, притязания на невозможные блага; он остался при разладе с жизнию, при романтической тоске, он воспитал себя в страдания и разорванность. Давно ли мы, застращенные с детства, перестали отказываться от самых невинных побуждений? давно ли мы перестали содрогаться, находя внутри своей души страстные порывы, не взошедшие в каталог романтического тарифа? Вы давеча сказали, что мучащие вас требования развились естественно; оно и так и нет – все естественно, золотуха очень естественно происходит от дурного питанья, от дурного климата, но мы ее все же считаем чем-то чужим организму. Воспитание поступает с нами, как отец Аннибала с своим сыном. Оно берет обет прежде сознания, опутывает нас нравственной кабалой, которую мы считаем обязательною по ложной деликатности, по трудности отделаться от того, что привито так рано, наконец, от лени разобрать, в чем дело. Воспитание нас обманывает прежде, нежели мы в состоянии понимать, уверяет в невозможном детей, отрезывает им свободное и прямое отношение к предмету. Подрастая, мы видим, что ничто не ладится, ни мысль, ни быт; что то, на что нас учили опираться, – гнило, хрупко, а от чего предостерегали, как от яду, – целебно; забитые и одураченные, приученные к авторитету и указке, мы выходим с летами на волю, каждый своими силами добирается до истины, борясь, ошибаясь. Томимые желанием знать, мы подслушиваем у дверей, стараемся разглядеть в щель; кривя душой, притворяясь, мы считаем правду за порок и презрение ко лжи за дерзость. Мудрено ли после этого, что мы не умеем уладить ни внутреннего, ни внешнего быта, лишнее требуем, лишнее жертвуем, пренебрегаем возможным и негодуем за то, что невозможное нами пренебрегает; возмущаемся против естественных условий жизни и покоряемся произвольному вздору. Вся наша цивилизация такова, она выросла в нравственном междоусобии; вырвавшись из школ и монастырей, она не вышла в жизнь, а прошлась по ней, как Фауст, чтоб посмотреть, порефлектировать и потом удалиться от грубой толпы в гостиные, в академию, в книги. Она совершила весь свой путь с двумя знаменами в руках; «романтизм для сердца» было написано на одном, «идеализм для ума» – на другом. Вот откуда идет большая доля неустройства в нашей жизни. Мы не любим простого, мы не уважаем природу по преданию, хотим распоряжаться ею, хотим лечить заговориванием и удивляемся, что больному не лучше; физика нас оскорбляет своей независимой самобытностью, нам хочется алхимии, магии; а жизнь и природа равнодушно идут своим путем, покоряясь человеку по мере того, как он выучивается действовать их же средствами.
– Вы, кажется, меня считаете немецким поэтом, и то еще прошлой эпохи, которые сердились за то, что у них есть тело, за то, что они едят, и искали неземных дев, «иную природу, другого солнца». Мне не хочется ни магии, ни мистерии, а просто выйти из того состояния души, которое вы сейчас представили в десять раз резче меня; выйти из нравственного бессилия, из жалкой неприлагаемости убеждений, из хаоса, в котором, наконец, мы перестали понимать, кто враг и кто друг; мне противно видеть, куда ни обернусь, или пытаемых, или пытающих. Какое колдовство нужно на то, чтоб растолковать людям, что они сами виноваты в том, что им так скверно жить, объяснить им, например, что не надобно грабить нищего, что противно объедаться возле умирающего с голоду, что убийство равно отвратительно ночью на большой дороге тайком и днем открыто на большой площади при барабанном бое; что одно говорить, а другое делать – подло… словом, все те новые истины, которые говорят, повторяют, печатают со времен семи греческих мудрецов, – да и тогда, я думаю, они уже были очень стары. Моралисты, попы гремят с кафедр, толкуют о нравственности, о грехах, читают евангелие, читают Руссо – никто не возражает, и никто не исполняет.
– По совести, жалеть об этом нечего. Все эти учения и проповеди по большей части неверны, неудобоисполнимы и сбивчивее простого обычного быта. Беда в том, что мысль забегает всегда далеко вперед, народы не поспевают за своими учителями; возьмите наше время, несколько человек коснулись переворота, который совершить не в силах ни они сами, ни народы. Передовые думали, что стоит сказать: «Брось одр твой и иди за нами» – все и двинется; они ошиблись, народ их так же мало знал, как они его, им не поверили. Не замечая, что за ними никого нет, эти люди предводительствовали, шли вперед; спохватившись, они стали кричать отставшим, махать, звать их, осыпать упреками, – но поздно, слишком далеко, голоса недостает, да и язык их не тот, которым говорят массы. Нам больно сознаться, что мы живем в мире, выжившем из ума, дряхлом, истощенном, у которого явным образом недостает силы и поведения, чтоб подняться на высоту собственной мысли; нам жаль старый мир, мы к нему привыкли, как к родительскому дому, мы поддерживаем его, стараясь его разрушить, и прилаживаем к своим убеждениям его неспособные формы, не видя, что первая йота их – его смертный приговор. Мы носим платья, шитые не по нашей мерке, а по мерке наших прадедов, мозг наш образовался под влиянием предшествующих обстоятельств, он многого не осиливает, многое видит под ложным углом. Люди с таким трудом добились до современного быта, он им кажется такою счастливой пристанью после безумия феодализма и тупого гнета, следовавшего за ним, что они боятся изменять его, они отяжелели в его формах, обжились в них, привычка заменила привязанность, горизонт сжался… размах мысли сделался мал, воля ослабла.
– Прекрасная картина; добавьте, что возле этих удовлетворенных, которым современный порядок по плечу, с одной стороны бедный, неразвитый народ, одичалый, отсталый, голодный, в безвыходной борьбе с нуждой, в изнуряющей работе, которая не может его пропитать; а с другой – мы, неосторожно забежавшие вперед, землемеры, вбивающие вехи нового мира, – и которые никогда не увидим даже выведенного фундамента. От всех упований, от всей жизни, которая прошла между рук (да еще как прошла), если что-нибудь осталось, то это вера в будущее; когда-нибудь, долго после нашей смерти, дом, для которого мы расчистили место, выстроится, и в нем будет удобно и хорошо – другим.
– Впрочем, нет причины думать, что новый мир будет строиться по нашему плану…
…Молодой человек сделал недовольное движение головой и посмотрел с минуту на море – совершеннейший штиль продолжался; тяжелая туча едва двигалась над головами, так низко, что дым парохода, стелясь, мешался с ней, – море было черно, воздух не освежал.
– Вы со мною поступаете, – сказал он, помолчав, – так, как разбойники с путешественниками; ограбивши у меня все, вам кажется еще мало, вы добираетесь до последнего рубища, которое меня предохраняет от стужи, до моих волос; вы заставили меня сомневаться в многом, у меня оставалось будущее – вы отнимаете его, вы грабите мои надежды, вы убиваете сны, как Макбет.
– А я думал, что я больше похож на хирурга, который вырезывает дикое мясо.
– Пожалуй, это еще лучше, хирург отрезывает больную часть тела, не заменяя ее здоровой.
– И по дороге спасает человека, освобождая его от тяжелых уз застарелой болезни.
– Знаем мы ваше освобождение. Вы отворяете двери темницы и хотите вытолкнуть колодника в степь, уверяя его, что он свободен; вы ломаете Бастилью, но не воздвигаете ничего в замену острога, остается одно пустое место.
– Это было бы чудесно, если б было так, как вы говорите; худо то, что развалины, мусор мешают на каждом шагу.
– Чему мешают? Где, в самом деле, наше призвание, где наше знамя? во что мы верим, во что не верим?
– Верим во все, не верим в себя; вы ищете найти знамя, а я ищу потерять его; вы хотите указку, а мне кажется, что в известный возраст стыдно читать с указкой. Вы сейчас сказали, что мы вбиваем вехи новому миру…
– И их вырывает из земли дух отрицания и разбора. Вы несравненно мрачнее меня смотрите на мир и утешаете только для того, чтоб еще ужаснее выразить современную тягость. Если и будущее не наше, тогда вся наша цивилизация – ложь, мечта пятнадцатилетней девочки, над которой она сама смеется в двадцать пять лет; наши труды – вздор, наши усилия смешны, наши упования похожи на ожидания дунайского мужика. Впрочем, может быть, вы то и хотите сказать, чтоб мы бросили нашу цивилизацию, отказались от нее, воротились бы к отставшим.
– Нет, отказаться от развития невозможно. Как сделать, чтоб я не знал того, что знаю? Наша цивилизация – лучший цвет современной жизни, кто же поступится своим развитием?
Но какое же это имеет отношение к осуществлению наших идеалов, где лежит необходимость, чтобы будущее разыгрывало нами придуманную программу?
– Стало быть, наша мысль привела нас к несбыточным надеждам, к нелепым ожиданиям; с ними, как с последним плодом наших трудов, мы захвачены волнами на корабле, который тонет. Будущее не наше, в настоящем нам нет дела; спасаться некуда, мы с этим кораблем связаны на живот и на смерть, остается сложа руки ждать, пока вода зальет, – а кому скучно, кто поотважнее, тот может броситься в воду.
– Я ничего лучше не прошу, но только есть разница между cпасаться вплавь и топиться. Судьба молодых людей, которых вы напомнили этой песнью, страшна; сугубые страдальцы, мученики без веры, смерть их пусть падет на страшную среду, в которой они жили, пусть обличает ее, позорит; но кто же вам сказал, что нет другого выхода, другого спасения из этого мира старчества и агонии – как смерть? Вы оскорбляете жизнь. Оставьте мир, к которому вы не принадлежите, если вы действительно чувствуете, что он вам чужд. Его не спасем – спасите себя от угрожающих развалин; спасая себя, вы спасете будущее. Что вы имеете общего с этим миром – его цивилизацию? Но ведь она теперь принадлежит вам, а не ему, он произвел ее, или, лучше сказать, из него произвели ее, он не грешен даже в понимании ее; его образ жизни – он вам ненавистен, да и, по правде, трудно любить такую нелепость. Ваши страдания – он и не подозревает; ваши радости ему незнакомы; вы молоды – он стар; посмотрите, как он осунулся в своей изношенной, аристократической ливрее, особенно после тридцатого года, лицо его подернулось матовой землистостью. Это facies hypocratica[8]8
гиппократово лицо (лат.). – Ред.
[Закрыть], по которой доктора узнают, что смерть уже занесла косу. Бессильно усиливается он иногда еще раз схватить жизнь, еще раз овладеть ею, отделаться от болезни, насладиться – не может и впадает в тяжкий, горячечный полусон. Тут толкуют о фаланстерах, демократиях, социализме, он слушает и ничего не понимает – иногда улыбается таким речам, покачивая головою и вспоминая мечты, которым и он верил когда-то, потом взошел в разум и давно не верит… Оттого-то он старчески равнодушно смотрит на коммунистов и иезуитов, на пасторов и якобинцев, на братьев Ротшильд и на умирающих с голоду; он смотрит на все несущееся перед глазами, – сжавши в кулак несколько франков, за которые готов умереть или сделаться убийцей. Оставьте старика доживать как знает свой век в богадельне, вы для него ничего не сделаете.
– Это не так легко, не говоря о том, что оно противно, – куда бежать? Где эта новая Пенсильвания, готовая?..
– Для старых построек из нового кирпича? Вильям Пени вез с собою старый мир на новую почву; Северная Америка – исправленное издание прежнего текста, не более. А христиане в Риме перестали быть римлянами – этот внутренний отъезд полезнее.
– Мысль сосредоточиться в себе, оторвать пуповину, связующую нас с родиной, с современностью, проповедуется давно, но плохо осуществляется; она является у людей после всякой неудачи, после каждой утраченной веры, на ней опирались мистики и масоны, философы и иллюминаты; все они указывали на внутренний отъезд – никто не уехал. Руссо? – и тот отворачивался от мира; страстно любя его, он отрывался от него – потому что не мог быть без него. Ученики его продолжали его жизнь в Конвенте, боролись, страдали, казнили других, снесли свою голову на плаху, но не ушли ни вон из Франции, ни вон из кипевшей деятельности.
– Их время нисколько не было похоже на наше. У них впереди была бездна упований. Руссо и его ученики воображали, что если их идеи братства не осуществляются, то это от материальных препятствий – там сковано слово, тут действие не вольно – и они, совершенно последовательно, шли грудью против всего мешавшего их идее; задача была страшная, гигантская, но они победили. Победивши, они думали: вот теперь-то… но теперь-то их повели на гильотину, и это было самое лучшее, что могло с ними случиться: они умерли с полной верой, их унесла бурная волна середи битвы, труда, опьяненья; они были уверены, что, когда возвратится тишина, их идеал осуществится без них, но осуществится. Наконец этот штиль пришел. Какое счастие, что все эти энтузиасты давно были схоронены! Им бы пришлось увидеть, что дело их не подвинулось ни на вершок, что их идеалы остались идеалами, что недостаточно разобрать по камешку Бастилью, чтоб сделать колодников свободными людьми. Вы сравниваете нас с ними, забывая, что мы знаем события пятидесяти лет, прошедших после их смерти, что мы были свидетелями, как все упования теоретических умов были осмеяны, как демоническое начало истории нахохоталось над их наукой, мыслию, теорией, как оно из республики сделало Наполеона, из революции 1830 г. биржевой оборот. Свидетели всего бывшего, мы не можем иметь надежды наших предшественников. Глубже изучивши революционные вопросы, мы требуем теперь и больше и шире того, что они требовали, а их-то требования остались тою же неприлагаемостью, как были. С одной стороны, вы видите логическую последовательность мысли, ее успех; с другой – полное бессилие ее над миром – глухим, немым, бессильным схватить мысль спасения так, как она высказывается ему, – потому ли, что она дурно высказывается, или потому, что имеет только теоретическое, книжное значение, как, например, римская философия, не выходившая никогда из небольшого круга образованных людей.
– Но кто же, по-вашему, прав – мысль ли теоретическая, которая точно так же развилась и сложилась исторически, но сознательно, или факт современного мира, отвергающий мысль и представляющий, так же, как она, необходимый результат прошедшего?
– Оба совершенно правы. Вся эта запутанность выходит из того, что жизнь имеет свою эмбриогению, не совпадающую с диалектикой чистого разума. Я помянул древний мир, вот вам пример: вместо того, чтоб осуществлять республику Платона и политику Аристотеля, он осуществляет римскую республику и политику их завоевателей; вместо утопий Цицерона и Сенеки – Лангобардские графства и германское право.
– Не пророчите ли вы и нашей цивилизации такую же гибель, как римской? – утешительная мысль и прекрасная перспектива…
– Не прекрасная и не дурная. Отчего вас удивляет мысль, которая до пошлости известна, что все на свете преходяще? Впрочем, цивилизации не гибнут, пока род человеческий продолжает жить без совершенного перерыва, – у людей память хороша; разве римская цивилизация не жива для нас? А она точно так же, как наша, вытянулась далеко за пределы окружавшей жизни; именно от этого она с одной стороны и расцвела так пышно, так великолепно, а с другой не могла фактически осуществиться. Она принесла свое миру современному, она приносит многое нам, но ближайшее будущее Рима прозябало на других пажитях – в катакомбах, где прятались гонимые христиане, в лесах, где кочевали дикие германы.
– Как же это в природе все так целеобразно, а цивилизация, высшее усилие, венец эпохи, выходит бесцельно из нее, выпадает из действительности и увядает наконец, оставляя по себе неполное воспоминание? – Между тем человечество отступает назад, бросается в сторону и начинает сызнова тянуться, чтоб окончить таким же махровым цветом – пышным, но лишенным семян… В вашей философии истории есть что-то возмущающее душу – для чего эти усилия? – жизнь народов становится праздной игрой, лепит, лепит по песчине, по камешку, а тут опять все рухнется наземь, и люди ползут из-под развалин, начинают снова расчищать место да строить хижины изо мха, досок и упадших капителей, достигая веками, долгим трудом – падения. Шекспир недаром сказал, что история – скучная сказка, рассказанная дураком.
– Это уж такой печальный взгляд у вас. Вы похожи на тех монахов, которые при встрече ничего лучшего не находят сказать друг другу, как мрачное memento mori[9]9
помни о смерти (лат.). – Ред.
[Закрыть] или на тех чувствительных людей, которые не могут вспомнить без слез, что «люди родятся для того, чтоб умереть». Смотреть на конец, а не на самое дело – величайшая ошибка. На что растению этот яркий, пышный венчик, на что этот упоительный запах, который пройдет совсем ненужно? Но природа вовсе не так скупа и не так пренебрегает мимоидущим, настоящим, она на каждой точке достигает всего, чего может достигнуть, идет донельзя, до запаха, до наслаждения, до мысли… до того, что разом касается до пределов развития и до смерти, которая осаживает, умеряет слишком поэтическую фантазию и необузданное творчество ее. Кто же станет негодовать на природу за то, что цветы утром распускаются, а вечером вянут, что она розе и лилее не умеет придавать прочности кремня? И этот-то бедный, прозаический взгляд мы хотим перенести в исторический мир! Кто ограничил цивилизацию одним прилагаемым? – где у нее забор? Она бесконечна, как мысль, как искусство, она чертит идеалы жизни, она мечтает апотеозу своего собственного быта, но на жизни не лежит обязанность исполнять ее фантазии и мысли, тем более что это было бы только улучшенное издание того же, а жизнь любит новое. Цивилизация Рима была гораздо выше и человечественнее, нежели варварский порядок; но в его нестройности были зародыши развития тех сторон, которых вовсе не было в римской цивилизации, и варварство восторжествовало, несмотря ни на Corpus juris civilis[10]10
Свод гражданских законов (лат.). – Ред.
[Закрыть], ни на мудрое воззрение римских философов. Природа рада достигнутому и домогается высшего; она не хочет обижать существующее; пусть оно живет, пока есть силы, пока новое подрастает. Вот отчего так трудно произведения природы вытянуть в прямую линию, природа ненавидит фрунт, она бросается во все стороны и никогда не идет правильным маршем вперед. Дикие германы были в своей непосредственности, potentialiter[11]11
потенциально (лат.). – Ред.
[Закрыть], выше образованных римлян.
– Я начинаю подозревать, что вы поджидаете нашествие варваров и переселение народов.
– Я гадать не люблю. Будущего нет, его образует совокупность тысячи условий, необходимых и случайных, да воля человеческая, придающая нежданные драматические развязки и coups de théâtre[12]12
театральные эффекты (франц.). – Ред.
[Закрыть]. История импровизируется, редко повторяется, она пользуется всякой нечаянностью, стучится разом в тысячу ворот… которые отопрутся… кто знает?
– Может, бальтийские – и тогда Россия хлынет на Европу?
– Может быть.
– И вот мы, долго мудрствуя, пришли опять к беличьему колесу, опять к corsi и ricorsi старика Вико. Опять возвратились к Рее, беспрерывно рождающей в страшных страданиях детей, которыми закусывает Сатурн. Рея только стала добросовестна и не подменивает новорожденных каменьями, да и не стоит труда, в числе их нет ни Юпитера, ни Марса… Какая цель всего этого? Вы обходите этот вопрос, не решая его; стоит ли детям родиться для того, чтоб отец их съел, да вообще стоит ли игра свеч?
– Как не стоит! тем более что не вы за них платите. Вас смущает, что не все игры доигрываются, но без этого они были бы нестерпимо скучны. Гёте давным-давно толковал, что красота проходит, потому что только преходящее и может быть красиво, – это обижает людей. У человека есть инстинктивная любовь к сохранению всего, что ему нравится; родился – так хочет жить во всю вечность; влюбился – так хочет любить и быть любимым во всю жизнь, как в первую минуту признания. Он сердится на жизнь, видя, что в пятьдесят лет нет той свежести чувств, той звонкости их, как в двадцать. Но такая неподвижная стоячесть противна духу жизни, – она ничего личного, индивидуального не готовит впрок, – она всякий раз вся изливается в настоящую минуту и, наделяя людей способностью наслаждения насколько можно, не страхует ни жизни, ни наслаждения, не отвечает за их продолжение. В этом беспрерывном движении всего живого, в этих повсюдных переменах природа обновляется, живет, ими она вечно молода. Оттого каждый исторический миг полон, замкнут по-своему, как всякий год с весной и летом, с зимой и осенью, с бурями и хорошей погодой. Оттого каждый период нов, свеж, исполнен своих надежд, сам в себе носит свое благо и свою скорбь, настоящее принадлежит ему, но людям этого мало, им хочется, чтоб и будущее было их.
– Человеку больно, что он и в будущем не видит пристани, к которой стремится. Он с тоскливым беспокойством смотрит перед собою на бесконечный путь и видит, что так же далек от цели, после всех усилий, как за тысячу лет, как за две тысячи лет.
– А какая цель песни, которую поет певица?.. звуки, звуки, вырывающиеся из ее груди, звуки, умирающие в ту минуту, как раздались. Если вы, кроме наслаждения ими, будете искать что-нибудь, выжидать иной цели, вы дождетесь, когда кантатриса перестанет петь, и у вас останется воспоминание и раскаяние, что вместо того, чтоб слушать, вы ждали чего-то… Вас сбивают категории, которые дурно уловляют жизнь. Вы подумайте порядком: что эта цель – программа, что ли, или приказ? Кто его составил, кому он объявлен, обязателен он или нет? Если да, – то что мы, куклы или люди, в самом деле, нравственно свободные существа или колеса в машине? Для меня легче жизнь, а следственно, и историю, считать за достигнутую цель, нежели за средство достижения.
– То есть, просто, цель природы и истории – мы с вами?..
– Отчасти, да плюс настоящее всего существующего; тут все входит: и наследие всех прошлых усилий, и зародыши всего, что будет; вдохновение артиста, и энергия гражданина, и наслаждение юноши, который в эту самую минуту пробирается где-нибудь к заветной беседке, где его ждет подруга, робкая и отдающаяся вся настоящему, не думая ни о будущем, ни о цели… и веселье рыбы, которая плещется вот на месячном свете… и гармония всей солнечной системы… словом, как после феодальных титулов, я смело могу поставить три «и прочая… и прочая»…
– Вы совершенно правы относительно природы, но, мне кажется, вы забыли, что через все изменения и спутанности истории прошла красная нитка, связующая ее в одно целое, эта нитка – прогресс, или, может быть, вы не принимаете и прогресс?
– Прогресс – неотъемлемое свойство сознательного развития, которое не прерывалось; это деятельная память и физиологическое усовершение людей общественной жизнию.








