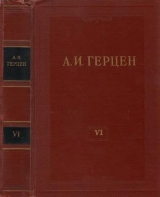
Текст книги "Том 6. С того берега. Долг прежде всего"
Автор книги: Александр Герцен
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 41 страниц)
Другие редакции
С того берега
<А mon fils Alexandre>*Cher Sacha.
Je veux te dédier ce livre – parce que je n'ai rien écrit de mieux et que très probablement je n'écrirai rien de mieux – parce que je l'aime comme souvenir d'une lutte douloureuse, dans laquelle j'ai beaucoup perdu, mais non le courage de connaître la vérité – parce qu'enfin je ne crains pas de donner dans tes mains adolescentes cette protestation personnelle, parfois audacieuse, contre un système entier de mensonge et d'hypocrisie, qui domine le monde, contre des idoles appartenant à d'autres temps et qui restent debout, absurdes, dénuées de sens, en nous troublant, en nous faisant peur.
Je ne veux par te tromper – connais la vérité – comme je la connais; tu n'as pas besoin de l'acquérir, celle-là, par des souffrances et par des erreurs – tu peux l'avoir par le droit d'héritage. Dans ta vie – sois en sûr – viendront d'autres questions, se présenteront d'autres collisions… tu ne manqueras ni de douleurs, ni de travail.
Agé de 15 ans – tu as déjà passé par les plus horribles malheurs… C'est un grand baptême.
Ne cherche pas de solutions dans ces feuilles – il n'y en a pas, ni dans le livre, ni autre part. Ce qui est résolu est terminé et, la révolution ne fait que commencer. Nous ne bâtissons pas – nous démolissons, nous déblayons le terrain. Nous ne proclamons pas de nouvelles révélations, nous détruisons de vieilles erreurs.
L'homme contemporain – triste pontifex maximus, lui aussi, – ne fait que jeter les pontons. Le grand inconnu… le futur У passera… Tu le verras peut-être… et alors tu le suivras. Car il est mieux de périr avec la révolution, que de se sauver dans l'hospice de la réaction.
La religion de la Révolution, de la grande métempsycose sociale, est la seule que je te lègue. Religion – sans rémunération, sans récompense – hors de la conscience même.
Va la prêcher un jour chez nous à la maison, on y a aimé ma voix, on s'y souviendra peut-être… et je te bénis dans cet apostolat au nom de la raison humaine, de la liberté individuelle et de l'amour du prochain.
Ton père.
Twickenham
5 décembre
23 novembre 1854
<Сыну моему Александру>*Дорогой Саша.
Я хочу посвятить тебе эту книгу, потому что я ничего не писал лучшего и, весьма вероятно, ничего лучшего не напишу, – потому что я люблю ее как воспоминание о мучительной борьбе, в которой я многое утратил, но не отвагу знания истины; потому, наконец, что я не боюсь дать в твои отроческне руки этот личный, местами дерзкий протест против целой системы лжи и лицемерия, властвующей над миром, против идолов, которые принадлежат иным временам и все еще живут, нелепые, бессмыслепные, смущая нас, пугая.
Я не хочу тебя обманывать – знай истину, как я ее знаю, тебе нет необходимости добиваться ее, этой истины, путем страданий и ошибок – ты можешь получить ее по праву наследства. В твоей жизни – будь в этом уверен – придут иные вопросы, явятся иные столкновения… в страданиях, в труде недостатка тебе не будет.
Тебе 15 лет – и ты уже прошел через ужаснейшие несчастья… Это великое крещение.
Не ищи решений на этих страницах – их нет ни в этой книге, ни в другом месте. То, что решено, то кончено, а революция только что начинается. Мы не строим – мы ломаем, мы устраняем препятствия. Мы не возвещаем новых откровений, мы уничтожаем старые ошибки.
Современный человек – печальный pontifex maximus – наводит только понтоны. Великий незнакомец… будущий пройдет по нему… Ты, может, увидишь его… и тогда ты последуешь за ним. Ибо лучше погибнуть с революцией, чем спастись в богадельне реакции.
Религия Революции, великого общественного перевоплощения – единственная религия, которую я завещаю тебе. Религия – без вознаграждения, без воздаяния – кроме собственной совести.
Иди в свое время проповедовать ее к нам, домой, там любили мой голос и там, может, вспомнят о нем… и я благословляю тебя на это апостольство во имя человеческого разума, личной свободы и любви к ближнему.
Твой отец
Твикнем
5 декабря
23 ноября 1854 г.
Addio![119]119Прощайте! (итал.). – Ред.
[Закрыть]*
Наша разлука продолжится еще долго – может, всегда. Теперь я не хочу возвратиться – потом не знаю, будет ли это возможно. Вы ждали меня, ждете теперь – надобно же объяснить вам, в чем дело; одним вам повинен я отчетом в моем отсутствии, в моих действиях. Непреодолимое отвращение, сильный, непобедимый внутренний голос не позволяют мне переступить границу России в то время, когда самодержавие, озлобленное и испуганное всем, что делается в Европе, задавило всякое умственное движение, отрезало от освобождающегося человечества 60 миллионов человек и загородило свет, скудно падавший на малое число из них, своей черной железной рукой, на которой запеклась польская кровь. – Нет, друзья мои, я не могу переступить рубеж этого царства мглы, произвола, молчаливого замиранья, гибели без вести, мучений с платком во рту – до тех пор, пока усталая власть, ослабленная безуспешными усилиями и возбужденным противудействием, не при знает чего-нибудь достойным уважения в русском человеке. До тех пор я подожду. Пожалуйста, не ошибитесь – не радость, не рассеяние, не отдых, ни даже личную безопасность нашел я здесь – да и не знаю, кто может находить теперь в Европе радость и отдых – отдых во время землетрясения, радость во время отчаянной борьбы насмерть. Вы видели грусть в каждой строке моих писем: жизнь здесь очень тяжела – ядовитая злоба примешивается к любви, желчь к слезе, лихорадочное беспокойство точит весь организм. Время прежних обманов, упований миновало; я ни во что не верю, кроме в кучку людей, в небольшое число мыслей да в невозможность остановить движение. Я вижу неминуемую гибель старой Европы и не жалею ничего из существующего: ни цивилизации, ни свободных учреждений – я ничего не люблю в этом мире, кроме того, что он преследует; ничего не уважаю, кроме того, что он казнит, и остаюсь – остаюсь страдать вдвойне, страдать от своего горя и от его горя, погибнуть, может быть, при разгроме и разрушении, к которым он несется на всех парусах. Зачем же я остаюсь? Остаюсь затем, что борьба здесь, – что, несмотря на кровь и слезы, здесь разрешаются общественные вопросы, что страдания здесь болезненны, жгучи, но человечественны: они здесь гласны, борьба открытая – никто не прячется. Горе побежденным, но они не побеждены прежде боя, не лишены языка прежде, чем вымолвили слово; велико насилие, но и протест громок; бойцы свободы, будущего часто идут на галеры, скованные по рукам и ногам, но с поднятой головой, с свободной речью. Где не погибло слово, там и дело еще не погибло. За эту открытую борьбу, за эту речь, за эту гласность – я остаюсь здесь; за нее я отдаю все – я вас отдаю за нее, часть своего достоянья и, может быть, отдам и жизнь в рядах энергического меньшинства «гонимых, но не низлагаемых». За эту речь я переломил или, лучше сказать, заглушил на время мою кровную связь с народом, в котором находил так много отзывов на светлые и темные стороны моей души, которого песнь и язык – моя песнь и мой язык, и остаюсь с народом, в жизни которого я глубоко сочувствую одному горькому плачу пролетария и его отчаянному мужеству. Дорого мне стоило решиться – вы знаете меня: я заглушил внутреннюю боль, я перестрадал борьбу и, отдавая все, стяжал право вдвойне страдать, но страдать по-человечески, погибнуть, но в открытом бою; я решился не как негодующий юноша, а как человек, спокойно обдумавший, что делает, сколько теряет. Месяцы целые думал я, взвешивал, колебался и, наконец, принес все на жертву человеческому достоинству, свободной речи. До последствий мне нет дела: они не в моей власти – они во власти своевольного каприза, который забылся до того, что очертил произвольным циркулем не токмо наши слова, но и наши движенья. В моей власти было не слушаться, и я не послушался.
Повиноваться против своего убеждения, когда есть возможность не повиноватьья, – безнравственность. Наконец, покорность становится почти невозможной. Я присутствовал при двух переворотах, я слишком жил свободным человеком, чтоб снова позволить оковать себя; я испытал народные волненья, упоение свободной речи, площадь и клуб. Я не могу сделаться вновь крепостным, ни даже для того, чтоб страдать с вами. Если бы еще надо было умерить себя для общего дела – может, силы нашлись бы; но где на сию минуту наше общее дело? У вас нет почвы, на которой может стоять свободный человек; можете ли вы после этого звать? На борьбу – идем; на глухое мученичество, на бесплодное молчанье, на повиновенье – ни под каким видом. Требуйте от меня все, но не требуйте двоедушия, не заставляйте меня снова представлять верноподданного – уважьте во мне свободу человека.
Свобода лица независимо от всех отношений – великое дело; на ней, и только на ней, может вырасти действительная свобода общины. В себе самом человек должен уважать свою свободу и чтить ее не менее как в ближнем, как в целом народе. Если вы в этом убеждены, то вы согласитесь, что остаться теперь здесь – мое право, мой долг. Это единственный протест, который может у нас сделать личность: эту жертву она должна принести своему человеческому достоинству. Ежели вы не назовете моего удаления бегством потому только, что извините меня вашей любовью, а не согласитесь со мной пониманьем, сочувствием, – это будет значить, что вы не совершенно еще свободны. Но этого не будет с вашей стороны. Я все знаю, что можно мне возразить с точки зрения романтического патриотизма и цивической натянутости; я не могу допустить этих религиозных воззрений – я их пережил, я вышел из них и именно против них и борюсь всю жизнь. Эти подогретые остатки римских и христианских понятий мешают больше всего водворению истинных понятий о свободе, – понятий здоровых, светлых, возмужалых; вся эпоха либерализма, развившаяся под их влиянием, ничего не освободила, так, как эпоха протестантизма, а только приготовила пути. Она, правда, освобождала все на свете: сословия и занятия, народы и землю, науку и торговлю, но не отдельного человека, не каждого человека, не лицо – и потому, в сущности, ничего не освобождала. Личность попрежнему жертвовалась при каждом столкновении с общим, бледнела перед государством, оставалась подданною. Против этого и восстал социализм; он осмелился, наконец, сказать, что государство – для людей, а не люди для государства, и за это был осыпан проклятиями и обвинениями. По счастию, в Европе нравы и долгое развитие поправляли правительственные теории и нелепое законодательство. Люди, живущие на европейской почве, живут на почве, удобренной двумя цивилизациями; путь, пройденный жизнию и мыслями в продолжение двух с половиною тысячелетий, не был напрасен – много человеческого выработалось независимо от внешнего устройства и официального порядка, в противуположность даже теоретическому знанию и религиозному учению; долгая историческая жизнь осаждает на дне души какое-то несознанное, не писанное ни в каком уложении нравственное начало, которое, как все не вполне сознанное, иногда меркнет, тонет, но упорно снова всплывает и существует как что-то естественное, бесспорное, привычное, даже обязательное, потому что превратилось в инстинкт, в поведение. Уважение к личности, к слову, к мысли пробивалось сквозь все формы, сквозь все фазы европейской жизни, не имея прав гражданства, записанных в кодексе, но имея силу общественного мнения, признанного факта. Римское понятие о гражданине, христианское – омонахе, феодальное – о рыцаре приучили власть признавать какую-нибудь состоятельность людей перед собою. Вскоре, рядом с привилегиями каст, талант потребовал признанья, и гениальные натуры сделались властию. Посмотрите, каких хлопот доставил Савонарола Александру Борджиа, Лютер – всему католичеству; во все времена европейской жизни, даже в самые худшие, вы встречаете эти сильные личности, которых не смеют отправить тотчас же на поселение. Почему не уняли Спинозу, Лессинга маленькие немецкие тираны, которые тогда были самодержавны? Потому что не смели. В этом соглашении, в этом уважении не к одной материальной, но и к нравственной силе, в этом невольном признании личности лежит один из великих революционных принципов европейской жизни, и если он не спасет ее в будущем, то заслужит благословение ее прошедшему и завещает истинную свободу грядущим поколеньям.
У нас не было ничего подобного; у нас лицо всегда было задавлено, поглощено: оно даже не стремится выступить, а если и выступит, то князем Курбским, оставляющим родину. Свободное слово у нас всегда считалось за дерзость, самобытность – за крамолу; человек, поглощенный общиной, распускался в ней; патриархальное перенесение всех прав личности на главу общины, на князя, находит еще и теперь защитников между писателями, в откровенности которых я не сомневаюсь. Наша община – великое приданое наше, с которым мы входили в русло истории; я вполне ценю ее, я проповедую здесь; о ней больше двух лет, но в ней недостает, так же, как в коммунизме, личного начала – этой вечной закваски деятельности, развития, свободы. Оттого-то она и не развилась, а дождалась в своем застое колоссальной личности, которая, негодуя, вступила с ней в борьбу «и сокрушила мощной рукой своей и дурное и хорошее старого устройства. Переворот Петра I заменил застарелое, помещичье управление Русью – европейским канцелярским порядком: все, что можно было переписать из шведских и немецких законодательств, все, что можно было перенести из муниципально-свободной Голландии в страну общинно-самодержавную, – все было перенесено; но неписанное, нравственно обуздывавшее власть, инстинктуальное признание прав лица, прав мысли, истины не могло перейти и не перешло. Рабство у нас увеличивалось с образованием: государство росло, улучшалось, но лицо не выигрывало; напротив, чем сильнее становилось государство, тем слабее лицо. – Европейские формы администрации и суда, военного и гражданского устройства – развились у нас в какой-то чудовищный деспотизм. Если б Россия не была так велика, если б чужеземное устройство власти не было так смутно устроено и так беспорядочно выполнено, то без преувеличения можно сказать, что в России нельзя было бы жить ни одному человеку, понимающему свое достоинство. Трудным воспитанием надобно проходить русскому, чтоб проснуться от косности, от уступчивости, от покорности, к которой приучает общинное житье. Императорская власть в России далеко оставила за собой римскую и византийскую, хотя и сохранила военный характер первой и восточно-царский – второй. Избалованность власти, не встречавшей никакого противудействия, доходила несколько раз до необузданности, не имеющей ничего себе подобного ни в какой истории. Вы знаете ей меру из рассказов о поэте своего ремесла, об императоре Павле, который действовал 50 лет тому назад; отнимите капризное, фантастическое у Павла, и вы увидите, что он вовсе не оригинален, что принцип, вдохновлявший его, один и тот же не токмо во всех царствованиях, но и в каждом губернаторе, в каждом квартальном, в каждом помещике, – это истинно ужасно! Опьянение самовластием овладевает всеми степенями знаменитой иерархии в 14 ступеней; во всех действиях власти проглядывает бесстыдство – я не могу иначе назвать отсутствие покрывала, которое, из уважения к лицам, набрасывали европейские правительства на свои дела, – наглое хвастовство своей бессовестностью, оскорбительное сознание, что лицо все вынесет: тройной набор, закон о заграничных пассах, исправительные розги в инженерном институте, так, как Малороссия вынесла крепостное состояние в XVIII веке, так, как вся Русь, наконец, поверила и вынесла, что людей продавали, перепродавали, и никогда никто не спросил, на каком законном основании все это делалось. Власть у нас, уверенная в себе, свободнее, нежели в Турции; ее ничто не останавливает: никакое прошедшее – от своего она отказалась, до европейского ей дела нет; народность она не уважает, гуманности не знает, с настоящим она борется. Прежде правительство стыдилось соседей – при Екатерине, при Александре; теперь оно считает себя призванным служить примером для всех притеснительных правительств – оно поучает.
Но вы слишком хорошо знаете все это. Мы с вами видели самое грубое, самое страшное развитие императорства; мы видели его первую борьбу со свободой, оно показалось тут во всей красе. Мы выросли под террором, под черными крыльями тайной полиции, в ее когтях; мы сломились под неслыханным гнетом; мы видели своими глазами, как эта власть, не зная более никаких пределов, дошла до того, что написала на своем знамени: «Самодержавие» – как будто самодержавие – вся цель русского народа. Наше счастие, что мы не предались отчаянию, что мы спаслись от удушающего влияния; но этого становится мало: пора развязать себе руки и слово для действия, для примера; пора, наконец, показать этой власти, что и мы требуем своего самодержавья; пора разбудить дремлющее сознанье, а разве можно будить, говоря шепотом, дальними намеками, когда крик и прямое слово едва слышны? Пора тем, которые случайно или по удельному весу стали в первых рядах, показать на деле, что они хотят свободы, что они готовы жертвовать всем, чтобы развязать веревку, которая связывает их. Мы довольно уступали – что же, лучше стало? А можете ли вы не уступать, окруженные лазутчиками, без малейшего права суда, защиты, гласности? – Открытые, откровенные действия необходимы. Отчего 14 декабря потрясло так сильно всю молодую Русь? Оттого, что оно было на Исаакиевской площади. Теперь не токмо площадь и соединение невозможны, но столько же невозможны и книгопечатание и кафедра – остается личный труд в тиши или личный протест издали; у нас одна трибуна – это трибуна вне России. Я остаюсь здесь не только потому, что мне противно, переехав через границу, снова надеть колодки, – но и для того, чтоб работать. Жить сложа руки можно везде, – здесь мне нет другого дела, кроме нашего дела. Я далек от отчаяния; совсем напротив: я никогда больше не веровал в будущее России – она не пала от дряхлости под ноги деспотизму, она терпит его от юности; но долго это не продолжится – мы можем судить по себе. Русская эмиграция началась – это великий признак, это не случайность, это не исключение. Наша мысль не может больше выносить цепей узкой ценсуры; я первый начинаю печать в Европе – увидят, буду ли я последний. Кто больше 20 лет проносил в груди своей одну мысль, кто страдал за нее и жил ею, скитался по тюрьмам и ссылкам, кто ею приобрел лучшие минуты жизни, самые светлые встречи, тот ее не оставит, тот ее не приведет в зависимость внешней необходимости и географическому градусу широты и долготы. Совсем напротив: я здесь полезнее – я здесь оеспенсурная речь ваша, ваш свободный орган, ваш представитель. Все это кажется новым и странным только нам; в сущности, тут ничего нет беспримерного. Во всех странах, при начале переворота, когда мысль еще была слаба, а материальная власть необузданна, люди преданные и деятельные отъезжали: их свободная речь раздавалась издали, и самое это издали при-вало словам их силу и власть, потому что за словами видие-сь действия, жертвы; мощь их речей росла с расстоянием, как сила вержения растет в камне, пущенном с высокой башни. Эмиграция – первый признак приближающегося переворота.
Для русских за границей есть еще другое дело. Пора действительно знакомить Европу с Русью. Европа нас не знает; она знает наше правительство и больше ничего. Для этого знакомства обстоятельства превосходны; ей теперь как-то нейдет гордиться и величаво завертываться в мантию пренебрегающего незнания; теперь это будет не чувство превосходства, а пошлая ограниченность, комическое высокомерие кастильского гидальго, у которого сапоги без подметок и плащ в лохмотьях. Европе не к лицу das vornehme Ignorieren России с тех пор, как она испытала мещанскую республику и алжирских казаков, с тех пор, как от Дуная до Атлантического океана она побывала в осадном положении, с тех пор, как тюрьмы, галеры полны гонимыми за убеждения. Пусть она узнает ближе народ, которого отроческую силу она оцепила в бою, где он остался победителем; расскажем ей об этом мощном и неразгаданном народе, который втихомолку образовал государство в 50 миллионов, который так крепко и удивительно разросся, не утратив общинного начала, и первый перенес его через начальные перевороты государственного развития, – о народе, который как-то чудно умел сохранить себя под игом монгольских орд и немецких бюрократов, под капральской палкой казарменной дисциплины и под позорным кнутом татарским, – который сохранил величавые черты, живой ум и разгул широкой, богатой натуры под гнетом крепостного состояния и в ответ на царский приказ образоваться ответил через сто лет громадным явлением Пушкина. Пусть узнают европейцы своего соседа; они его только боятся; надобно им знать, чего они боятся, знать, что слово казак – вовсе не антитезис слову свободный человек, – что наш естественный, полудикий быт встречается с их ожидаемым идеалом, – что последнее слово, до которого они выработывались, – первое слово, с которого мы начинаем, – что мы идем навстречу социализму, как германцы шли навстречу христианизму. До сих пор мы были непростительно скромны и, сознавая свое тяжелое положение, забывали все хорошее, полное надежд и развития, что представляет наша народная жизнь. Мы дождались немца для того, чтоб рекомендоваться Европе, – не стыдно ли?
Вот все, что я вам хотел сказать на этот раз. Теперь прощайте надолго… Давайте ваши руки, вашу помощь – мне нужно и то и другое. А там – кто знает, чего мы не видали в последнее время – быть может, и не так-то далеко, как кажется, тот день, в который мы соберемся, как бывало, в Москве и безбоязненно сдвинем наши чаши при крике: «За вольность и братство!» – Сердце отказывается верить, что этот день не придет, замирает при мысли вечной разлуки – будто я не увижу этих улиц, по которым я так часто ходил, этих домов, сроднившихся с лучшими воспоминаниями наших русских деревень, наших мужичков – не может быть! – Ну, а если – тогда я завещаю этот тост моим детям и, умирая на чужбине, сохраню веру в будущность русского народа!
Париж
1 марта 1849 г.








