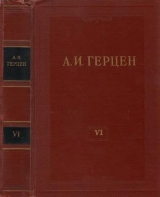
Текст книги "Том 6. С того берега. Долг прежде всего"
Автор книги: Александр Герцен
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 41 страниц)
– Неужели вы тут не видите цели?
– Совсем напротив, я тут вижу последствие. Если прогресс – цель, то для кого мы работаем? кто этот Молох, который, по мере приближения к нему тружеников, вместо награды пятится и, в утешение изнуренным и обреченным на гибель толпам, которые ему кричат: «Morituri te salutant»[13]13
«Осужденные на смерть приветствуют тебя» (лат.). – Ред.
[Закрыть], только и умеет ответить горькой насмешкой, что после их смерти будет прекрасно на земле? Неужели и вы обрекаете современных людей на жалкую участь кариатид, поддерживающих террасу, на которой когда-нибудь другие будут танцевать… или на то, чтоб быть несчастными работниками, которые, по колено в грязи, тащат барку с таинственным руном и с смиренной надписью «Прогресс в будущем» на флаге? Утомленные падают на дороге, другие с свежими силами принимаются за веревки, а дороги, как вы сами сказали, остается столько же, как при начале, потому что прогресс бесконечен. Это одно должно было насторожить людей; цель, бесконечно далекая, – не цель, а, если хотите, уловка; цель должна быть ближе, по крайней мере – заработная плата или наслаждение в труде. Каждая эпоха, каждое поколение, каждая жизнь имели, имеют свою полноту, по дороге развиваются новые требования, испытания, новые средства, одни способности усовершаются на счет других, наконец самое вещество мозга улучшается… что вы улыбаетесь?.. да, да, церебрин улучшается… Как все естественное становится вам ребром, удивляет вас, идеалистов, точно как некогда рыцари удивлялись, что вилланы хотят тоже человеческих прав! Когда Гёте был в Италии, он сравнивал череп древнего быка с черепом наших быков и нашел, что у нашего кость тоньше, а вместилище больших полушарий мозга пространнее; древний бык был, очевидно, сильнее нашего, а наш развился в отношении к мозгу в своем мирном подчинении человеку. За что же вы считаете человека менее способным к развитию, нежели быка? Этот родовой рост – не цель, как вы полагаете, а свойство преемственно продолжающегося существования поколений. Цель для каждого поколения – оно само. Природа не только никогда не делает поколений средствами для достижения будущего, но она вовсе об будущем не заботится; она готова, как Клеопатра, распустить в вине жемчужину, лишь бы потешиться в настоящем, у нее сердце баядеры и вакханки.
– И, бедная, не может осуществить своего призвания!.. Вакханка на диете, баядера в трауре!.. В наше время она, право, скорее похожа на кающуюся Магдалину. Или, может, мозг выделался в сторону.
– Вы вместо насмешки сказали вещь, которая гораздо дельнее, нежели вы думаете. Одностороннее развитие всегда влечет за собою avortement[14]14
Здесь: недоразвитость (франц.). – Ред.
[Закрыть] других забытых сторон. Дети, слишком развитые в психическом отношении, дурно растут, слабы телом; веками неестественного быта мы воспитали себя в идеализм, в искусственную жизнь и разрушили равновесие. Мы были велики и сильны, даже счастливы в нашей отчужденности, в нашем теоретическом блаженстве, а теперь перешли эту степень, и она стала для нас невыносима; между тем разрыв с практическими сферами сделался страшный; виноватых в этом нет ни с той, ни с другой стороны. Природа натянула все мышцы, чтоб перешагнуть в человеке ограниченность зверя; а он так перешагнул, что одной ногой совсем вышел из естественного быта, – сделал он это потому, что он свободен. Мы столько толкуем о воле, так гордимся ею и в то же время досадуем за то, что нас никто не ведет за руку, что оступаемся и несем последствия своих дел. Я готов повторить ваши слова, что мозг выделался в сторону от идеализма, люди начинают замечать это и идут теперь в другую сторону; они вылечатся от идеализма так, как вылечились от других исторических болезней – от рыцарства, от католицизма, от протестантизма…
– Согласитесь, впрочем, что путь развития болезнями и отклонениями – престранный.
– Да ведь путь и не назначен… природа слегка, самыми общими нормами, намекнула свои виды и предоставила все подробности на волю людей, обстоятельств, климата, тысячи столкновений. Борьба, взаимное действие естественных сил и сил воли, которой следствия нельзя знать вперед, придает поглощающий интерес каждой исторической эпохе. Если б человечество шло прямо к какому-нибудь результату, тогда истории не было бы, а была бы логика, человечество остановилось бы готовым в непосредственном statu quo[15]15
существующем положении (лат.). – Ред.
[Закрыть], как животные. Все это, по счастию, невозможно, не нужно и хуже существующего. Животный организм мало-помалу развивает в себе инстинкт, в человеке развитие идет далее… выработывается разум, и выработывается трудно, медленно, – его нет ни в природе, ни вне природы, его надобно достигать, с ним улаживать жизнь как придется, потому что libretto нет. А будь libretto, история потеряет весь интерес, сделается ненужна, скучна, смешна; горесть Тацита и восторг Колумба превратятся в шалость, в гаерство; великие люди сойдут на одну доску с театральными героями, которые, худо ли, хорошо ли играют, непременно идут и дойдут к известной развязке. В истории все импровизация, все воля, все ex tempore[16]16
тотчас, без приготовления (лат.). – Ред.
[Закрыть], вперед ни пределов, ни маршрутов нет, есть условия, святое беспокойство, огонь жизни и вечный вызов бойцам пробовать силы, идти вдаль куда хотят, куда только есть дорога, – а где ее нет, там ее сперва проложит гений.
– А если на беду не найдется Колумба?
– Кортес сделает за него. Гениальные натуры почти всегда находятся, когда их нужно; впрочем, в них нет необходимости, народы дойдут после, дойдут иной дорогой, более трудной; гений – роскошь истории, ее поэзия, ее coup d'Etat[17]17
государственный переворот (франц.). – Ред.
[Закрыть], ее скачок, торжество ее творчества.
– Все это хорошо, но, мне кажется, при такой неопределенности, распущенности история может продолжаться во веки веков или завтра окончиться.
– Без сомнения. Со скуки люди не умрут, если род человеческий очень долго заживется; хотя, вероятно, люди и натолкнутся на какие-нибудь пределы, лежащие в самой природе человека, на такие физиологические условия, которых нельзя будет перейти, оставаясь человеком; но, собственно, недостатка в деле, в занятиях не будет, три четверти всего, что мы делаем, – повторение того, что делали другие. Из этого вы видите, что история может продолжаться миллионы лет. С другой стороны, я ничего не имею против окончания истории завтра. Мало ли что может быть! Энкиева комета зацепит земной шар, геологический катаклизм пройдет по поверхности, ставя все вверх дном, какое-нибудь газообразное испарение сделает на полчаса невозможным дыхание – вот вам и финал истории.
– Фу, какие ужасы! Вы меня стращаете, как маленьких детей, но я уверяю вас, что этого не будет. Стоило бы очень развиваться три тысячи лет с приятной будущностью задохнуться от какого-нибудь серноводородного испарения! Как же вы не видите, что это нелепость?
– Я удивляюсь, как это вы до сих пор не привыкнете к путям жизни. В природе, так, как в душе человека, дремлет бесконечное множество сил, возможностей; как только соберутся условия, нужные для того, чтоб их возбудить, они развиваются и будут развиваться донельзя, они готовы собой наполнить мир, но они могут запнуться на полдороге, принять иное направление, остановиться, разрушиться. Смерть одного человека не меньше нелепа, как гибель всего рода человеческого. Кто нам обеспечил вековечность планеты? Она так же мало устоит при какой-нибудь революции в солнечной системе, как гений Сократа устоял против цикуты, – но, может, ей не подадут этой цикуты… может… я с этого начал. В сущности, для природы это все равно, ее не убудет, из нее ничего не вынешь, все в ней, как ни меняй, – и она с величайшей любовью, похоронивши род человеческий, начнет опять с уродливых папоротников и с ящериц в полверсты длиною – вероятно, еще с какими-нибудь усовершениями, взятыми из новой среды и из новых условий.
– Ну, для людей это далеко не все равно; я думаю, Александр Македонский нисколько не был бы рад, узнавши, что он пошел на замазку, – как говорит Гамлет.
– Насчет Александра Македонского я вас успокою, – он этого никогда не узнает. Разумеется, что для человека совсем не все равно жить или не жить; из этого ясно одно, что надобно пользоваться жизнию, настоящим; недаром природа всеми языками своими беспрерывно манит к жизни и шепчет на ухо всему свое vivere memento[18]18
помни о жизни (лат.). – Ред.
[Закрыть].
– Напрасный труд. Мы помним, что мы живем, по глухой боли, по досаде, которая точит сердце, по однообразному бою часов… Трудно наслаждаться, пьянить себя, зная, что весь мир около вас рушится и, стало быть, где-нибудь задавит же и вас. Да еще это куда бы ни шло, а то умереть на старости лет, видя, что ветхие покачнувшиеся стены и не думают падать. Я не знаю в истории такого удушливого времени; была борьба, были страдания и прежде, но была еще какая-нибудь замена, можно было погибнуть – по крайней мере, с верой, – нам не за что умирать и не для чего жить… самое время наслаждаться жизнию!
– А вы думаете, что в падающем Риме было легче жить?
– Конечно, его падение было столько же очевидно, как мир, шедший в замену его.
– Очевидно для кого? Неужели вы думаете, что римляне смотрели на свое время так, как мы смотрим на него? Гиббон не мог отделаться от обаяния, которое производит древний Рим на каждую сильную душу. Вспомните, сколько веков продолжалась его агония; нам это время скрадывается по бедности событий, по бедности в лицах, по томному однообразию! Именно такие-то периоды, немые, серые, и страшны для современников; ведь годы в них имели те же триста шестьдесят пять дней, ведь и тогда были люди с душой горячей и блекли, терялись от разгрома падающих стен. Какие звуки скорби вырывались тогда из груди человеческой, – их стон теперь наводит ужас на душу!
– Они могли креститься.
– Положение христиан было тогда тоже очень печальное, они четыре столетия прятались по подземельям, успех казался невозможным, жертвы были перед глазами.
– Но их поддерживала фанатическая вера – и она оправдалась.
– Только на другой день после торжества явилась ересь, языческий мир ворвался в святую тишину их братства, и христианин со слезами обращался назад к временам гонений и благословлял воспоминания о них, – читая мартиролог.
– Вы, кажется, начинаете меня утешать тем, что всегда было так же скверно, как теперь.
– Нет, я хотел только напомнить вам, что нашему веку не принадлежит монополь страданий и что вы дешево цените прошедшие скорби. Мысль была и прежде нетерпелива, ей хочется сейчас, ей ненавистно ждать, – а жизнь не довольствуется отвлеченными идеями, не торопится, медлит с каждым шагом, потому что ее шаги трудно поправляются. Отсюда трагическое положение мыслящих… Но чтоб опять не отклониться, позвольте мне теперь вас спросить, отчего вам кажется, что мир, нас окружающий, так прочен и долголетен?..
Давно тяжелые и крупные капли дождя падали на нас, глухие раскаты грома становились слышнее, молнии ярче; тут дождь полился ручьями… все бросились в каюту; пароход скрыпел, качка была невыносима, – разговор не продолжался.
Roma, via del Corso.
31 декабря 1847 г.
II
После грозы[19]19
В Отделе рукописей Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина хранится следующая копия не включенного в прижизненные издания «С того берега» посвящения к главе «После грозы»:
DEDICATION <ПОСВЯЩЕНИЕ>
Мы с вами прострадали вместе страшные, гнусные июньские дни. Я дарю вам первый плач, вырвавшийся из души моей после них. Да, плач, я не стыжусь слез! Помните «Марсельезу» Рашели? Теперь только настало время ее оценить. Весь Париж пел «Марсельезу» – слепые нищие и Гризи, мальчишки и солдаты; «Марсельеза», как сказал один журналист, сделалась «Pater noster» <«Отче наш» (лат.)> после 24 февраля. Она теперь только умолкла – ее звукам нездорово в état de siège <осадном положении (франц.)>. – «Марсельеза» после 24 февраля была кликом радости, победы, силы, угрозы, кликом мощи и торжества…
И вот Рашель спела «Марсельезу»… Ее песнь испугала; толпа вышла задавленная. Помните? – Это был погребальный звон середь ликований брака; это был упрек, грозное предвещание, стон отчаяния середь надежды. «Марсельеза» Рашели звала на пир крови, мести… там, где сыпали цветы, она бросала можжевельник. Добрые французы говорили: «Это не светлая «Марсельеза» 48 года, а мрачная, времен террора…» Они ошиблись: в 93 году не было такой песни; такая песнь могла сложиться в груди артиста только перед преступлением июньских дней, только после обмана 24 февраля.
Вспомните, как эта женщина, худая, задумчивая, выходила без украшений, в белой блузе, опирая голову на руку; медленно шла она, смотрела мрачно и начинала петь вполголоса… мучительная скорбь этих звуков доходила до отчаяния. Она звала на бой… но у нее не было веры – пойдет ли кто-нибудь?.. Это просьба, это угрызение совести. И вдруг из этой слабой груди вырывается вопль, крик, полный ярости, опьяненья:
«Aux armes, citoyens…
Qu'un sang impur abreuve nos sillons…»
<«K оружию, граждане…
Пусть нечистая кровь оросит борозды наших пашен…»
(франц.)>
прибавляет она с жестокосердием палача. – Удивленная сама восторгом, которому отдалась, она еще слабее, еще безнадежнее начинает второй куплет… и снова призыв на бой, на кровь… На мгновение женщина берет верх, она бросается на колени, кровавый призыв делается молитвой, любовь побеждает, она плачет, она прижимает к груди знамя… «Amour sacré de la patrie…» <«Священная любовь к отечеству…» <франц.>. Но уже ей стыдно, она вскочила и бежит вон, махая знаменем – и с кликом «Aux armes, citoyens…» Толпа ни разу не смела ее воротить.
Статья, которую я вам дарю, – моя «Марсельеза». – Прощайте. Прочтите друзьям эти строки. Будьте не несчастны. Прощайте! Я не смею ни вас назвать, ни сам назваться. – Там, куда вы едете, и плач – преступление, и слушать его – грех.
Париж, 1848. Августа 1.
[Закрыть]*
Женщины плачут, чтоб облегчить душу; мы не умеем плакать. В замену слез я хочу писать – не для того, чтоб описывать, объяснять кровавые события, а просто чтоб говорить об них, дать волю речи, слезам, мысли, желчи. Где тут описывать, собирать сведения, обсуживать! – В ушах еще раздаются выстрелы, топот несущейся кавалерии, тяжелый, густой звук лафетных колес по мертвым улицам; в памяти мелькают отдельные подробности – раненый на носилках держит рукой бок, и несколько капель крови течет по ней; омнибусы, наполненные трупами, пленные с связанными руками, пушки на Place de la Bastille[21]21
площади Бастилии (франц.). – Ред.
[Закрыть], лагерь y Porte St. Denis[22]22
ворот Сен-Дени (франц.). – Ред.
[Закрыть], на Елисейских Полях и мрачное ночное «Sentinelle – prenez garde à vous!..»[23]23
«Часовой – берегись!» (франц.). – Ред.
[Закрыть] Какие тут описания, мозг слишком воспален, кровь слишком остра.
Сидеть у себя в комнате сложа руки, не иметь возможности выйти за ворота и слышать возле, кругом, вблизи, вдали выстрелы, канонаду, крики, барабанный бой и знать, что возле льется кровь, режутся, колют, что возле умирают, – от этого можно умереть, сойти с ума. Я не умер, но я состарелся, я оправляюсь после июньских дней, как после тяжкой болезни.
А торжественно начались они. Двадцать третьего числа, часа в четыре перед обедом, шел я берегом Сены к Hôtel de Ville[24]24
городской ратуше (франц.). – Ред.
[Закрыть], лавки запирались, колонны Национальной гвардии с зловещими лицами шли по розным направлениям, небо было покрыто тучами, шел дождик. Я остановился на Pont Neuf[25]25
Новом мосту (франц.). – Ред.
[Закрыть], сильная молния сверкнула из-за тучи, удары грома следовали друг за другом, и середь всего этого раздался мерный, протяжный звук набата с колокольни св. Сульпиция, которым еще раз обманутый пролетарий звал своих братий к оружию. Собор и все здания по берегу были необыкновенно освещены несколькими лучами солнца, ярко выходившими из-под тучи; барабан раздавался с разных сторон, артиллерия тянулась с Карусельской площади.
Я слушал гром, набат и не мог насмотреться на панораму Парижа, будто я с ним прощался; я страстно любил Париж в эту минуту; это была последняя дань великому городу – после июньских дней он мне опротивел.
С другой стороны реки на всех переулках и улицах строились баррикады. Я, как теперь, вижу эти сумрачные лица, таскавшие камни; дети, женщины помогали им. На одну баррикаду, повидимому, оконченную, взошел молодой политехник, водрузил знамя и запел тихим, печально-торжественным голосом «Марсельезу»; все работавшие запели, и хор этой великой песни, раздававшийся из-за камней баррикад, захватывал душу… набат все раздавался. Между тем по мосту простучала артиллерия, и генерал Бедо осматривал с моста в трубу неприятельскую позицию…
В это время еще можно было все предупредить, тогда еще можно было спасти республику, свободу всей Европы, тогда еще можно было помириться. Тупое и неловкое правительство не умело этого сделать, Собрание не хотело, реакционеры искали мести, крови, искупления за 24 февраля, закормы «Насионаля» дали им исполнителей. Ну, что вы скажете, любезный князь Радецкий и сиятельнейший граф Паскевич-Эриванский? Вы не годитесь в помощники Каваньяку. Меттерних и все члены Третьего отделения собственной канцелярии – дети кротости, de bons enfants[26]26
славные ребята (франц.). – Ред.
[Закрыть] в сравнении с собранием осерчалых лавочников.
Вечером 26 июня мы услышали, после победы «Насионаля» над Парижем, правильные залпы с небольшими расстановками… Мы все взглянули друг на друга, у всех лица были зеленые… «Ведь это расстреливают», – сказали мы в один голос и отвернулись друг от друга. Я прижал лоб к стеклу окна. За такие минуты ненавидят десять лет, мстят всю жизнь. Горе тем, кто прощают такие минуты!
После бойни, продолжавшейся четверо суток, наступила тишина и мир осадного положения; улицы были еще оцеплены, редко, редко где-нибудь встречался экипаж, надменная Национальная гвардия, с свирепой и тупой злобой на лице, берегла свои лавки, грозя штыком и прикладом; ликующие толпы пьяной мобили сходили по бульварам, распевая «Mourir pour la patrie», мальчишки 16, 17 лет хвастались кровью своих братий, запекшейся на их руках; на них бросали цветы мещанки, выбегавшие из-за прилавка, чтоб приветствовать победителей. Каваньяк возил с собою в коляске какого-то изверга, убившего десятки французов. Буржуази торжествовала. А домы предместья св. Антония еще дымились, стены, разбитые ядрами, обваливались, раскрытая внутренность комнат представляла каменные раны, сломанная мебель тлела, куски разбитых зеркал мерцали… А где же хозяева, жильцы? – Об них никто и не думал… местами посыпали песком, но кровь все-таки выступала… К Пантеону, разбитому ядрами, не подпускали, по бульварам стояли палатки, лошади глодали береженые деревья Елисейских Полей, на Place de la Concorde[27]27
площади Согласия (франц.). – Ред.
[Закрыть] везде было сено, кирасирские латы, седла; в Тюльерийском саду солдаты у решетки варили суп. Париж этого не видал и в 1814 году.
Прошло еще несколько дней – и Париж стал принимать обычный вид, толпы праздношатающихся снова явились на бульварах, нарядные дамы ездили в колясках и кабриолетах смотреть развалины домов и следы отчаянного боя… одни частые патрули и партии арестантов напоминали страшные дни, тогда только стало уясняться прошедшее. У Байрона есть описание ночной битвы; кровавые подробности ее скрыты темнотою; при рассвете, когда битва давно кончена, видны ее остатки, клинок, окровавленная одежда. Вот этот-то рассвет наставал теперь в душе, он осветил страшное опустошение. Половина надежд, половина верований была убита, мысли отрицания, отчаяния бродили в голове, укоренялись. Предполагать нельзя было, чтоб в душе нашей, прошедшей через столько опытов, испытанной современным скептицизмом, оставалось так много истребляемого.
После таких потрясений живой человек не остается по-старому. Душа его или становится еще религиознее, держится с отчаянным упорством за свои верования, находит в самой безнадежности утешение, и человек вновь зеленеет, обожженный грозою, нося смерть в груди, – или он мужественно и скрепя сердце отдает последние упования, становится еще трезвее и не удерживает последние слабые листья, которые уносит резкий осенний ветер.
Что лучше? Мудрено сказать.
Одно ведет к блаженству безумия.
Другое – к несчастию знания.
Выбирайте сами. Одно чрезвычайно прочно, потому что отнимает все. Другое ничем не обеспечено, зато многое дает. Я избираю знание, и пусть оно лишит меня последних утешений, я пойду нравственным нищим по белому свету, – но с корнем вон детские надежды, отроческие упованья! – Все их под суд неподкупного разума!
Внутри человека есть постоянный революционный трибунал, есть беспощадный Фукье-Тинвиль и, главное, есть гильотина. Иногда судья засыпает, гильотина ржавеет, ложное, прошедшее, романтическое, слабое поднимает голову, обживается, и вдруг какой-нибудь дикий удар будит оплошный суд, дремлющего палача, и тогда начинается свирепая расправа – малейшая уступка, пощада, сожаление ведут к прошедшему, оставляют цепи. Выбора нет: или казнить и идти вперед, или миловать и запнуться на полдороге.
Кто не помнит своего логического романа, кто не помнит, как в его душу попала первая мысль сомнения, первая смелость исследования – и как она захватила потом более и более и дотрогивалась до святейших достояний души? Это-то и есть страшный суд разума. Казнить верования не так легко, как кажется; трудно расставаться с мыслями, с которыми мы выросли, сжились, которые нас лелеяли, утешали, – пожертвовать ими кажется неблагодарностью. Да, но в этой среде, в которой стоит трибунал, там нет благодарности, там неизвестно святотатство, и если революция, как Сатурн, ест своих детей, то отрицание, как Нерон, убивает свою мать, чтоб отделаться от прошедшего. Люди боятся своей логики и, опрометчиво вызвав перед ее суд церковь и государство, семью и нравственность, добро и зло, – стремятся спасти клочки, отрывки старого. Отказываясь от христианства, берегут бессмертие души, идеализм, провидение. Люди, шедшие вместе, тут расходятся, одни идут направо, другие налево; одни замирают на полдороге, как верстовые столбы, показывая, сколько пройдено, другие бросают последнюю ношу прошедшего и идут бодро вперед. Переходя из старого мира в новый, ничего нельзя взять с собою.
Разум беспощаден, как Конвент, нелицеприятен и строг, он ни на чем не останавливается и требует на лавку подсудимых самое верховное бытие, для доброго короля теологии настает 21 января. Этот процесс, как процесс Людовика XVI, – пробный камень для жирондистов; все слабое, половинчатое или бежит, или лжет, не подает голоса или подает без веры. Между тем люди, произнесшие приговор, думают, что, казнивши короля, нечего больше казнить, что 22 января республика готова и счастлива. Как будто достаточно атеизма, чтоб не иметь религии, как будто достаточно убить Людовика XVI, чтоб не было монархии. Удивительное сходство феноменологии террора и логики. Террор именно начался после казни короля, вслед за ним явились на помосте благородные отроки революции, блестящие, красноречивые, слабые. Жаль их, но спасти невозможно, и головы их пали, а за ними покатилась львиная голова Дантона и голова баловня революции, Камиль Демулена. – Ну, теперь, теперь, по крайней мере, кончено? Нет, теперь черед неподкупных палачей, они будут казнены за то, что верили в возможность демократии во Франции, за то, что казнили во имя равенства, да, казнены, как Анахарсис Клооц, мечтавший о братстве народов, за несколько дней до Наполеоновской эпохи, за несколько лет до Венского конгресса.
Не будет миру свободы, пока все религиозное, политическое не превратится в человеческое, простое, подлежащее критике и отрицанию. Возмужалая логика ненавидит канонизированные истины, она их расстригает из ангельского чина в людской, она из священных таинств делает явные истины, она ничего не считает неприкосновенным, и, если республика присвоивает себе такие же права, как монархия, – презирает ее, как монархию, – нет, гораздо больше. Монархия не имеет смысла, она держится насилием, а от имени «республика» сильнее бьется сердце; монархия сама по себе религия, у республики нет мистических отговорок, нет божественного права, она с нами стоит на одной почве. Мало ненавидеть корону, надобно перестать уважать и фригийскую шапку; мало не признавать преступлением оскорбление величества, надобно признавать преступным salus populi[28]28
благо народа (лат.). – Ред.
[Закрыть]. Пора человеку потребовать к суду: республику, законодательство, представительство, все понятия о гражданине и его отношениях к другим и к государству. Казней будет много; близким, дорогим надобно пожертвовать – мудрено ли жертвовать ненавистным? В том-то и дело, чтоб отдать дорогое, если мы убедимся, что оно не истинно. И в этом наше действительное дело. Мы не призваны собирать плод, но призваны быть палачами прошедшего, казнить, преследовать его, узнавать его во всех одеждах и приносить на жертву будущему. Оно торжествует фактически, погубим его в идее, в убеждении, во имя человеческой мысли. Уступок делать некому – трехцветное знамя уступок слишком замарано, оно долго не просохнет от июньской крови. И кого, в самом деле, щадить? Все элементы разрушающейся веси являются во всей жалкой нелепости, во всем отвратительном безумии своем. – Что вы уважаете? Народное правительство, что ли? – Кого вам жаль? – Может быть, Париж?
Три месяца люди, избранные всеобщей подачей голосов, люди выборные всей земли французской ничего не делали и вдруг стали во весь рост, чтоб показать миру зрелище невиданное – восьмисот человек, действующих, как один злодей, как один изверг. Кровь лилась реками, а они не нашли слова любви, примирения; все великодушное, человеческое покрывалось воплем мести и негодования, голос умирающего Аффра не мог тронуть этого многоголового Калигулу, этого Бурбона, размененного на медные гроши; они прижали к сердцу Национальную гвардию, расстреливавшую безоружных, Сенар благословлял Каваньяка, и Каваньяк умильно плакал, исполнив все злодейства, указанные адвокатским пальцем представителей. А грозное меньшинство притаилось, Гора скрылась за облаками, довольная, что ее не расстреляли, не сгноили в подвалах; молча смотрела она, как обирают оружие у граждан, как декретируют депортацию, как сажают в тюрьму людей за все на свете – за то, что они не стреляли в своих братий.
Убийство в эти страшные дни сделалось обязанностью; человек, не отмочивший себе рук в пролетарской крови, становился подозрителен для мещан… По крайней мере, большинство имело твердость быть злодеем. А эти жалкие друзья народа, риторы, пустые сердца!.. Один мужественный плач, одно великое негодование и раздалось, и то вне Камеры. Мрачное проклятие старца Ламенне останется на голове бездушных каннибалов, и всего ярче выступит на лбу малодушных, которые, произнеся слово «республика», испугались смысла его.
Париж! Как долго это имя горело путеводной звездой народов; кто не любил, кто не поклонялся ему? – но его время миновало, пускай он идет со сцены. В июньские дни он завязал великую борьбу, которую ему не развязать. Париж состарелся – и юношеские мечты ему больше не идут; для того, чтоб оживиться, ему нужны сильные потрясения, варфоломеевские ночи, сентябрьские дни. Но июньские ужасы не оживили его; откуда же возьмет дряхлый вампир еще крови, крови праведников, той крови, которая 27 июня отражала огонь плошек, зажженных ликующими мещанами? Париж любил играть в солдаты, он посадил императором счастливого солдата, он рукоплескал злодействам, называемым победою, он воздвигал статуи, он мещанскую фигуру маленького капрала опять поставил, через пятнадцать лет, на колонну, он с благоговением переносил прах водворителя рабства, он и теперь надеялся найти в солдатах якорь спасения от свободы и равенства, он позвал дикие орды одичалых африканцев против братии своих, чтоб не делиться с ними, и зарезал их бездушной рукой убийц по ремеслу. Пусть же он несет последствие своих дел, своих ошибок… Париж расстреливал без суда… Что выйдет из этой крови? – кто знает; но что бы ни вышло, довольно, что в этом разгаре бешенства, мести, раздора, возмездия погибнет мир, теснящий нового человека, мешающий ему жить, мешающий водвориться будущему, – и это прекрасно, а потому – да здравствует хаос и разрушение!
Vive la mort![29]29
Да здравствует смерть! (франц.). – Ред.
[Закрыть]
И да водружится будущее!
Париж, 24 июля 1848 г.








