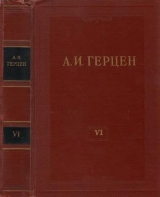
Текст книги "Том 6. С того берега. Долг прежде всего"
Автор книги: Александр Герцен
сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 41 страниц)
Но большею частию, вместо аристократических рассказов и воспоминаний, Лёв Степанович, угрюмый и «гневный», как выражалась молдаванка, притеснял ее и жену за игрой всевозможными мелочами и капризами: бранил, бросал, сдавая, карты на пол, дразнил их, и так добивал вечер до ужина. В десятом часу Лёв Степанович отправлялся в опочивальню, замечая: «Слава богу, вот день-то и прошел».
Перед спальней была образная, маленькая комната, которой восточный угол был уставлен большими и драгоценными иконами. Перед ними вечно теплилась лампадка из деревянного масла. Лёв Степанович усердно и долго молился, кладя в нужных случаях земные поклоны или по крайней мере касаясь перстом до земли. – Тут он отпускал Тита и отправлялся в спальню. А Тит, пользуясь единственным свободным временем, шел в гости или к Исаю-рыбаку или к обручнику Никифору, людям зажиточным и гостеприимным, а всего чаще к старосте, который постоянно покупал на мирской счет сивуху для дворни. Тит брал с собою по выбору кого-либо из старейшин передней, особенно же Митьку-цирюльника, потому что тот лихо играл на гитаре.
Долго жил так доблестный помещик Лёв Степанович, бог знает для чего устроивая и улучшая свое имение, усугубляя свои доходы и не пользуясь ими. Дом его и с селом составлял какой-то особый мир, которого центром был Лёв Степанович, – мир, совершенно разобщенный со всем остальным миром чертою, проведенною генеральным межеванием. Даже газеты не получались в Линовке; войны раздирали Европу, миры заключались, торжествовались победы, совершались великие события, а в Липовке все шло нынче, как вчера, вечером игра в дурачки, утром сельские работы, Тит все так же стоял у дверей с квасом после обеда, – и никто не токмо не говорил, но и не знал и не желал знать о всемирных событиях. – Но так как всему временному есть конец, то пришел конец и Льву Степановичу, и конец весьма крутой. Однажды после обеда, употребив довольно много борщу, буженины, жареной индейки с моченой брусникой и смочив все это квасом, – ибо Лёв Степанович почти никогда вина не употреблял, хотя и пил перед обедом рюмку водки, иногда после обеда рюмку наливки и в редких случаях с чаем ром, – Лёв Степанович перешел в гостиную закусить обед арбузом, который он остроумно называл красным сахарцем, так, как чай постоянно именовал китайской водицей. Освежившись красным сахарцем, он было пошел в кабинет, да по дороге встретил Настьку, говорившую с известным уже нам музыкантом и цирюльником Митькой. Лёв Степанович был чрезвычайно ревнив во всем, что касалось до горничных; ему что-то померещилось не совсем хорошее в выражении Мптькина лица. Он закричал на Митьку и схватил в углу стоявшую палку. Митька – горячая голова, как все артисты, – ударился бежать; Лёв Степанович за ним, со всем грузом буженины и кваса под арбузом; Митька от него, он за ним, тот на верх, на чердак. На крик барина явился Тит, прибежала вся дворня. Барин, багровый от гнева, велел поймать Митьку. Его на чердаке не нашли. Барин велел сыскать хоть под землею и посадить в колодку, пока он решит судьбу инсургента, а сам, усталый, запыхавшись и дрожа от гнева, пошел в кабинет уснуть. – Случай этот распространил ужас и беспокойство в доме, в людских, в кухне, в конюшне и даже в избах. Агафья Ивановна ходила служить молебен и затеплила свечку в девичьей перед иконой Всех скорбящих заступницы. Марфа Петровна ходила по комнатам, не зная, что начать. Молдаванка, несколько сбивавшаяся на поврежденную, поминала царя Давида и всю кротость его и читала «свят, свят, свят», как читают во время грозы. – Тит с двумя десятскими нашел Митьку в питейном доме; он громко кричал, что хочет в солдаты, что если его не отдадут, то сделает над собою грех, и решительно» отказывался идти.
– Митрий, а Митрий! Ты не горлань, – говорил ему Тит, – барина рука – длинная, везде достанет, а ты не горлань, а ступай лучше со мной.
И Митька пошел и пел всю дорогу «Барыню» с разными вариантами. – Посадив своего друга в колодку, неумытный Тит побежал к двери с кислыми щами и с еще более кислым лицом, прислушиваясь к каждому шороху. – В пять часов Марфа Петровна прислала босую горничную узнать, изволили ли барин проснуться. Тит молча помахал рукой и приложил палец к губам. В шесть пришла сама Марфа Петровна к дверям.
– Кажется, еще не изволили просыпаться, – отвечал шопотом Тит, – вот с час было слышно, изволили храпеть.
Марфа Петровна взошла в кабинет и вдруг закричала, – Тит уронил от испуга кувшин с кислыми щами.
Закричать было немудрено: старый барин лежал растянувшись возле кровати, один глаз был прищурен, а другой совершенно открыт, с тупым и мутным выражением, рот немного перекосился, и несколько капель кровавой пены текло по губам. – С минуту продолжалась совершенная тишина, но вдруг, откуда ни возьмись, хлынула в комнату вся дворня, и грозный Тит не препятствовал, а стоял как вкопанный. Однако, более сильный характер, он первый пришел в себя и снова с тем повелительным голосом, которым говорил лет двадцать, сказал:
– Сенька, что тут зевать! Внесите сюда корыто. А ты, Ларька, скорей за батюшкой сбегай. – Да нет ли у вас, Агафья Ивановна, пятака? На правый-то глаз надобно положить. Марфу Петровну вынесли в обмороке. Молдаванка взбежала в комнату с каким-то неестественным хныканием и, поскользнувшись в луже кислых щей, чуть не сломила себе ногу. – Освобожденный арестант Митька, без всякой rancune[140]140
злопамятства (франц.). – Ред.
[Закрыть] приготовлялся, как записной грамотей, ночью читать, взапуски с земским и с дьячком, псалтырь и для этого просил у молдаванки подарить нюхательного табаку, чтоб не уснуть. – Дворня была испугана и сконфужена. Они доставались человеку неизвестному; нрав старого барина они знали и применились к нему, теперь приходилось начинать вновь службу… и как, что будет? Кто останется, кто нет, на каком положении? – Все это волновало умы и заставляло жалеть о покойнике. – Через два дня Тит написал к будущему обладателю следующее письмо:
«Все – Милостивейший Государь
Государь, батюшка и единственный заступник наш Михаил Степанович!
По приказанию Тетушки Вашей а нашей Госпожи Марфы Петровны. Приемлю смелость начертать Вам батюшка Михайло Степанович сии строки так как по большому огорчению оне саме писать сил не чувствуют богу же угодно было посетить их великим несчастием утратою их и нашего отца и благодетеля о упокоении души коего должны мы до скончания дней наших молить Господа и Дядиньки Вашего в бозе почившего Льва Степановича то есть скончавшегося сего месяца в двадцать третие число в 6 часов по полудни. О чем слезно имеет счастие уведомить Вашу Милость через меня раба Вашего. Так как по известности мы Ваши то батюшко и все Милостивейший Государь Михайло Степанович могите не оставить недостойных подданных Ваших. Чувствуем как обязаны Вашему здоровью до конца нашей жизни усердствовать что Дядюшке то и Вам. Как вся дворня так и выборный Трофим Кузьмин с миром.
Нижайший раб Ваш
Тит – если изволите помнить что при покойном Дядюшке Камердынером находился.
Село Липовка Июня 25-го дня 1794 года».
(Т. е. около 9-го термидора. Переворот в Липовке совпал с переворотом во Франции).
III
Михайло Степанович был сын брата Льва Степановича, Степана Степановича. B то время как Лёв Степанович посвящал дни свои блестящей гражданской деятельности, получал высокие знаки милости и одобрения, карьера меньшого брата его, Степана Степановича, разыгрывалась на ином поприще. Любимец родителей, баловень и «неженка», как выражалась дворня, он оставался в деревне. В двенадцать лет старуха няня мыла его еще каждую субботу в корыте и приносила ему с села лепешки, чтоб он хорошенько позволил промылить голову и не кричал на весь дом, когда мыльная вода попадет в глаза. Лет четырнадцати признаки раннего совершеннолетия начали ясно оказываться в отношениях Степушки к девичьей. Матушка его, не слышавшая в нем души, не токмо не препятствовала развитию его ранних способностей, но со слезами умиления смотрела на нежное сердце сына и во многом помогала ему, – что при ее средствах и гражданских отношениях к девичьей и не представляло непреоборимых трудностей. Нежные чувства, питаемые с такого нежного возраста, вскоре поглотили всего Степушку; вероятно, как выражаются нежные поэты, любовь была единственным призванием его; он с четырнадцати лет и до кончины своей был верен избранному пути буколического помещика. – Степушка недолго пользовался покровительством родителей, недолго жил под крылышком своей матушки: ему было 18 лет, когда он ее лишился, а через четыре года умер и отец его. Лёв Степанович сам приезжал из Петербурга насчет раздела. Смерть родителей и честное предание их тела земли не доставило Степану Степановичу столько беспокойства и сердечной муки, как приезд брата; он его боялся, советовался с своими подданными, что ему делать, и не мог без содрогания вздумать, как они будут делить дворовых, к числу которых принадлежала и девичья. – Степан Степанович взял свои меры: всех горничных велел запереть в поваровой комнате, оставив налицо только таких, которые имели значительные недостатки в лице: сильную шадровитость, косые глаза и т. п. Лёв Степанович все понял, обделил неопытного брата, закупив его пустыми уступками, предоставил ему почти весь прекрасный пол и, благословляемый им, уехал назад. Проводивши брата, Степан Степанович, потирая руки от удовольствия, что тот не догадался о его спрятанных сокровищах, деятельно принялся за устройство имения. Он купил двух музыкантов и приказал им учить дворовых девок петь. Хоры составились славные, учители играли один на торбане, Другой на кларнете. В праздничные дни сгоняли с утра крестьянских девок и баб на лужок перед домом, для хороводов. Степан Степанович после обеда выходил к ним – да вы, пожалуйста, не ошибитесь, это все-таки значило: утром часу во втором. Он обыкновенно садился в сенях, в халате нараспашку; около него стояли лучшие представительницы девичьей, обмахивая мух и приготовляя чай, который Степан Степанович употреблял в большом количестве, больше как благопристойного друга французской водки, нежели за внутренние достоинства. Степан Степанович сам угощал гостей цареградскими стручками, пряниками, брагой и грошовыми серьгами, сам участвовал в танцах и к вечеру так напивался чаем, что две грации отводили его домой. – Материальной частию хозяйства Степан Степанович, как все сентиментальные натуры, заниматься не любил; староста и повар управляли довольно самодержавно всею вотчиною, до барина доступ был не легок, да кому и случалось с ним молвить слово, остерегался проболтаться – особенно с тех пор, как одна крестьянка с большими и черными глазами пожаловалась барину на старосту, а барин велел старосту на конюшне наказать, не давши себе труда разобрать, что баба была совершенно неправа. Староста обмылся пенничком и кротко вынес наказание, не думая оправдываться; но желание мести сильно запало в его душу. Спустя неделю-другую, староста через повара доложил барину, что такая-то баба балуется и, несмотря на приказ, в очень близких сношениях с своим мужем, что ей было запрещено. Поступок этот, так грубо неблагодарный, огорчил Степана Степановича; он велел ее без очереди назначать в работу. – Худая и состарившаяся через год, она на себе носила доказательства, что приказ его был исполнен в точности.
Веселая жизнь Степана Степановича стала скоро известной в околодке; явились соседи, одни с целью его женить на дочери, другие – обыграть, третьи, более скромные, познакомились потому только, что им казалось пить чужое вино и чужой пунш выгоднее своего. Он поддавался всему, весьма вероятно, что его бы женили и обыграли, но – нежное сердце его спасло. – Посещая одного из своих соседей, он увидел у него горничную, Акулину – и влюбился, да ведь как! – Есть перестал, а пить стал вдвое больше. Подумал он после дома, подумал, видит, что такой страсти переломить невозможно; опостылела ему девичья, и если он иногда дозволял себе кой-какие шалости, то это больше, чтоб не отставать от привычек, нежели из удовольствия. Мучился он, мучился, да и пристал к соседу: продай Акульку. Сосед поломался, потом согласился продать, но с условием, чтоб Степан Степанович купил всю семью: «Я, – говорит, – не хочу разлучать что бог соединил». Степан Степанович на все согласился и заплатил ему 3500 рублей; по тогдашним ценам на такую сумму можно было купить десять Акулек и столько же Дуняшек с их отцами, братьями, сестрами и матерями.
Сельская Брунегильда поняла, именно по сумме, заплаченной за нее, ширь своей власти и в полгода привела нашего Меровинга в полнейшую покорность. Померкло влияние повара, ослабла сила старосты! Отец Акулины Андреевны был сделан дворецким, мать ключницей, да она и им потачки не давала, а держала их в страхе и повиновении. И всего этого было ей мало; более близкая по характеру к Наполеону, нежели к Кромвелю, она захотела быть помещицей, она стала питать династические интересы. И Степан Степанович поехал в четвероместной карете покойного родителя своего в церковь и обвенчался.
Брак их – не так, как брак Льва Степановича – не остался бесплодным. В сенях господского дома, когда они возвратились, сперва подошли к ручке и поздравили новую барыню ее родители, а потом поднесла кормилица сынка десяти месяцев – нашего Михаила Степановича. – После свадьбы барин сделался миф. Акулина Андреевна приняла бразды правления. Она с глубоким и основательным политическим тактом взяла все меры, чтоб упрочить свое самовластие; но – как всегда бывает – взявши все меры, она все-таки упустила из виду одну из возможных причин переворота. Мало знакомая с физиологией и патологией, она не знала, что организм человеческий только до известной степени противодействует алкоголю. Лет через семь после бракосочетания синий Степан Степанович, хромой от паралича и толстый от водяной, отдал богу душу. – Это было в самое то время, когда Лёв Степанович отделывал свой дом на Яузе.
Получивши весть о смерти брата, Лёв Степанович в первые минуты горести попробовал было опровергнуть брак покойника и законность его сына, но чиновник, которому он поручил разведать, убедил его, что Акулина Андреевна взяла все меры еще при жизни ее мужа и что четырнадцатую часть ей выделят во всяком случае, да еще его заставят заплатить протори. Больно было Льву Степановичу, но он покорился несправедливой судьбе и, как настоящий практический человек, тотчас придумал иной образ действия. Он написал к вдове письмо, полное родственного участия, и звал ее в Москву для окончания дела и для того, чтоб показать ему наследника его брата, а может, и его собственного, пещись о котором он считал священнейшею обязанностью, ибо судьбою и богом назначен ему в опекуны. – Весьма вероятно, что Акулина Андреевна не повезла бы своего сына по письму дяди, но после смерти Степана Степановича люди стали что-то грубо поговаривать, а иногда даже и перечить с таким видом, что Акулине Андреевне показалось безопаснее переехать в Москву. – Лёв Степанович плакал при свидании с Мишей, благословил его образом, в припадке семейных чувств выделил отличную часть имения Акулине Андреевне и взял на себя все хлопоты по опеке над племянником, устранив всякое влияние матери. – Оно вскоре устранилось и другим образом. Своей четырнадцатою частью прельстила Акулина Андреевна одного поручика из ординарцев при московском главнокомандующем – и сама прельстилась его ростом и его дебелой и свирепой красотой, совершенно противоположной рыхлой наружности аркадского покойника. Она не могла удержаться, чтоб не выйти за него замуж. Роли переменились. Поручик с четвертого дня начал бить жену, – жену, которая «ада и небес едва не досягала!» Акулина Андреевна с горя стала попивать подслащенные наливки; не знаю, что с ней сталось потом; через год поручик, сделавшись капитаном, получил хорошее место по кригс-комиссариатской части где-то на Черном море, куда увез и супругу свою. – Лёв Степанович требовал, чтоб племянник его остался в Москве. После легких прений мать согласилась, и вотчим тоже, основываясь на том, что он место долею получил за некоторые дружеские пожертвования, а частию по ходатайству Льва Степановича, – вследствие чего берег дружбу его на черный день.
IV
Мише было лет десять. Воспитание его не было сложно: простое, патриархальное, деревенское воспитание того времени; оно ограничивалось с физической стороны развитием непобедимого пищеварения, с нравственной – укоренением высокого мнения насчет столбового происхождения и верного взгляда на отношения помещика к дворовым. Воспитание это не столько было отвлеченно и книжно, как практично, en action[141]141
жизненно (франц.). – Ред.
[Закрыть], и по тому самому имело несомненный успех; воображение десятилетнего мальчика гораздо сильнее поражалось таким преподаванием, нежели всяким школьным. Его окружала толпа оборванных, грязных и босых мальчиков, которых он щипал и бил, которых нежная родительница его секла, если он жаловался. Один более свободный товарищ его игр был сын сельского священника, отличавшийся белыми волосами, до того редкими, что они не совсем покрывали череп, и способностию в двенадцать лет выпивать чайную чашку сивухи не пьянея. Иногда сын священника осмеливался делать кой-какие грубости Мише: не позволял ему себя тотчас поймать в горелках, когда Мише приходилось гореть, обгонял его взапуски, сам ел найденные ягоды. Мишу это чрезвычайно оскорбляло; разумеется, и Акулина Андреевна не могла оставаться равнодушною к такому нарушению приличий; она подзывала к себе сына священника и поучала его следующим образом:
– Ты, толоконный лоб, помни у меня и чувствуй, что я тебе с кем позволяю играть. Ты воображаешь, что это дьячков сын. – Дурачок, с ровней, что ли, играешь? – ты должен уступить помещику, – неуч!
Матушка попадья, бывало, как услышит подобное слово, тотчас, не вступая в дальнейшее разбирательство дела, поймает сына за бедные волосенки, как-то приправленные на масле, приносимом для лампады Тихвинской божией матери, и довольно ловко представляла вид, будто бесщадно дерет его за волосы, – приговаривает:
– Ах ты, грубиян эдакой поганый, – вот истинно дурья порода – Простите, матушка Акулина Андреевна, изволите сами, матушка, знать, какой ум в наших детях, – так, мужики, никаких обращений. А ты благодари барыню, что изволит обучать!
И она наклоняла его голову и сама кланялась. – Миша после напоминал своему приятелю, торжествуя над ним, но тот, обиженный в свою очередь, присовокуплял:
– Ведь все врет мать-то, только так горячку порет – для господ.
Разумеется, все это вместе способствовало к прочному развитию не столько любезного, сколько столбового характера.
Странно показалось Мише после такой привольной жизни в доме у дяди, – но он и не долго прожил в нем. Двоюродная тетка Льва Степановича выпросила его к себе, чтоб воспитывать с своим сыном, который – говорила она – был один и скучал. Лёв Степанович побаивался княгини и согласился. Побаивался он ее потому, что она сильно любила болтать и имела большие связи в Петербурге. Что она могла ему сделать болтовней и связями – не знаю, да и он не знал, – а трусил. Княгиня была богата, держала большой дом, ничего не делала, кроме важных визитов, и не находила времени присмотреть за детьми; оно же и не вовсе было нужно. Она взяла для сына гувернера; рекомендованный самим Вольтером Шувалову во время его путешествия, Шуваловым княгине Дашковой, Дашковою – нашей княгине, он самодержавно управлял делом воспитания. Гувернер был неглупый человек, с легким, но блестящим образованием и со всеми недостатками француза, из которых половина была очень мила; он был blagueur[142]142
хвастун (франц.). – Ред.
[Закрыть], он был высокомерен, дерзок, но зато остери весел; с улыбкой превосходства смотрел он на все русское, отроду не слыхал, что есть немецкая литература и английские поэты, как следует знал на память Корнеля и Расина, знал энциклопедистов и Вольтера, даже понимал несколько древние языки, даже любил поразить стихом из Вергилия или Горация.
Наш гувернер был поклонник Гельвециевой философии и учений Жан-Жака; он с жаром толковал о равенстве, несмотря на то, назывался chevalier[143]143
кавалер (франц.). – Ред.
[Закрыть] и никогда не забывал ставить «де» перед своей звучной фамилией: Дрейяк. Он с улыбкой сожаления говорил о католицизме и проповедовал какую-то религию собственного изобретения, состоявшую из поклонения закону тяготения, потому что без него был бы хаос, что им поддерживается «великий порядок», в котором только человеку открывается «великий художник». При развитии этих глубоких истин он всегда присовокуплял, не знаю для чего, что Платон высшее бытие называл геометром, а Ньютон снимал шляпу при имени бога. Сверх своей религии тяготения, он упорно не хотел суда на том свете, – хотя против бессмертия души ничего не имел. Говорят, что сверх должности гувернера он исполнял многие обязанности покойного князя, – но я этому никогда не верил. – Учение шло весело и легко. Дрейяк заставлял учеников декламировать, читать вслух, а больше всего болтал с ними. Он мог всегда говорить без различия предмета, без различия пола и возраста беседовавших, – и потому Миша и князь отлично выучились слушать по-французски, а потом и довольно хорошо говорить.
Миша долго грустил в доме княгини; он был похож на дикого зверка, посаженного в клетку, смотрел к лесу и тайком утирал слезы, вспоминая о своей жизни в Липовке. Сметливый от природы, он хорошо заметил, что первая роль не ему принадлежит, он был «братец», он был «cher cousin», в то время как князь был самим собою. Он равно видел это различие и в обращении княгини, и в обращении постоянных гостей ее, даже в обращении дядьки: старик без возражения исполнял приказы князя, а Мише часто говорил, что ему некогда, что у него не шесть ног, что можно послать кого-нибудь помоложе. Глубоко оскорбляемый всем этим, Миша дулся, сидел в углу и смотрел исподлобья. Дрейяк это относил к дикости, другие и не замечали. – Видя безуспешность своих протестаций, Миша переломил себя, стал ласков, послушен и мало-помалу сделался любимцем не токмо Дрейяка, но даже всей дворни. Княгиня не могла надивиться, какой он смирненький и неглупый мальчик. Но смирненький мальчик в одиннадцать лет, подчиняясь всем и всех слушаясь, ставил на своем и с ловкостию дипломата достигал всего, чего хотел. – Князь не любил учиться, он был рассеян, скучал за уроками – Миша понял это, и с той минуты сделался прилежен. Дрейяк не мог надивиться способностям «маленького дикаря» и пророчил ему блестящую будущность. Начав учиться из зависти и из затаенного желания унизить соперника, он втянулся в самом деле не столько в науку, как в чтение; шестнадцати лет он перечитал всю библиотеку гувернера. Дрейяк чуть не плакал, слушая, как Миша цитировал ко всему на свете места из «Pucelle», из «Кандида», из «Жака-Фаталиста». Мало-помалу воспитание молодых людей пришло к концу. Они писали французские записочки правильнее русских, при всей лени даже князь знал мифологию и французскую и римскую историю – больше и не требовалось в то время от русских. Тогда еще русской литературы не выдумывали, о русских журналах и не снилось никому, разве одному Новикову; русской истории тоже еще не было открыто, – знали только, что царствовал мудрый правитель Олег, о котором сама императрица изволила написать драму «Олег вещий», и великий преобразователь Петр, о котором даже Вольтер написал целую книгу. – Взяв это во внимание, не покажется странным, что наши юноши окончили свое воспитание, никогда не бравши в руки ни одной русской книги, несмотря на то, что у княгини было собрание сочинений Сумарокова, «Россиада» Хераскова и «Камень веры» Стефана Яворского. – Княгиня сама повезла «детей» в гвардию и определила в один полк. Кряхтя, высылал Лёв Степанович племяннику часть доходов с имения, объясняя всякий раз княгине, что имение покойного брата расстроено, доходов мало, урожаи плохи и всходы больших надежд не подают.
Служба была тогда легкая. Изредка приходилось надеть мундир, в кои веки доставалось побывать в карауле, – это даже нравилось как разнообразие. Остальное время – кроме родственных визитов, визитов к важным людям, обедни по воскресеньям в домовой церкви княгинина брата – было в полном распоряжении молодых людей. Князь бросился в светскую и разгульную жизнь со всем пылом юности, окрыленной богатством; беззаботный, отроду не останавливавшийся ни на чем и отроду ни на чем не останавливаемый, он был вспыльчив, дерзок, несколько раз проигрывался в карты, имел истории, – и при всем этом был славный товарищ, благородный, открытый и даже по-своему гордый человек. Столыгин был неразлучен с князем и играл довольно странную роль. Он участвовал во всех шалостях молодого человека, наводил его на такие, которые бы ему не пришли в голову, – и потом почти всегда был ими недоволен. Он с каким-то снисхождением, даже с покровительством гулял на счет своего товарища, он как будто нехотя и внутри порицая все, что делалось, во всем брал долю. Столыгин так умел себя держать, что из всех историй выходил совершенно чистым, а между тем в сущности не только не отставал от товарищей, но был гораздо основательнее их испорчен; его разврат не бросался в глаза именно потому, что он был обдуманнее и хладнокровнее, нежели у увлекавшегося князя.
Князь верил в его дружбу, знал его превосходство и с детским простодушием прибегал во всяком трудном случае к Мише за советом. Полагаю, что и Миша любил князя, но на том условии, что тот никогда не забывал своей зависимости.
Князь был хорош собой и имел успехи у женщин, особенно у сангвинических девиц, у молодых вдов. Столыгин, бравший не столько красотой, сколько дерзкой речью, нескромностью желания и сладострастным взглядом, не мог простить своему другу его высокий рост и его красивые черты и старался всякий раз затмить его остротами, умом, колкостями.
Поволочившись года три за женщинами всех слоев общества, от барских палат до швей у модисток, – причем князь имел две-три драки, – поигравши в азартные игры, – в которые князь проиграл довольно большие суммы, для скрытия которых от матери надавал двойных векселей, – словом, поделавши все, что называлось тогда службою в лейб-гвардии, – молодым людям захотелось съездить в Париж. Столыгин подбил князя. Княгиня долго не соглашалась, но потом сама отпросила их в отпуск, и они отправились в Париж. Надзор за детьми был снова поручен Дрейяку, который успел в антракте образовать еще двух русских помещиков греческой мифологией и французскою историей.
В Париже все их поразило. Улицы кипели народом, там-сям стояли отдельные группы, что-то читая, что-то слушая; крик и песни, громкий разговор, грозные возгласы и движения – все показывало ту лихорадочную возбужденность, ту удвоенную жизнь, то судорожное и страстное настроение, в котором был Париж того времени; казалось, у камней бил пульс, казалось, в воздухе была примешана электрическая струя, наводившая беспокойство и злобу на душу, охоту борьбы, потрясений, страшных вопросов и отчаянных, разрешений, всего, чем были полны писатели XVIII века, проповедники эгоизма – вызвавшие столько самоотвержения, поборники отрицания – возбудившие фанатическую веру… – И все это выговорилось, заявилось, выказалось, окружило путников прежде, нежели запыленный тяжелый дормез остановился у отели в улице Сент-Оноре, прежде, нежели двое, крепостных слуг успели отстегнуть пряжки у вашей.
Дебют в Париже и в Версале был чрезвычайно удачен благодаря пуку рекомендательных писем, которые шевалье де-Дрейяк славно осветил ослепительными лучами богатства, вести о котором он распустил с достодолжного рельефностью, не останавливаясь, разумеется, на прозаической истине. – Михаил Степанович, напудренный, раздушенный, в шитом кафтане, с крошечной шпажкой, с подвязанными икрами, весь в кружевах и цепочках, сделался фрондером и чуть не опасным умом. Он толковал об tiers-état[144]144
третьем сословии (франц.). – Ред.
[Закрыть], превозносил Неккера и пугал старых маркиз революцией. Его заметили; несколько колкостей, удачно им сказанных, повторялись.
– Знаете ли, что меня всего более удивляет в этом marquis hyperboréen? – сказал раз, сдавая карты, пожилой аббат с сухим и строгим лицом. – Не столько его ум, – умом, слава богу, нас трудно удивить, – а его способность все понимать и ни в чем не принимать истинного участия; для него жизнь, кипящая возле, имеет тот же интерес, как весть о Сезострисе – это какой-то посторонний всему.
– Скиф в Афинах, – заметил кто-то.
– Совсем нет, – возразил аббат, – у скифа было бы что-нибудь свое, дикое, а он с виду и с речи похож на меня с вами. Признаюсь вам, я в состоянии ненавидеть такого человека; это болезненное произведение цивилизации, привитой к корню, не нуждавшемуся в ней.
– Помилуйте, из него выйдет отличный дипломат; он даже лицом похож на Кауница, – сказал какой-то посольский советник,
– В самом деле! – подхватили многие, и гиперборейский маркиз был забыт.
Путешествие князя и Столыгина окончилось гораздо прежде, нежели они предполагали. Виною тому был Дрейяк. – Chevalier, одобрительно и скромно улыбавшийся «успехам и торжеству разума над предрассудками», имел обыкновение, общее многим мыслителям, особенно тем, у которых пищеварение расстроено, прогуливаться, вставши с постели. Только что он вышел однажды на бульвары, как услышал за сбой какой-то нестройный гул. Он остановился и, сделав из руки зонтик от света, начал всматриваться; сначала он увидел облако пыли, потом блеск пик, ружей; наконец вырезалась нестройная, пестрая масса людей. Дрейяк никак не мог догадаться, что это за люди, но ему недолго пришлось ломать головы; высокий, плечистый мужчина без сюртука, с засученными рукавами, с тяжелым железным ломом, повязанный красным платком, поровнявшись с ним, спросил его громовым голосом, пристально глядя ему в глаза:
– Ты с нами?
Дрейяк, бледный и трепещущий, не мог сообразить, какое может иметь последствие отказ, и потому медлил с ответом; но новый знакомец взял его за шиворот и, сообщив его телу движение, далекое от того, чтоб быть приятным, повторил вопрос. Шевалье вместо ответа уронил свою трость. Учтивая дама, случившаяся возле, подняла ее и, показывая более и более густевшей массе народа, заметила:
– Это аристократ и аккапарист; посмотрите, какой набалдашник золотой, да еще с камнем, – на фонарь его.
– На фонарь, – сказали несколько голосов спокойным, подтверждающим тоном, исполненным наивного убеждения, что действительно его необходимо повесить на фонарь, что это просто аксиома.
– Помилуйте, – сказал Дрейяк, – да я с вами, разумеется, с вами, как же не с вами!..








