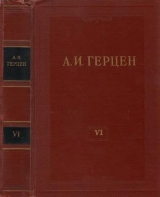
Текст книги "Том 6. С того берега. Долг прежде всего"
Автор книги: Александр Герцен
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 41 страниц)
III
LVII год Республики, единой и нераздельной*
На днях праздновали первое вандемиера пятьдесят седьмого года. В Шале на Елисейских Полях собрались все аристократы демократической республики, все алые члены Собрания. К концу обеда Ледрю-Роллен произнес блестящую речь. Речь его, наполненная красных роз для республики и колючих шипов для правительства, имела полный успех и заслуживала его. Когда он кончил, раздалось громкое «Vive la République démocratique!»[31]31
«Да здравствует демократическая республика!» (франц.). – Ред.
[Закрыть]. Все встали и стройно, торжественно, без шляп, запели «Марсельезу». Слова Ледрю-Роллена, звуки заветной песни освобождения и бокалы вина, в свою очередь, одушевили все лица; глаза горели, и тем более горели, что не все бродившее в голове являлось на губах. Барабан лагеря Елисейских Полей напоминал, что неприятель близко, что осадное положение и солдатская диктатура продолжаются.
Большая часть гостей были люди в цвете лет, но уже больше или меньше искусившие свои силы на политической арене. Шумно, горячо говорили они между собою. Сколько энергии, отваги, благородства в характере французов, когда они еще не подавили в себе хорошего начала своей национальности или уже вырвались из мелкой и грязной среды мещанства, которое, как тина, покрывает зеленью своей всю Францию! Что за мужественное, решительное выражение в лицах, что за стремительная готовность подтвердить делом – слово, сейчас идти на бой, стать под пулю, казнить, быть казненным. Я долго смотрел на них, и мало-помалу невыносимая грусть поднялась во мне и налегла на все мысли, мне стало смертельно жаль эту кучку людей – благородных, преданных, умных, даровитых, чуть ли не лучший цвет нового поколения… Не думайте, что мне стало их жаль потому, что, может быть, они не доживут до 1-го брюмера или до 1-го нивоза 57-го года, что, может, через неделю они погибнут на баррикадах, пропадут на галерах, в депортации, на гильотине или, по новой моде, их, может, перестреляют с связанными руками, загнавши куда-нибудь в угол Карусельской площади или под внешние форты, – все это очень печально, но я не об этом жалел, грусть моя была глубже.
Мне было жаль их откровенное заблуждение, их добросовестную веру в несбыточные вещи, их горячее упование, столько же чистое и столько же призрачное, как рыцарство Дон-Кихота. Мне было жаль их, как врачу бывает жаль людей, не подозревающих страшного недуга в груди своей. – Сколько нравственных страданий готовят себе эти люди – они будут биться, как герои, они будут работать всю жизнь и не успеют. Они отдадут кровь, силы, жизнь и, состаревшись, увидят, что из их труда ничего не вышло, что они делали не то, что надобно, и умрут с горьким сомнением в человека, который не виноват; или – еще хуже – впадут в ребячество и будут, как теперь, ждать всякий день огромной перемены, водворения их республики, – принимая предсмертные муки умирающего за страдания, предшествующие родам. Республика – так, как они ее понимают, – отвлеченная и неудобоисполнимая мысль, плод теоретических дум, апотеоза существующего государственного порядка, преображение того, что есть; их республика – последняя мечта, поэтический бред старого мира. В этом бреду есть и пророчество, но пророчество, относящееся к жизни за гробом, к жизни будущего века. Вот чего они – люди прошедшего, несмотря на революционность свою, связанные с старым миром на живот и на смерть, – не могут понять. Они воображают, что этот дряхлый мир может, как Улисс, поюнеть, – не замечая того, что осуществление одной закраины их республики мгновенно убьет его; они не знают, что нет круче противоречия, как между их идеалом и существующим порядком, что одно должно умереть, чтоб другому можно было жить. Они не могут выйти из старых форм, они их принимают за какие-то вечные границы, и оттого их идеал носит только имя и цвет будущего, а в сущности принадлежит миру прошедшему, не отрешается от него.
Зачем они не знают этого?
Роковая ошибка их состоит в том, что, увлеченные благородной любовью к ближнему, к свободе, увлеченные нетерпением и негодованием, они бросились освобождать людей прежде, нежели сами освободились; они нашли в себе силу порвать железные, грубые цепи, не замечая того, что стены тюрьмы остались. Они хотят, не меняя стен, дать им иное назначение, как будто план острога может годиться для свободной жизни.
Ветхий мир католико-феодальный дал все видоизменения, к которым он был способен, развился во все стороны до высшей степени изящного и отвратительного, до обличения всей истины, в нем заключенной, и всей лжи; наконец он истощился. Он может еще долго стоять, но обновляться не может; общественная мысль, развивающаяся теперь, такова, что каждый шаг к осуществлению ее будет выход из него. Выход! – Тут-то и остановка! Куда? Что там за его стенами? Страх берет – пустота, ширина, воля… как идти, не зная куда; как терять, не видя приобретений! – Если б Колумб так рассуждал, он никогда не снял бы якоря. – Сумасшествие ехать по океану, не зная дороги, – по океану, по которому никто не ездил, плыть в страну, существование которой – вопрос. Этим сумасшествием он открыл новый мир. Конечно, если б народы переезжали из одного готового hôtel garni[32]32
меблированных комнат (франц.). – Ред.
[Закрыть] в другой, еще лучший, было бы легче, да беда в том, что некому заготовлять новых квартир. В будущем хуже, нежели в океане, – ничего нет, оно °будет таким, каким его сделают обстоятельства и люди.
Если вы довольны старым миром, старайтесь его сохранить, он очень хил, и надолго его не станет при таких толчках, как 24 февраля; но если вам невыносимо жить в вечном раздоре убеждений с жизнию, думать одно и делать другое, выходите из-под выбеленных, средневековых сводов на свой страх; отважная дерзость в иных случаях выше всякой мудрости. Я очень знаю, что это не легко; шутка ли расстаться со всем, к чему человек привык со дня рождения, с чем вместе рос и вырос. Люди, о которых мы говорим, готовы на страшные жертвы, – но не на те, которые от них требует новая жизнь. Готовы ли они пожертвовать современной цивилизацией, образом жизни, религией, принятой условной нравственностью? Готовы ли они лишиться всех плодов, выработанных с такими усилиями, – плодов, которыми мы хвастаемся три столетия, которые нам так дороги, лишиться всех удобств и прелестей нашего существования, предпочесть дикую юность – образованной дряхлости, необработанную почву, непроходимые леса – истощенным полям и расчищенным паркам, сломать свой наследственный замок из одного удовольствия участвовать в закладке нового дома, который построится, без сомнения, гораздо после нас? Это вопрос безумного, скажут многие. – Его делал Христос иными словами.
Либералы долго играли, шутили с идеей революции и дошутились до 24 февраля. Народный ураган поставил их на вершину колокольни и указал им, куда они идут и куда ведут других; посмотревши на пропасть, открывавшуюся перед их глазами, они побледнели; они увидели, что не только то падает, что они считали за предрассудок, но и все остальное, что они считали за вечное и истинное; они до того перепугались, что одни уцепились за падающие стены, а другие остановились кающимися на полдороге и стали клясться всем прохожим, что они этого не хотели. Вот отчего люди, провозглашавшие республику, сделались палачами свободы, вот отчего либеральные имена, звучавшие в ушах наших лет двадцать, являются ретроградными депутатами, изменниками, инквизиторами. Они хотят свободы, даже республики в известном круге, литературно образованном. За пределами своего умеренного круга они становятся консерваторами. Так рационалистам нравилось объяснять тайны религии, им нравилось раскрывать значение и смысл мифов, они не думали, что из этого выйдет, не думали, что их исследования, начинающиеся со страха господня, окончатся атеизмом, что их критика церковных обрядов приведет к отрицанию религии.
Либералы всех стран, со времени Реставрации, звали народы на низвержение монархически-феодального устройства во имя равенства, во имя слез несчастного, во имя страданий притесненного, во имя голода неимущего; они радовались, гоняя до упаду министров, от которых требовали неудобоисполнимого, они радовались, когда одна феодальная подставка падала за другой, и до того увлеклись наконец, что перешли собственные желания. Они опомнились, когда из-за полуразрушенных стен явился – не в книгах, не в парламентской болтовне, не в филантропических разглагольствованиях, а на самом деле – пролетарий, работник с топором и черными руками, голодный и едва одетый рубищем. Этот «несчастный, обделенный брат», о котором столько говорили, которого так жалели, спросил, наконец, где же его доля во всех благах, в чем его свобода, его равенство, его братство. Либералы удивились дерзости и неблагодарности работника, взяли приступом улицы Парижа, покрыли их трупами и спрятались от брата за штыками осадного положения, спасая цивилизацию и порядок!
Они правы, только они непоследовательны. Зачем же они прежде подламывали монархию? Как же они не поняли, что, уничтожая монархический принцип, революция не может остановиться на том, чтоб вытолкать за дверь какую-нибудь династию. Они радовались, как дети, что Людовик-Филипп не успел доехать до С.-Клу, а уж в Hôtel de Ville явилось новое правительство и дело пошло своим чередом, в то время как эта легкость переворота должна им была показать несущественность его. Либералы были удовлетворены. Но народ не был удовлетворен, но народ поднял теперь свой голос, он повторял их слова, их обещания, а они, как Петр, троекратно отреклись и от слов и от обещания, как только увидели, что дело идет не на шутку, – и начали убийства. Так Лютер и Кальвин топили анабаптистов, так протестанты отрекались от Гегеля и гегелисты – от Фейербаха. Таково положение реформаторов вообще, они, собственно, наводят только понтоны, по которым Увлеченные ими народы переходят с одного берега на другой. Для них нет среды лучше, как конституционное сумрачное ни то ни се. И в этом-то мире словопрений, раздора, непримиримых противуречий, не изменяя его, хотели эти суетные люди осуществить свои pia desideria[33]33
благие пожелания (лат.). – Ред.
[Закрыть] свободы, равенства и братства.
Формы европейской гражданственности, ее цивилизация, ее добро и зло разочтены по другой сущности, развились из иных понятий, сложились по иным потребностям. До некоторой степени формы эти, как все живое, были изменяемы, но, как все живое, изменяемы до некоторой степени; организм может воспитываться, отклоняться от назначения, прилаживаться к влияниям до тех пор, пока отклонения не отрицают его особности, его индивидуальности, то, что составляет его личность; как скоро организм встречает такого рода влияния, делается борьба, и организм побеждает или гибнет. Явление смерти в том и состоит, что составные части организма получают иную цель, они не пропадают, пропадает личность, а они вступают в ряд совсем других отношений, явлений.
Государственные формы Франции и других европейских держав не совместны по внутреннему своему понятию ни с свободой, ни с равенством, ни с братством, всякое осуществление этих идей будет отрицанием современной европейской жизни, ее смертью. Никакая конституция, никакое правительство не в состоянии дать феодально-монархическим государствам истинной свободы и равенства – не разрушая дотла все феодальное и монархическое. Европейская жизнь, христианская и аристократическая, образовала нашу цивилизацию, наши понятия, наш быт; ей необходима христианская и аристократическая среда. Среда эта могла развиваться сообразно с духом времени, с степенью образования, сохраняя свою сущность, в католическом Риме, в кощунствующем Париже, в философствующей Германии; но далее идти нельзя, не переступая границу. В разных частях Европы люди могут быть посвободнее, поравнее, нигде не могут они быть свободны и равны – пока существует эта гражданская форма, пока существует эта цивилизация. Это знали все умные консерваторы и оттого поддерживали всеми силами старое устройство. Неужели вы думаете, что Меттерних и Гизо не видели несправедливости общественного порядка, их окружавшего? – но они видели, что эти несправедливости так глубоко вплетены во весь организм, что стоит коснуться до них – все здание рухнется; понявши это, они стали стражами status quo. А либералы разнуздали демократию да и хотят воротиться к прежнему порядку. Кто же правее?
В сущности, само собою разумеется, все неправы – и Гизо, и Меттернихи, и Каваньяки, все они делали действительные злодеяния из-за мнимой цели, они теснили, губили, лили кровь для того, чтоб задержать смерть. Ни Меттерних с своим умом, ни Каваньяк с своими солдатами, ни республиканцы с своим непониманием не могут в самом деле остановить поток, течение которого так сильно обозначилось, только вместо облегчения они усыпают людям путь толченым стеклом. Идущие народы пройдут, хуже, труднее, изрежут себе ноги, но все-таки пройдут; сила социальных идей велика, особенно с тех пор, как их начал понимать истинный враг, враг по праву существующего гражданского порядка – пролетарий, работник, которому досталась вся горечь этой формы жизни и которого миновали все ее плоды. Нам еще жаль старый порядок вещей, кому же и пожалеть его, как не нам? Он только для нас и был хорош, мы воспитаны им, мы его любимые дети, мы сознаемся, что ему надобно умереть, но не можем ему отказать в слезе. Ну, а массы, задавленные работой, изнуренные голодом, притуплённые невежеством, они о чем будут плакать на его похоронах?.. Они были эти не приглашенные на пир жизни, о которых говорит Мальтюс, их подавленность была необходимым условием нашей жизни.
Все наше образование, наше литературное и научное развитие, наша любовь изящного, наши занятия предполагают среду, постоянно расчищаемую другими, приготовляемую другими; надобен чей-то труд для того, чтоб нам доставить досуг, необходимый для нашего психического развития, тот досуг, ту деятельную праздность, которая способствует мыслителю сосредоточиваться, поэту мечтать, эпикурейцу наслаждаться, которая способствует пышному, капризному, поэтическому, богатому развитию наших аристократических индивидуальностей.
Кто не знает, какую свежесть духу придает беззаботное довольство; бедность, выработывающаяся до Жильбера, – исключение, бедность страшно искажает душу человека – не меньше богатства. Забота об одних материальных нуждах подавляет способности. А разве довольство может быть доступно всем при современной гражданской форме? Наша цивилизация – цивилизация меньшинства, она только возможна при большинстве чернорабочих. Я не моралист и не сентиментальный человек; мне кажется, если меньшинству было действительно хорошо и привольно, если большинство молчало, то эта форма жизни в прошедшем оправдана. Я не жалею о двадцати поколениях немцев, потраченных на то, чтоб сделать возможным Гёте, и радуюсь, что псковский оброк дал возможность воспитать Пушкина. Природа безжалостна; точно как известное дерево, она мать и мачеха вместе; она ничего не имеет против того, что две трети ее произведений идут на питание одной трети, лишь бы они развивались. Когда не могут все хорошо жить, пусть живут несколько, пусть живет один – на счет других, лишь бы кому-нибудь было хорошо и широко. Только с этой точки и можно понять аристократию. Аристократия – вообще более или менее образованная антропофагия; каннибал, который ест своего невольника, помещик, который берет страшный процент с земли, фабрикант, который богатеет на счет своего работника, составляют только видоизменения одного и того же людоедства. Я, впрочем, готов защищать и самую грубую антропофагию; если один человек себя рассматривает как блюдо, а другой хочет его съесть – пусть ест; они стоят того – один, чтоб быть людоедом, другой, чтоб быть кушанием.
Пока развитое меньшинство, поглощая жизнь поколений, едва догадывалось, отчего ему так ловко жить; пока большинство, работая день и ночь, не совсем догадывалось, что вся выгода работы – для других, и те и другие считали это естественным порядком, мир антропофагии мог держаться. Люди часто принимают предрассудок, привычку за истину, – и тогда она их не теснит; но когда они однажды поняли, что их истина – вздор, дело кончено, тогда только силою можно заставить делать то, что человек считает нелепым. Учредите постные дни без веры? Ни под каким видом; человеку сделается так же невыносимо есть постное, как верующему есть скоромное.
Работник не хочет больше работать для другого – вот вам и конец антропофагии, вот предел аристократии. Все дело остановилось теперь за тем, что работники не сосчитали своих сил, что крестьяне отстали в образовании; когда они протянут друг другу руку, – тогда вы распроститесь с вашим досугом, с вашей роскошью, с вашей цивилизацией, тогда окончится поглощение большинства на выработывание светлой и роскошной жизни меньшинству. В идее теперь уже кончена эксплуатация человека человеком. Кончена потому, что никто не считает это отношение справедливым!
Как же этот мир устоит против социального переворота? во имя чего будет он себя отстаивать? – религия его ослабла, монархический принцип потерял авторитет; он поддерживается страхом и насилием; демократический принцип – рак, снедающий его изнутри.
Духота, тягость, усталь, отвращение от жизни – распространяются вместе с судорожными попытками куда-нибудь выйти. Всем на свете стало дурно жить – это великий признак.
Где эта тихая, созерцательная, кабинетная жизнь в сфере знания и искусств, в которой жили германцы; где этот вихрь веселья, остроты, либерализма, нарядов, песен, в котором кружился Париж? Все это – прошедшее, воспоминание. Последнее усилие спасти старый мир обновлением из его собственных начал не удалось.
Все мельчает и вянет на истощенной почве – нету талантов, нету творчества, нету силы мысли, – нету силы воли; мир этот пережил эпоху своей славы, время Шиллера и Гёте прошло так же, как время Рафаэля и Бонарроти, как время Вольтера и Руссо, как время Мирабо и Дантона; блестящая эпоха индустрии проходит, она пережита так, как блестящая эпоха аристократии; все нищают, не обогащая никого; кредиту нет, все перебиваются с дня на день, образ жизни делается менее и менее изящным, грациозным, все жмутся, все боятся, все живут, как лавочники, нравы мелкой буржуази сделались общими; никто не берет оседлости; все на время, наемно, шатко. Это то тяжелое время, которое давило людей в третьем столетии, когда самые пороки древнего Рима утратились, когда императоры стали вялы, легионы мирны. Тоска мучила людей энергических и беспокойных до того, что они толпами бежали куда-нибудь в фиваидские степи, кидая на площадь мешки золота и расставаясь навек и с родиной и с прежними богами. – Это время настает для нас, тоска наша растет!
Кайтесь, господа, кайтесь! Суд миру вашему пришел. Не спасти вам его ни осадным положением, ни республикой, ни казнями, ни благотворениями, ни даже разделением полей. Может быть, судьба его не была бы так печальна, если б его не защищали с таким усердием и упорством, с такой безнадежной ограниченностью. Никакое перемирие не поможет теперь во Франции; враждебные партии не могут ни объясниться, ни понять друг друга, у них разные логики, два разума. Когда вопросы становятся так, нет выхода – кроме борьбы, один из двух должен остаться на месте – монархия или социализм.
Подумайте, у кого больше шансов? Я предлагаю пари за социализм. «Мудрено себе представить!» – Мудрено было и христианству восторжествовать над Римом. Я часто воображаю, как Тацит или Плиний умно рассуждали с своими приятелями об этой нелепой секте назареев, об этих Пьер Ле-Ру, пришедших из Иудеи с энергической и полубезумной речью, о тогдашнем Прудоне, явившемся в самый Рим проповедовать конец Рима. Гордо и мощно стояла империя в противуположность этим бедным пропагандистам – а не устояла однако.
Или вы не видите новых христиан, идущих строить, новых варваров, идущих разрушать? – Они готовы, они, как лава, тяжело шевелятся под землею, внутри гор. Когда настанет их час – Геркуланум и Помпея исчезнут, хорошее и дурное, правый и виноватый погибнут рядом. Это будет не суд, не расправа, а катаклизм, переворот… Эта лава, эти варвары, этот новый мир, эти назареи, идущие покончить дряхлое и бессильное и расчистить место свежему и новому, ближе, нежели вы думаете. Ведь это они умирают от голода, от холода, они ропщут над нашей головой и под нашими ногами, на чердаках и в подвалах, в то время как мы с вами au premier[34]34
в бельэтаже (франц.). – Ред.
[Закрыть],
Шампанским вафли запивая,
толкуем о социализме. Я знаю, что это не новость, что оно и прежде было так, но прежде они не догадывались, что это очень глупо.
– Но неужели будущая форма жизни вместо прогресса должна водвориться ночью варварства, должна купиться утратами? – Не знаю, но думаю, что образованному меньшинству, если оно доживет до этого разгрома и не закалится в свежих, новых понятиях, жить будет хуже. Многие возмущаются против этого, я нахожу это утешительным, для меня в этих утратах доказательство, что каждая историческая фаза имеет полную действительность, свою индивидуальность, что каждая – достигнутая цель, а не средство; оттого у каждой свое благо, свое хорошее, лично принадлежащее ей и которое с нею гибнет. Что вы думаете, римские патриции много выиграли в образе жизни, перешедши в христианство? или аристократы до революции разве не лучше жили, нежели мы с вами живем?
– Все это так, но мысль о крутом и насильственном перевороте имеет в себе что-то отталкивающее для многих. Люди, видящие, что перемена необходима, желали бы, чтоб она сделалась исподволь. Сама природа, говорят они, по мере того как она складывалась и становилась богаче, развитее, перестала прибегать к тем страшным катаклизмам, о которых свидетельствует кора земного шара, наполненная костями целых населений, погибнувших в ее перевороты; тем более стройная, покойная метаморфоза свойственна той степени развития природы, в которой она достигла сознания.
– Она достигла его несколькими головами, малым числом избранных, остальные достигают еще и оттого покорены Naturgewalt'ам[35]35
силам природы (нем.). – Ред.
[Закрыть], инстинктам, темным влечениям, страстям. Для того, чтоб мысль, ясная и разумная для вас, была мыслию другого, – недостаточно, чтоб она была истинна, – для этого нужно, чтоб его мозг был развит так же, как ваш, чтоб он был освобожден от предания. Как вы уговорите работника терпеть голод и нужду, пока исподволь переменится гражданское устройство? Как вы убедите собственника, ростовщика, хозяина разжать руку, которой он держится за свои монополи и права? Трудно представить себе такое самоотвержение. Что можно было сделать – сделано; развитие среднего сословия, конституционный порядок дел – не что иное, как промежуточная форма, связующая мир феодально-монархический с социально-республиканским. Буржуазия именно представляет это полуосвобождение, эту дерзкую нападку на прошедшее с желанием унаследовать его власть. Она работала для себя – и была права. Человек серьезно делает что-нибудь только тогда, когда делает для себя. Не могла же буржуазия себя принимать за уродливое промежуточное звено, она принимала себя за цель; но так как ее нравственный принцип был меньше и беднее прошлого, а развитие идет быстрее и быстрее, то и нечему дивиться, что мир буржуази истощился так скоро и не имеет в себе более возможности обновления. Наконец, подумайте, в чем может быть этот переворот исподволь – в раздроблении собственности, вроде того, что было сделано в первую революцию? – Результат этого будет тот, что всем на свете будет мерзко; мелкий собственник – худший буржуа из всех; все силы, таящиеся теперь в многострадательной, но мощной груди пролетария, иссякнут; правда, он не будет умирать с голода, да на том и остановится, ограниченный своим клочком земли или своей каморкой в работничьих казармах. Такова перспектива мирного, органического переворота. Если это будет, тогда главный поток истории найдет себе другое русло, он не потеряется в песке и глине, как Рейн, человечество не пойдет узким и грязным проселком, – ему надобно широкую дорогу. Для того, чтоб расчистить ее, оно ничего не пожалеет. В природе консерватизм так же силен, как революционный элемент. Природа дозволяет жить старому и ненужному, пока можно; но она не пожалела мамонтов и мастодонтов для того, чтоб уладить земной шар. Переворот, их погубивший, не был направлен против них; если б они могли как-нибудь спастись, они бы уцелели и потом спокойно и мирно выродились бы, окруженные средой, им не свойственной. Мамонты, которых кости и кожу находят в сибирских льдах, вероятно, спаслись от геологического переворота; это Комнены, Палеологи в феодальном мире. Природа ничего не имеет против этого, так же, как история. Мы ей подкладываем сентиментальную личность и наши страсти, мы забываем наш метафорический язык и принимаем образ выражения за самое дело. Не замечая нелепости, мы вносим маленькие правила нашего домашнего хозяйства во всемирную экономию, для которой жизнь поколений, народов, целых планет не имеет никакой важности в отношении к общему развитию. В противуположность нам, субъективным, любящим одно личное, для природы гибель частного – исполнение той же необходимости, той же игры жизни, как возникновение его; она не жалеет об нем потому, что из ее широких объятий ничего не может утратиться, как ни изменяйся.
1 октября 1848 года.
Champs Elysées








