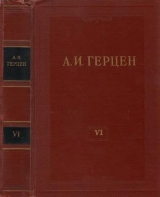
Текст книги "Том 6. С того берега. Долг прежде всего"
Автор книги: Александр Герцен
сообщить о нарушении
Текущая страница: 36 (всего у книги 41 страниц)
Поэтому в противоречии со своим исходным положением о том, что движение истории не знает предела, что старое уступает место новому, Герцен допускает, что само историческое развитие человечества может быть уподоблено «вечной игре жизни», такому «perpetuum mobile», которое напоминает собою движение маятника (см. «Эпилог 1849»). Из такого представления возникает и глубоко пессимистическая мысль о том, что самая победа социализма в конечном счете способна довести положение общества «до крайних последствий, до нелепостей», что и вызовет вновь протест «революционного меньшинства» и необходимость «грядущей неизвестной нам революции».
Противоречивы и мысли Герцена о возможностях общественной активности передового человека в обстановке поражения революции. Герцен стремится к «сознательному действию», способному оказать влияние на общественную жизнь и ход истории, но считает, что такого действия «не может еще быть». В предпоследней главе «С того берега» – «Omnia mea mecum porto» – Герцен говорит уже лишь о возможности «отрицательного действия», о том, что передовой человек вправе целиком уйти во «внутреннюю работу», даже «начать независимую, самобытную жизнь» в стороне от гибнущего старого мира. В этой связи большой интерес представляет обращение Герцена к образам римских философов первых веков нашей эры.
Еще в «Письмах об изучении природы» Герцен касался исторической роли этих мыслителей как пессимистических и пассивных свидетелей разложения Рима и возникновения христианства. Он упоминал о том, «какие страшные слова вырываются иногда у Плиния, у Лукана, у Сенеки… Какая усталь пала на душу людей этих, какое отчаяние придавило их!» (т. III наст, изд., стр. 209). Эта характеристика была связана с проводившейся Герценом аналогией между появлением христианства в первые века н. э., с одной стороны, и ростом социалистических учений в 30-40-е годы XIX века – с другой.
Но если в годы работы над «Письмами об изучении природы» Герцен ожидал скорого и легкого торжества социализма, то «С того берега» отражает крушение этих надежд. Поэтому существенным образом меняется и отношение его к тем римским философам начала н. э., пессимизм которых Герцен резко осудил в «Письмах».
В заключении главы «Consolatio» Герцен подчеркивает проницательность их пессимизма – «они не испугались истины». Эти слова вложены здесь в уста скептику-доктору. Но из письма Огареву от 10 июня 1849 г. видно, что Герцен проводил параллель между точкой зрения этих философов и своей собственной, правда, лишь по отношению к западноевропейским событиям. Об этом свидетельствует письмо к М. Гессу от 3 марта 1850 г., где Герцен говорит: «<…> моя позиция наблюдателя определяется моей национальностью; я физиологически принадлежу к другому миру, я могу с большим равнодушием констатировать страшную язву, которая снедает Западную Европу. <…> мы, русские, находимся в совсем ином положении, чем римские философы – те не имели ничего, кроме своей мысли, мрачной и гордой <…> Мы же, наоборот, только ждем, когда выступить». Большой интерес представляет также письмо к Маццини от 13 сентября 1850 г., в котором Герцен выступает против истолкования «Omnia mea mecum porto» как проповеди общественной пассивности. «То, что я требую, что я проповедую, это – полный разрыв с неполными революционерами… Не думайте, что с моей стороны это – предлог отказа от дела. Я не сижу сложа руки, у меня еще слишком много крови в жилах и энергии в сердце, чтобы мне нравилась роль пассивного зрителя. С 13-ти лет и до 38-ми я служил одной и той же идее, имел одно только знамя: война против всякой установленной власти, против всех видов рабства во имя безусловной независимости личности». А 1 июня 1851 г. датировано признание Герцена в том, что содержащийся в названной статье призыв «лично начать новую жизнь» был несостоятелен (см. т. V наст. изд., стр. 209).
Позднее, в «Былом и думах», в главе «1848», Герцен также дал критическую характеристику тех выводов, к которым он пришел в «Omnia mea mecum porto».
В данной связи существенно и то, что в немецком издании «С того берега» были даны письма к Г. Гервегу («Россия») и к Маццини, в которых указывалось на возможность того, что будущее человечества и его судьбы окажутся связанными с Россией (см. комментарий к этим произведениям). Крайне противоречивы и некоторые высказывания по вопросам эстетики, содержащиеся в книге «С того берега». С одной стороны, Герцен предвидит, что культура, искусство не могут оставаться достоянием «развитого меньшинства», но, с другой – вкладывает в уста доктору из «Consolatio» мысль о том, что красота и «страшное богатство сил» недоступны и, повидимому, останутся недоступными народу – «все это не относится к массам, ко всем».
Заслуживает внимания вопрос о заголовке «С того берега». 4 марта 1850 г. Герцен писал М. Гессу: «Заглавие моей брошюры ввело в заблуждение очень многих и в том числе Вас, дорогой господин Гесс. Я написал ее в Швейцарии, и «С того берега» означает только – за рубежом революции, больше ровно ничего».
Имеется однако косвенное доказательство того, что уже тогда Герцен порою вкладывал в этот заголовок более значительное содержание. В письме к Т. Н. Грановскому и другим московским друзьям от 27 сентября 1849 г. содержится фраза: «<…> вы вправе спросить: кто же с вами на одном берегу?»
Во всяком случае в печати и в эпистолярных и устных высказываниях современников заглавие «С того берега» было понято как указание на идейную позицию автора.
Впоследствии в черновом варианте обращения к сыну сам Герцен дал иное истолкование «того берега», нежели то, которое содержится в письме к Гессу. Говоря о мосте в будущее, по которому пройдет будущий человек – строитель грядущего, Герцен в черновом варианте обращения писал: «Ты, может, увидишь его <будущего человека>… не останься на том берегу… Лучше с революцией погибнуть, нежели спастись в богадельне реакции» (см. стр. 440 настоящего тома).
Здесь «тот берег» понимается как берег революции, противопоставленный берегу реакции. Тот же смысл вложен в окончательный вариант обращения к сыну, напечатанный в изданиях 1855 и 1858 годов (см. примечание к стр. 7).
Книга Герцена произвела огромное впечатление как в России, так и в Западной Европе и сыграла значительную роль в идейной жизни и борьбе эпохи.
В России списки глав «С того берега» ходили по рукам. В письме к С. Ф. Дурову от 26 марта 1849 г. А. Н. Плещеев отмечал: «Рукописная литература в Москве в большом ходу. Теперь все восхищаются письмом Белинского к Гоголю, пьеской Искандера «Перед грозой»…» («Философские и общественно-политические произведения петрашевцев», Госполитиздат, 1953, стр. 723).
В кругах русской передовой интеллигенции книга Герцена была воспринята прежде всего как полное истинного драматизма и проникнутое пессимистической, но выстраданной мыслью отражение событий всемирно-исторического значения, политического опыта Европы. 12 сентября 1848 г. Н. А. Некрасов писал И. С. Тургеневу: «Я плакал, читая «После грозы» – это чертовски хватает за душу» (H. A. Hекрасов. Полн. собр. соч. и писем, Гослитиздат, т. X, 1952, стр. 116).
Грановский писал Герцену весной 1851 г. (точная дата письма неизвестна): «…я не могу помириться с твоим воззрением на историю и на человека… Для такого человечества, какое ты представляешь в статьях своих, для такого скудного и бесплодного развития не нужно великих и благородных деятелей… Ты пишешь теперь для немногих, способных понять твою мысль и не оскорбиться ею» (ЛН, т. 62, стр. 99).
В отзыве Т. Н. Грановского хотя и чувствуется опасение, что книга может быть воспринята как скептический призыв к общественной пассивности, но вместе с тем содержится признание того, что горькое разочарование Герцена в утопических иллюзиях и надеждах будет не бесплодным как для самого автора, так и для развития передовой мысли.
Н. И. Сазонов в статье «Литература и писатели в России» видит в книге Герцена отражение «кризиса, но кризиса в могучем организме, где неизбежно должно победить здоровое начало». Он отмечает характерное для произведения «прославление человеческой личности, рассматриваемой как последний обломок рушащегося нравственного мира, как единственная ценность, достойная спасения во время всемирного катаклизма» [ЛН, т. 41–42, стр. 199–200).
И сам Герцен в посвящении сыну (1855) называл «С того берега» «протестом независимой личности против воззрения устарелого, рабского и полного лжи…» В самодержавно-крепостнической России такой протест являлся выступлением против политического гнета. Поэтому Горький и видел в книге Герцена «прекрасно разработанное учение о ценности личности – в стране рабов это учение необходимо должно было явиться» (М. Горький. История русской литературы, 1939, стр. 208).
Что касается реакционных кругов, то их представителями были сделаны попытки доказать на примере книги Герцена, как гибельны результаты атеизма – таков, например, анонимно изданный в Берлине в 1859 г. памфлет Н. В. Елагина «Искандер Герцен» (глава III «Голос на клик «С того берега»). С другой стороны, прикрываясь лицемерными уверениями в «высочайшем уважении» к Герцену, Н. Страхов в 1870 г. утверждал, что «С того берега» является полным отречением от идей революции и социализма.
«С того берега», как произведение непреходящего духовного и художественного значения, чрезвычайно высоко ценил Л. Н. Толстой. В своем дневнике он записал 12 октября 1905 г.: «Читал… Герцена «С того берега» и тоже восхищался…» (Л. Н. Толстой. Полное собр. соч., т. 55, 1937, стр. 165).
Л. Н. Толстой перечитал «С того берега», получив письмо В. В. Стасова от 24 сентября 1905 г., в котором говорилось: «Помните ли вы, Лев Николаевич, вот, например, это «Посвящение моему сыну» перед началом книги «С того берега», – помните ли вы? Я миллион раз читал это себе и другим, и всякий раз, словно в первый, в самый первый раз читаю эти скрижали завета» (Лев Толстой и В. В. Стасов. Переписка, 1878–1906, Прибой, 1929, стр. 375).
Однако, как свидетельствует ответное письмо Л. Н. Толстого от 18 октября 1905 г., его восхищение книгой Герцена объяснялось и тем, что в ней он стремился найти созвучное собственным настроениям отрицание целесообразности кровавой революционной борьбы.
Художественных достоинств «С того берега», в особенности диалогической формы книги, в разговоре с Герценом (1862) коснулся Ф. М. Достоевский (см. «Дневник писателя»).
Книга «С того берега» имела большой успех среди демократической интеллигенции Западной Европы, особенно в Германии. В 1872 г. либеральный журнал «Neuе Zeit» отмечал, что «знаменитая книга „С того берега”… произвела в Германии глубокое впечатление» («Neue Zeit»,1872, Erste Hälfte, стр. 40). Непосредственное и восторженное чувство, вызванное книгой Герцена, получило отражение в мемуарах М. Мейзенбуг (глава III второй части «Воспоминаний идеалистки»), ставшей позднее другом семьи Герцена и воспитательницей его детей.
О том, что книга «С того берега» вызвала «отзывы, больше нежели лестные» таких виднейших в то время представителей немецкой эмиграции в Швейцарии, как Фребель – он несколько позднее популяризовал «С того берега» в Америке (см. ЛН, т. 7–8, стр. 71) – и Якоби, свидетельствует сам Герцен в предисловии к книге. В письме к Т. Н. Грановскому из Швейцарии от 4 августа 1849 г. Герцен в шутливо зашифрованной форме, имея в виду немецкий перевод «С того берега», писал об успехе этого произведения: «Да кстати, мои маленькие музыкальные пиэски сделали чрезвычайный успех, разыгранные одним приятелем Рейхеля, немецким скрыпачем. Я сам не ждал этого».
С другой стороны, книга Герцена подверглась критике как в некоторых органах демократической печати, так и в письмах к автору. Однако ни сторонники, ни противники книги из лагеря буржуазной демократии не могли уяснить себе ее истинного значения.
Р. Зольгер, которого Герцен называл своим «самым остроумным противником» (введение к «С того берега»), в статьях, напечатанных в 1850 г. в «Deutsche Monatsschrift für Politik, Wissenschaft, Kunst und Leben»[168]168
Статьи эти были напечатаны в журнале в виде передовых, без подписи, но их обычно приписывают Зольгеру, поскольку другие его статьи на эту тему неизвестны, а он был постоянным сотрудником этого журнала (ср. ЛН, т. 61, стр. 363, и Eberhard Wolfgramm. «Alexander Herzen und die “Deutsche Monatsschrift”» в «Zeitschrift für Geschichtswissenschaft», Beiheft 1, Berlin, 1954, S. 101).
[Закрыть], пытался отклонить критику Герценом буржуазно-демократических верований и иллюзий под тем предлогом, что «С того берега» отражает «особую точку зрения», субъективно оправданную положением русского эмигранта, его одиночеством, но не могущую иметь значения идейного принципа. Противопоставляя пессимизму Герцена заявление «наше знамя – народ» и называя воззрения «С того берега» «аристократическими» («Deutsche Monatsschrift», 1850, X–XII, стр. 329, 330), Зольгер однако закрывал глаза на основной вопрос, поставленный этой книгой, на необходимость поисков правильной революционной теории, на несостоятельность миросозерцания буржуазной демократии.
Примерно на тех же позициях стоял в своей переписке с Герценом Моисей Гесс (ЛЯ, т. 7–8, стр. 77–89).
Что касается Прудона, то письмо его к Герцену от 15 сентября 1849 г. показывает, что уже тогда между ними лежала идейная грань, которую однако автор «С того берега» еще не замечал: «Я, так же как и вы, думаю, что революция не допускает больше методического, мирного движения с осторожными формами переходов, как того хотела бы чистая экономическая теория и философия истории. Нам надобно будет делать страшные скачки, гигантские шаги. Но я думаю, что в качестве публицистов, возвещая грядущие социальные катастрофы, нам не должно представлять их необходимыми и справедливыми. Мы должны неизменно изыскивать для каждого момента наиболее умеренные и благоразумные решения» (ЛН, т. 62, стр. 500).
И Гесс, и Зольгер, и Прудон обвиняли Герцена в излишнем пессимизме, бездоказательно предсказывая скорое приближение нового революционного подъема. Они защищали те буржуазные иллюзии, против которых боролся Герцен.
Сыну моему Александру*
Впервые напечатано в издании 1855 г. и польностью повторено в издании 1858 г. Черновой автограф, местонахождение которого неизвестно, воспроизведен факсимильно в газете «Речь», 1912, № 83 (см. раздел «Варианты»). Автограф французской редакции этого повящения (см. раздел «Другие редакции») датирован не 1 января 1855 г., как в печатном тексте, а 5 декабря/23 ноября 1854 г. Это посвящение было прочтено Герценом своему сыну публично порукописи на новогоднем вечере 31 декабря 1854 г., в присутствии многочисленных представителей европейской революционной эмиграции. При этом Герцен вручил своему сыну отпечатанный экземпляр русского издания «С того берега» (см. Мальвида Мейзенбуг. Воспоминания идеалистки. М.–Л., 1933, стр. 304–306).
…иной, неизвестный, будущий пройдет по нем ~ Лучше с ним погибнуть, нежели спастись в богадельне реакции. – Эти последние строки посвящения сыну воспроизведены редакцией в том виде, какой они имеют в прижизненных изданиях «С того берега». Иной вариант их, включающий известные слова: «лучше с революцией погибнуть, чем спастись в богадельне реакции», содержался в черновой рукописи, фотокопия с которой опубликована в «Речи» 1912 г., № 83 (см. «Варианты», стр. 440). Редакция считает, что контаминация печатного текста и рукописного варианта, как это сделал М. К. Лемке (Л V, 382), была бы необоснованной, тем более, что последний авторизованный текст строк, о которых идет речь, по идейному содержанию отнюдь не противоречит раннему варианту. Говоря о том, что «лучше с ним погибнуть», Герцен явно имеет в виду не «старый берег» (ведь он призывает не оставаться на нем), а «иного, неизвестного, будущего» человека, воплощающего собою грядущую революцию.
Введение*
Впервые напечатано в издании 1855 г. и полностью повторено виздании 1858 г. Автограф неизвестен.
Обращение «Прощайте!» в ранней редакции имело название «Addio!» и было датировано, как и в окончательном тексте, 1 марта 1849 г. В Москву «Addio!» было послано Герценом в августе 1849 г. Сохранилась переписанная рукой Н. X. Кетчера копия «Addio!», восходящая к ранней редакции и значительно отличающаяся от окончательного текста (см. раздел «Другие редакции»).
Второе декабря ответило им громче меня. – 2 декабря 1851 г. французский президент Луи Бонапарт совершил государственный переворот, разогнав Законодательное собрание и окончательно уничтожив завоевания февральской революции 1848 г.
…русских, этих «немых», как говорил Мишле. – Характеристика русского народа была дана Мишле в «Легенде о Костюшко», напечатанной в газете «L'Avènement du Peuple» в 1851 г., а затем в книге «Демократические легенды» (Légendes démocratiques du Nord par J. Michelet. Paris, 1854, p. 44). Рассматривая отношение Мишле к русскому народу, Герцен полемизирует с ним в статье «Русский народ и социализм. Письмо к Ж. Мишле» (см. т. VIIнаст. изд.).
«Кто более нашего славил ~ Дух мой уныл, слаб и печален!» – Герцен цитирует с существенными купюрами произведение H. М. Карамзина «Мелодор к Филалету».
…загораживая последний свет ~ своей черною, железною рукой, на которой запеклась польская кровь. – Повидимому, намек на революцию в Венгрии в 1849 г., явившуюся последним отголоском революционных событий 1848 г. в Европе. Эта революция была подавлена с помощью царской армии под командованием фельдмаршала Паскевича. Он же возглавлял войска, разгромившие польское восстание 1830–1831 гг. Стр. 14. Я присутствовал при двух переворотах… – Очевидно, Герцен имеет здесь в виду итальянскую и французскую революции 1848 г., свидетелем событий которых он был.
…на почве, удобренной двумя цивилизациями… – Первой цивилизацией Герцен считал античность, второй – христианство, относя к последнему и средневековье и новое время (см. т. IIIнаст. изд., стр. 220).
…закон о заграничных видах… – Повидимому, указ Николая I от 15 марта 1844 г. об ограничении выдачи заграничных паспортов. Ср. дневниковую запись от 30 марта 1844 г. (т. IIнаст. изд., стр. 347).
…исправительные розги в инженерном институте. – См. отзыв Герцена об этом событии в дневнике, запись от 4 ноября 1843 г. (т. IIнаст. изд., стр. 314).
Мы дождались немца для того, чтоб рекомендоваться Европе. – Герцен имеет в виду немецкого экономиста барона Августа Гакстгаузена, который в 40-х годах по приглашению Николая I путешествовал по России, а затем издал книгу «Исследования внутренних отношений, народной жизни и в особенности сельских учреждений России» в трех томах («Studien über die inneren Zustände, das Volksleben und insbesondere die ländlichen Einrichtungen Rußlands», 1847–1852; т. I – 1847 г.). Эта книга знакомила западноевропейского читателя с Россией. Наибольшее внимание в книге Гакстгаузен уделил аграрным отношениям в России, особенно общине, в которой видел главное средство укрепления крепостничества. Герцен подверг резкой критике произведение Гакстгаузена, указывая вместе с тем, что он «действительно уловил животворящий принцип русского народа» (см. наст, том, стр. 199). Критическую оценку Гакстгаузена Герценом см. в статье «Русские немцы и немецкие русские» (1859).
I. Перед грозой (Разговор на палубе)*
Впервые напечатано на немецком языке в издании 1850 г. (см. раздел «Варианты»), затем во французском переводе – в парижской газете «Le Peuple de 1850», №№ 5, 6 и 7 от 9, 11 и 14 августа 1850 г. под названием «Qui a raison? Dialogue sur le tillac avant l'orage» и без подписи. Русский текст впервые напечатан в издании 1855 г., а затем с небольшими изменениями в издании 1858 г. Автограф неизвестен.
«Перед грозой» датировано 31 декабря 1847 г. Первое упоминание об этой статье встречается в письме Герцена к московским друзьям от 30 января, 1848 г. Статью эту в рукописи Герцен посвятил Т. Н. Грановскому. Рукопись была отправлена в Москву только 8 августа 1848 г. Герцен писал при этом Е. Ф. Коршу: «Я посылаю к тебе, Корш, две статьи для печати, посылаю к тебе, чтоб ты просмотрел, сообразны ли они с нынешней цензурой <…> Статейку «Перед грозой» – не вижу никаких препятствий напечатать; она мне очень дорога. Я желал бы, чтоб Огар<ев> и Гран<овский> ее прочли <…> Что к печати, отошли в «Современник», выпусти, что окажется невозможным».
О печатании «Перед грозой» в России в условиях цензурного террора нечего, конечно, было и думать. Текст статьи Герцен впоследствии подверг сильной переработке. Рукописная копия ранней редакции «Перед грозой», сделанная московским приятелем Герцена Н. X. Кетчером, хранится в настоящее время в ГИМ (см. раздел «Другие редакции»). Там же находятся две писарские копии «кетчеровского» списка (одна из них не закончена). Упомянутый выше французский перевод был сделан с этой редакции статьи. В ЛБ хранится еще одна копия конца 1840-х годов, сделанная неустановленным лицом и также восходящая к ранней редакции. В ней имеется несколько незначительных разночтений с копией Кетчера. Стр. 19. Разговор на палубе. – В главе XXIX «Былого и дум» Герцен указывал, что «С того берега» начинается одним из его разговоров с И. П. Галаховым, в основу которого Герцен положил «долгие разговоры» и «споры», происходившие между ним и Галаховым в конце 1847 г.
…Ist's denn so großes Geheimnis… – Эпиграф к главе «Перед грозой» – 65 эпиграмма из цикла Гёте – «Epigramme. Venedig».
Паскаль говорил, что люди играют в карты для того, чтоб не оставаться с собой наедине. – Подобное суждение высказано Паскалем в «Мыслях» (глава V).
Воспитание поступает с нами, как отец Аннибала с своим сыном. Оно берет обет прежде сознания… – Карфагенский полководец Гамилькар заставил своего девятилетнего сына Ганнибала поклясться в том, что он всю свою жизнь посвятит борьбе против Рима («Ганнибалова клятва»).
…искали неземных дев, «иную природу, другого солнца». – Характеризуя поэзию немецких реакционных романтиков, Герцен несколько вольно передает строки из стихотворения Шиллера «Дева с чужбины». У Шиллера:
«Sie brachte Blumen mit und Früchte,
Gereift auf einer andern Flur,
In einem andern Sonnenlichte,
In einer glücklichem Natur».
Еще с 30-х годов образ шиллеровской «девы с чужбины» являлся у Герцена олицетворением романтического восприятия действительности, связанного с «шиллеровским периодом» в его идейном развитии. Ср. автобиографический набросок «<Чтоб выразуметь эту исповедь страдальца…)» (т. I наст. изд., стр. 329).
…со времен семи греческих мудрецов… – Полулегендарные древнегреческие философы (их существование относят к VII–VI векам до н. э.), известные житейской мудростью, выражали свои мысли в форме кратких образных изречений.
…вы убиваете сны, как Макбет. – Макбет убил короля Дун кана во время его сна. При этом убийце почудился крик: «Рукой Макбета зарезан сон» (см. Шекспир. «Макбет», акт II, сцена вторая).
…ожидания дунайского мужика. – Имеется в виду персонаж известной басни Лафонтена «Дунайский мужик» («Le paysan du Danube»).
…Le monde fait naufrage… – Цитата из стихотворения Беранже «Le Suicide». Беранже посвятил это стихотворение французским поэтам-романтикам Огюсту Лебра и Виктору Эскусу, одновременно покончившим жизнь самоубийством из-за провала написанной ими драмы «Раймонд». Имена Деку и Лебрю указаны Герценом в примечании неточно.
Ученики его продолжали его жизнь в Конвенте… – Учениками Руссо были якобинцы, использовавшие идеи «Общественного договора» Руссо при выработке «Декларации прав человека и гражданина» (1789) и конституции 1793 г., а также в своей практической деятельности по организации революционного правительства (в частности, идею единства законодательной и исполнительной власти, воплощенную в деятельности Конвента).
…из революции 1830 г. биржевой оборот. – В результате революции 1830 г. во Франции установилась власть финансовой буржуазии.
Шекспир недаром сказал, что история – скучная сказка, рассказанная дураком. – Герцен неточно передает слова Макбета из одноименной трагедии Шекспира (акт V, сцена пятая).
…мы ~ пришли опять к беличьему колесу, опять к corsi и ricorsiстарика Вико. – Герцен имеет в виду так называемую теорию круговорота итальянского философа и социолога Джамбаттиста Вико, развитую в его трактате «Основания новой науки об общей природе наций». Согласно этой теории, изображающей весь ход истории как некий замкнутый круг, период подъема (corsi) каждой исторической культуры сменяется периодом упадка (ricorsi).
Опять возвратились к Рее ~ в числе их нет ни Юпитера, ни Марса… – Согласно греческой мифологии богу Крону (лат. Сатурн) было предсказано, что он будет лишен власти своими детьми от брака с Реей. Чтобы сохранить за собой трон, Крон проглатывал всех своих детей тотчас после рождения. Рее удалось спасти только своего последнего ребенка – Зевса (лат. Юпитер), заменив его камнями, завернутыми в пеленки. Возмужав, Зевс лишил отца власти.
Гёте давным-давно толковал, что красота проходит, потому что только преходящее и может быть красиво, – это обижает людей. – Герцен ссылается на мысль Гёте из цикла «Vier Jahreszeiten», «Sommer» (стих. 35):
«Warum bin ich vergänglich, о Zeus? so fragte die Schönheit,
Macht ich doch, sagte der Gott, nur das Vergängliche schön».
Эти строки Герцен цитировал в четвертой статье из цикла «Дилетантизм в науке» – «Буддизм в науке» (см. т. IIIнаст. изд., стр. 76).
…«Morituri te salutant»… – Слова, которыми в древнем Риме гладиаторы приветствовали императора, выходя на арену.
…горесть Тацита и восторг Колумба… – Герцен подразумевает горестную окраску, свойственную произведениям Тацита, изображающим разложение римского общества, и восторг, охвативший Колумба, когда он достиг берегов Америки.
Энкиева комета зацепит земной шар… – Герцен намекает на распространенное в его время мнение, что Земля может столкнуться с кометой Энке.
…я думаю, Александр Македонский нисколько не был бы рад, узнавши, что он пошел на замазку, – как говорит Гамлет. – Слова Гамлета, обращенные к Горацио в сцене на кладбище (Шекспир. «Гамлет», акт V, сцена первая).
II. После грозы*
Впервые напечатано на немецком языке в издании 1850 г. (см. раздел «Варианты»). Русский текст был опубликован в издании 1855 г. и затем почти без изменений воспроизведен в издании 1855 г. Впоследствии Герцен включил эту статью в IV том «Былого и дум», Женева, 1867 г.»Западные арабески» Тетрадь первая. III) и частично перепечатал ее, во французском переводе, в газете «Kolokol», 1868, № 13 за подписью I-r, как IV главу «Cogitata et visa». Публикация завершалась следующими словами: «…Je m´arrête ici dans ce fragment, je n´ose pas repeater maintenant lts paroles pleines de fièvre, de larmes, de douleur qui se presserent sur les lèvres le lendemain d´un horrible crime et d´un horrible Malheur»[169]169
Я останавливаюсь на этом. отрывке – я не смею повторять теперь слова, исполненные волнения, слез, боли, которые возникли в устах на следующий день после ужасного несчастья» (франц.). – Ред
[Закрыть]
Статья датирована 24 июля 1848 г. В «Былом и думах» Герцен отметил, что она писалась через месяц после июньских дней. «После грозы» было послано друзьям в Москву с П. В. Анненковым.
Другой экземпляр, переписанный рукой М. К. Эрн (Рейхель) и исправленный Герценом, повезла в Россию Н. А. Тучкова. Этой ранней редакции статьи было, повидимому, предпослано «Dédication» («Посвящение», франц. арх.). Автограф этого «Посвящения» неизвестен; оно сохранилось только в рукописной копии, снятой Н. А. Герцен (ЛБ); дата 1 августа 1848 г. При жизни Герцена не печаталось. Впервые опубликовано в газете «Час», 1908, № 88, в качестве письма к неизвестному.
Вероятно, что, отказываясь от включения этого «Посвящения» в издание 1855 г., вышедшее еще в царствование Николая I, Герцен опасался политически скомпрометировать Тучковых, находившихся тогда под полицейским надзором. Не исключено и то, что в 1855 и в 1858 годах Герцен не мог иметь в своем распоряжении текста «Посвящения». Исходя из того, что между «Посвящением» и очерком «После грозы» существует органическая идейно-художественная связь, редакция настоящего издания сочла необходимым поместить «Посвящение» под строкой основного текста.
Ранняя редакция статьи (см. раздел «Другие редакции»), помимо множества разночтений, содержит ряд страниц, исключенных впоследствии Герценом при подготовке к русскому изданию. На первом листе ее, в правом верхнем углу, надпись рукой Н. А. Тучковой-Огаревой: «Посвящено и подарено мне Алекс. Ив. Герц. Переписано М. К. Ерн. 1848 август, перед нашим отъездом из Парижа».
«Я очень желал бы знать ваше мнение о новых статьях моих, – писал Герцен в Москву в сентябре 1848 г., – стоит ли игра свеч, продолжать ли писать их для вас, ибо это пишется не для публики; намекните как-нибудь».
Помните «Марсельезу» Рашели? – Исполнение Рашелью «Марсельезы» производило сильное впечатление на современников Герцена. Рашель слушали И. С. Тургенев и П. В. Анненков. Свои впечатления о выступлении Рашели П. В. Анненков описал в статье «Февраль и март в Париже 1848 г.» («Воспоминания и критические очерки», Отд. 1, СПб., 1877, стр. 324–325).
…ее звукам нездорово в état de siège. – Осадное положение в Париже было объявлено Учредительным собранием 23 июня.
…после 24 февраля… – 24 февраля 1848 г. в Париже в результате восстания был свергнут с престола король Луи Филипп и установлена власть Временного правительства. Говоря ниже «об обмане 24 февраля», Герцен имеет в виду предательскую политику Временного правительства, боявшегося, вопреки требованиям французского народа, провозгласить республику и не выполнившего обещаний о решении «социального вопроса» и осуществлении «права на труд».
…закормы «Насионаля» дали им исполнителей. – Имеется в виду реакционная роль, которую сыграли буржуазные республиканцы, чьим органом была газета «Насиональ», в кровавой расправе над парижским пролетариатом в июне 1848 г. Кавеньяк также был близок к партии «Насионаля».
…распевая «Mourir pour la patrie»… – Этими словами начинается припев к «Песне жирондистов» из драмы А. Дюма (отца) и Огюста Маке «Chevalier de Maison-Rouge», написанной по одноименному роману Дюма и впервые поставленной в Париже, в Théâtre historique, в 1847 г. Во втором письме из цикла «Письма из Avenue Marigny» (т. V наст. изд., стр. 402) Герцен писал, что он ничего не знает «ни отвратительнее, ни скучнее, ни бесталаннее» этой драмы. Слова припева были заимствованы из произведения автора «Марсельезы» Руже де Лилля – «Roland à Roncevaux», Ему же принадлежит мелодия припева. Музыка остальной части «Песни жирондистов» написана композитором Варне, дирижером Théâtre historique. Песня эта получила широкую популярность в среде парижского мещанства незадолго до революции 1848 г. и особенно во время революции. Она была прозвана тогда «второй Марсельезой».
Париж этого не видал и в 1814 году. – То есть в дни, когда после поражения Наполеона I Париж был занят войсками русского императора и прусского короля.
У Байрона есть описание ночной битвы со окровавленная одежда. – См. поэму Байрона «Абидосская невеста» (песнь вторая, XXVI).








