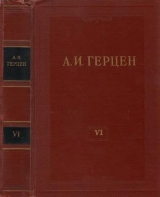
Текст книги "Том 6. С того берега. Долг прежде всего"
Автор книги: Александр Герцен
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 41 страниц)
Вместо продолжения
В начале 1848 года я посылал эту часть повести в Петербург. Несмотря на повторенное объявление на обертке одного журнала, печатать ее не позволили. Отчего? Не понимаю; судите сами, повесть перед вами.
Тогда именно в России был сильнейший припадок ценсурной болезни. Сверх обыкновенной гражданской ценсуры, была в то время учреждена другая, военная, составленная из генерал-адъютантов, генерал-лейтенантов, генерал-интендантов, инженеров, артиллеристов, начальников штаба, свиты его величества офицеров, плац– и бау-адъютантов, одного татарского князя и двух православных монахов под председательством морского министра. Она разбирала те же книги, но книги, авторов и ценсоров вместе.
Эта осадная ценсура, руководствуясь военным регламентом Петра I и греческим Номоканоном, запретила печатать что бы то ни было писанное мною, хотя бы то было слово о пользе тайной полиции и явного самодержавия или задушевная переписка с друзьями о выгодах крепостного состояния, телесных наказаний и рекрутских наборов.
Запрещением своим лейб-ценсурный аудиториат напомнил мне, что русским пора печатать вне России, что нам нечего сказать такого, что могла бы пропустить военно-судная ценсура.
. . . . . . . . . . Не находя силы продолжать повесть, я расскажу вам ее план.
Мне хотелось в Анатоле представить человека, полного сил, энергии, способностей, жизнь которого тягостна, пуста, ложна и безотрадна от постоянного противуречия между его стремлениями и его долгом. Он усиливается и успевает всякий раз покорять свою мятежную волю тому, что он считает обязанностию, и на эту борьбу тратит всю свою жизнь. Он совершает героические акты самоотвержения и преданности, тушит страсти, жертвует влечениями и всем этим достигает того вялого, бесцветного состояния, в котором находится всякая посредственная и бездарная натура. Сила этого человека должна была потребиться без пользы для других, без отрады для него.
Этот характер и среда, в которой он развивался, – наша родная почва, или, лучше, наше родное болото, утягивающее, морящее исподволь, заволакивающее непременно всякую личность, как она там себе ни бейся, – вот что мне хотелось представить в моей повести.
С самой первой юности Анатоль втянут в роковое столкновение с долгом. Перед ним в страшной нелепости является родительская власть. Он ненавидит Михаила Степановича, но он переламывает свое естественное отвращение и повинуется этому человеку, потому что он его отец.
Гонимый и притесняемый, Анатоль нашел выход, который находят все юноши с теплым и чистым сердцем: он встретил девушку, которую полюбил искренно, откровенно. Для их счастия недоставало одного – воли.
Пришла и она.
Михайло Степанович наконец умер, к неописанной радости дворовых людей. Анатоль, как Онегин:
Ярем он барщины старинной
Оброком легким заменил,
Мужик судьбу благословил,
а семидесятилетний моряк слег в постель и не вставал больше от этого «дебоша»; он, грустно качая головой, повторял: «А все библейское общество, все библейское общество, это из Великобритании идет».
Анатоль между тем начинал чувствовать усталь от своей любви, ему было тесно с Оленькой, ее вечный детский лепет утомлял его. Чувство, нашедшее свой предел, непрочно, бесконечная даль так же нужна любви и дружбе, как изящному виду.
Оленька принадлежала к тем милым, но неглубоким и неразвивающимся натурам, которые, однажды вспыхнув сильным чувством, готовы, оседают и уже дальше не идут.
Когда Анатоль убедился, что он ее не любит, он ужаснулся своей сухости, своей неблагодарности; в несчастии он не находил другой отрады, иного утешения, как в ее любви, а теперь, свободный, богатый, он готов ее покинуть. Разумеется, после этого рассуждения он женился.
Близость лиц – факт психологический, легко любить ни за что и очень трудно любить за что-нибудь. Людские отношения, кроме деловых, основанные на чем-нибудь вне вольного сочувствия, поверхностны, разрушаются или разрушают. Быть близким только из благодарности, из сострадания, из того, что этот человек мой брат, что этот другой меня вытащил из воды, а этот третий упадет сам без меня в воду, – один из тягчайших крестов, которые могут пасть на плечи.
Анатоль через несколько месяцев после брака был несчастен и губил своим несчастием бедную Оленьку.
Мой герой (вы, может, и не подозреваете этого) был конноегерским офицером; вскоре после его свадьбы его назначили адъютантом корпусного начальника, который ему был сродни.
Корпусный командир был не кто иной, как наш старый знакомый князь, – князь, взявший с собой из Парижа маленькую Нину, в то время как парижский народ брал Бастилию. Он славно сделал свою карьеру и воротился из кампании в 1815 году обвешанный крестами всех немецких государей, введенных казаками во владение, и млечным путем русских звезд. Он был прострелен двумя пулями и весь в долгах. Он уже плохо видел, нетвердо ступал, неясно слышал, но все еще с некоторым fion[110]110
шиком (франц.). – Ред.
[Закрыть] зачесывал седые волосы à la Titus, подтягивал мундир, прыскался духами, красил усы, волочился за барышнями и, бог знает для чего, кажется, из одного приличия, держал французскую актрису на содержании. Это лицо меня чрезвычайно занимало; его мне хотелось особенно отделать. Князь должен был принадлежать к типу людей, который утрачивается, который я еще очень хорошо знал и который необходимо сохранить, – к типу русского генерала 1812 года.
Русское общество с Петра I раза четыре изменяло нравы. Об екатерининских стариках говорили очень много, но люди александровского времени будто забыты, оттого ли, что они ближе к нам или от чего другого, но их мало выводят на сцену, несмотря на то, что они совсем не похожи на современных актеров «памятной книжки» и действующих лиц «адрес-календаря».
При Екатерине сложилась в высшем петербургском обществе не аристократия, а какое-то служилое вельможничество, надменное, гордое и недавно сделанное ручным. С 1725 и до 1762 года эти люди участвовали во всех низвержениях и возведениях на престол, они распоряжались русской короной, упавшей на финскую грязь, как своим добром, и очень хорошо знали, что ножки петербургского трона не так-то крепки и что не только Петропавловская крепость и Шлюссельбург, но Пелым и вообще Сибирь не так-то далеки от дворца. Крамольная горсть богатых сановников, с участием гвардейских офицеров, двух-трех немецких плутов, храня наружный вид рабского подобострастия и преданности, сажала кого хотела на царское место, давая знать о том к сведению другим городам империи; в сущности, народу было безразлично имя тех, которые держали кнут, спине одинаково было больно.
Ангальт-Цербстская принцесса, произведенная Орловыми в чин императрицы всероссийской, умела с лукавою хитростию женщины и куртизаны обстричь волосы буйным олигархам и усыпить их дикие порывы важным почетом, милостивой улыбкой, крестьянскими душами, а иногда своим собственным высочайшим телом. Из них образовалось в половине ее царствования вельможничество, о котором мы говорили. В этих людях было смешано русское патриархальное барство с версальским царедворством, неприступная «морга»[111]111
спесь, от morgue (франц.). – Ред.
[Закрыть] западных аристократов и удаль казацких атаманов, хитрость дипломатов и зверство диких. Люди эти были спесивы по-русски и дерзки по-французски; они обходились учтиво с одними иностранцами; с русскими они иногда были ласковы, иногда милостивы, но всем, до полковничьего чина, говорили ты. Ограниченные и надутые собой, вельможи эти хранили какое-то чувство собственного достоинства, любили матушку императрицу и святую Русь. Екатерина II щадила их и снисходительно слушала их советы, не считая нужным исполнять их.
Тяжелый и важный век этих старых ворчунов, обсыпанных пудрой и нюхательным табаком, сенаторов и кавалеров ордена св. Владимира первой степени, с тростью в руках и гайдуками за каретой, – век этих стариков, говоривших громко, смело и несколько в нос, – был разом подрезан воцарением Павла Петровича.
Он в первые двадцать четыре часа после смерти матери сделал из роскошного, пышного, сладострастного мужского сераля, называвшегося Зимним дворцом, казарму, кордегардию, острог, экзерциргауз и полицейский дом. Павел был человек одичалый в Гатчине, едва сохранивший какие-то смутные рыцарские порывы от прежнего состояния; это был бенгальский тигр с сентиментальными выходками, угрюмый и влюбленный, вечно раздраженный и вечно раздражаемый; он, наверное, попал бы в сумасшедший дом, если бы не попал прежде на трон.
Перевернул он старых вельмож, привыкших при Екатерине к покою и уважению. Ему не нужны были ни государственные люди, ни сенаторы, ему нужны были штык-юнкеры и каптенармусы. Недаром учил Павел на своей печальной даче лет двадцать каких-то троглодитов новому артикулу и метанью эспонтоном; он хотел ввести гатчинское управление в управление Российской империи, он хотел царствовать по темпам.
В такой простой, в такой наивной форме самовластье еще ни разу не являлось в России, как при Павле. Это был бред, хаос; его марсомания, которую он передал всем своим детям, доходила до смешного, до презрительного и в то же время до трагического; этот коронованный Казимодо со слезами на глазах бил рукою такт, разгорался в лице, был счастлив, когда солдаты верно маршировали. Те же пароксизмы бывали потом у цесаревича Константина. Свирепости Павла не оправдываются даже государственными необходимостями, его деспотизм был бессмысленный, горячечный, ненужный; кого пытал он и ссылал толпами с своим генерал-прокурором Обольяниновым и за что? Никто не знает. Но вельмож он приструнил, струсили они и вспомнили, что они такие же крепостные холопи, как их слуги. С ужасом смотрели они, как император «шутит шутки нехорошие», то того в Сибирь, то другого в Сибирь; они втихомолку укладывались и тащились на крестьянских лошадях в тяжелых колымагах в Москву и в свои жалованные покойной императрицей вотчины.
Там их и оставил Александр после кончины Павла; он не счел нужным вызывать из деревень маститых государственных людей, благо они засели, обленились и задремали, учреждая в своих поместьях небольшие дворики вроде екатерининских. Александр окружил себя новым поколением.
Поколение, захваченное в гвардии павловской сиверкой, было бодро и полно сил. События их довоспитали. Шуточное ли дело Аустерлиц, Ейлау, Тилзит, борьба 1812 года, Париж в Москве, Москва в Париже?
Старые гвардейцы возвращались победоносными генералами. Опасности, поражения, победы, соприкосновение с армией Наполеона и с чужими краями, все это образовало их характер; смелые, добродушные и очень недальние, с религией дисциплины и застегнутых крючков, но и с религией чести, они владели Россией до тех пор, пока подросло николаевское поколение военных чиновников и статских солдат.
Люди эти занимали не только все военные места, но девять десятых высших гражданских должностей, не имея ни малейшего понятия о делах и подписывая бумаги, не читая их. Они любили солдат и били их палками не на живот, а на смерть оттого, что им ни разу не пришло в голову, что солдата можно выучить, не бивши его палкой. Они тратили страшные деньги, и, не имея своих, тратили казенные; красть собак, книги и казну у нас никогда не считалось воровством. Но они не были ни доносчиками, ни шпионами и за подчиненных стояли головой. Один из полнейших типов их был граф Милорадович, храбрый, блестящий, лихой, беззаботный, десять раз выкупленный Александром из долгов, волокита, мот, болтун, любезнейший в мире человек, идол солдат, управлявший несколько лет Петербургом не зная ни одного закона и как нарочно убитый в первый день царствования Николая.
Когда раненого Милорадовича принесли в конно-гвардейские казармы и Арендт, осмотрев его раны, приготовлялся вынуть пулю, Милорадович сказал ему: «Ну, ma foi[112]112
право (франц.). – Ред.
[Закрыть], рана смертельная, я довольно видел раненых, так уж если надо еще пулю вынимать, пошлите за моим старым лекарем; мне помочь нельзя, а старика огорчит, что не он делал операцию». Действительно, пулю вынул старый лекарь, заливаясь слезами. После операции адъютант спросил графа, не желает ли он продиктовать какие-нибудь распоряжения. Милорадович тотчас потребовал нотариуса; но когда тот пришел, он думал, думал – и сказал наконец: «Ну, братец, это очень мудрено, ну так все как по закону следует, разве вот что – у одного старого приятеля моего есть сын, славный малый, но такая горячая голова, он, я знаю, замешан в это дело, ну, так напишите, что я, умирая, просил государя его помиловать, больше, ma foi, ничего не знаю».
Потом он умер, и хорошо сделал.
Прозаическому, осеннему царствованию Николая не нужно было таких людей, которые, раненные насмерть, помнят о старом лекаре, и, умирая, не знают, что завещать, кроме просьбы о сыне приятеля. Эти люди вообще неловки, громко говорят, шумят, иногда возражают, судят вкривь и вкось; они, правда, готовы всегда лить свою кровь на поле сражения и служат до конца дней своих верой и правдой; но войны внешней тогда не предвиделось, а для внутренней они не способны. Говорят, что граф Бенкендорф, входя к государю – а ходил он к нему раз пять в день, – всякий раз бледнел – вот какие люди нужны были новому государю. Ему нужны были агенты, а не помощники, исполнители, а не советники, вестовые, а не воины. Он никогда не мог придумать, что сделать из умнейшего всех русских генералов – Ермолова, и оставил его в праздности доживать век в Москве. Надобно было много труда, усилий, времени, чтоб воспитать современное поколение чиновников по особым поручениям корреспондентов, генералов «от чернил» и прочих жандармов под разными учтивыми названиями, чтобы дойти до той степени совершенства и виртуозности, до которой дошло петербургское правительство теперь.
Да, износил, истер, исказил все хорошее александровского поколения, все, хранившее веру в близкую будущность Руси, жернов николаевской мельницы, целую Польшу смолол, балтийских немцев зацепил, бедную Финляндию, и все еще мелет, все мелет…
У отца была белая горячка самовластья, delirium tyrannorum[113]113
безумие тиранов (лат.). – Ред.
[Закрыть], у сына она перешла в хроническую fièvre lente[114]114
изнурительную горячку (франц.). – Ред.
[Закрыть]. Павел душил из всех сил Россию и в четыре года свернул шею – не России, а себе. Николай затягивает узел исподволь, не торопясь – сегодня несколько русских в рудники, завтра несколько поляков, сегодня нет заграничных пассов, завтра закрыты две, три школы… Двадцать седьмой год трудится его величество, воздуху нам недостает, дышать трудно, а он все затягивает – и до сих пор, слава богу, здоров.
В царствование Николая желтая, желчная, злая фигура Аракчеева нежно исчезает – Рогнедой, плачущей на гробе Анастасии, но школа его растет, но его ставленники, его ученики идут вперед. Школа писарей, кантонистов и аудиторов, дельцов и флигельманов, людей бездарных – но точных, людей бездушных – но полных честолюбия, людей посредственных – но которых «усердие все превозмогает»!
Для этих людей, может, найдется место в министерствах и в арестантских ротах, но, наверно, нет в повестях…[115]115
В первом издании тут были пропущены несколько страниц; мыих помещаем в том виде, в котором они были написаны в Ницце в 1851 году.
[Закрыть]
Как попал Анатоль в военную службу, трудно сказать. Эти вещи у нас делывались обыкновенно случайно. Сверх того, гражданская служба не могла нравиться, серьезно управлять имением еще не считалось делом, оставалась одна военная карьера.
Попавши в адъютанты к князю, Анатоль погибал от скуки. Юнкером он по крайней мере физически развлекался гимнастикой манежа и ученья. Адъютантом он ездил с князем на балы и обеды и праздно сидел по нескольку часов у него в зале. Но скучать ему пришлось недолго, новое скорбное столкновение воли с долгом вполне рассеяло его. В то время, когда всего менее кто-либо ждал похода, восстала Польша. Князь получил приказ выступить с своим корпусом и идти примкнуться к войску Дибича. Все засуетилось в его армии, князь ожил, забыл свои лета, целые дни верхом делал смотры и ревизии. Офицеры радовались отличиям и быстрому повышению, солдаты радовались, что не будет учений, беспрерывных смотров во время похода.
Анатоль, хранивший свято юные мечты студентского периода, хотя и удовлетворялся собственным одобрением за благородное биение сердца и искренним желанием освобождения крестьян, тем не менее все благородные симпатии его были за Польшу, на которую он шел врагом, палачом, слугой деспотизма[116]116
Я рассказываю здесь план моей повести так, как он складывался в моей голове. Разумеется, мне нельзя бы было говорить о Польше и о восстании иначе как намеками.
[Закрыть], – что же ему было делать? Подавать в отставку было поздно, сказаться больным – выдадут за труса. С непреодолимым отвращением, почти с раскаянием, явился он на поле битвы, совался в огонь без всякой нужды, но пули обходили его, а храбрость его была замечена; князь привязал ему сам георгиевский крест в петлицу. Товарищи завидовали ему.
На приступе Варшавы граф Толь подъехал с князем к первому взятому бастиону, расцаловал майора, поздравил его с крестом и потом спросил его, указывая на толпу пленных: «Кто же у вас будет их беречь?» Майор, державший платок на ране, молчал и с испуганным недоумением смотрел в глаза генералу. «На приступе, – сказал Толь, – каждый человек нужен; если все офицеры наберут столько пленных, половина солдат выбудут из строя, – он сделал знак рукой и прибавил: – Понимаете?»[117]117
Это – истинное происшествие, рассказанное мне самим офицером.
[Закрыть] Майор понимал, но не говорил ни слова. Толь поморщился и, обернувшись, к Анатолю, сказал ему вполголоса: «Господин адъютант, майор, кажется, ослаб от раны, скажите старшему капитану: il faut en finir avec les prisonniers»[118]118
с пленными надо покончить (франц.). – Ред.
[Закрыть]. Анатоль стоял как вкопанный, рука его будто приросла к шляпе. «Ну чего ж вы ждете? Скажите, что я велел их расстрелять; адъютант ваш не очень расторопен», – заметил он князю, – повертывая лошадь и показывая ему зрительной трубой какие-то осадные работы.
Старший капитан отдал нужные приказания и сказал майору и Анатолю: «А впрочем, я охотнее пошел бы еще раз на бастион – бить безоружного не манер. Эй, – закричал он, – Федосеев, выведи людей!» Анатоль хотел ускакать, но был остановлен колонной охотников, шедших с песнями и с криками «ура!» на приступ. За ним раздались отрывистые слова команды и ружейный залп грянул почти в то же время. Анатоль обернулся – человек двадцать пленных лежали в крови, одни мертвые, другие в судорогах, – столько же живых и легко раненых стояли у стены. Одни, обезумевшие от страха, судорожно хохотали, кричали и плакали, два-три человека громко читали молитвы по-латыни, третьи, бледные, стиснув зубы, с гордостью смотрели на палачей. В их числе был белокурый юноша; он остановил взгляд своих больших голубых глаз на Анатоле, в этом взгляде, рядом с укором, видно было столько презрения, что Анатоль опустил голову. У солдат дрожали руки, сам унтер-офицер Федосеев, хотя для поддержания чести и говорил: «Эк живучи эти поляки!», но был бледен и не в своей тарелке.
«Вторая ширинга впе-ред! Шай-клац!» – командовал капитан; ружья склонились и брякнули. У Анатоля потемнело в глазах, он покачнулся и дал шпоры лошади, но лошадь вдруг поднялась на дыбы и брякнулась наземь – осколок русской бомбы ранил лошадь и раздробил Анатолю плечо; новая толпа охотников шла с песнями и гарцеваньем мимо раненого. Анатоль лишился сознания. Недель через шесть Анатоль выздоравливал в лазарете от раны, но история с пленными не проходила так скоро. Все время своей болезни он бредил о каких-то голубых глазах, которые на него смотрели в то время, как капитан командовал: «Вторая ширинга вперед!» Больной спрашивал, где этот человек, просил его привести – он хотел ему что-то объяснить и потом повторял слова Федосеева: «Как поляки живучи!»
Князь, жалевший очень своего адъютанта, говорил, что он, повидимому, контужен в голову и потому заговаривается, впрочем, надеялся, что он выздоровит, и приводил в пример разных раненных в голову в 1812 и 13 годах.
Анатоль вышел в отставку и поехал к водам. Слабый от раны и убитый духом выехал он из Варшавы. Голубые глаза поляка преследовали его, ему казалось, что он несколько раз встречал молодого страдальца, который, может, избегнул смерти; ему казалось, что он узнаёт то же выражение укора, беспокойной печали и презрения, смешанного почти с сожалением. Несколько раз хотелось ему подойти взять за руку незнакомца и рассказать ему, как он попал на поле сражения. Но польские раны были еще слишком свежи, время понимать друг друга и мириться еще не приходило, и он останавливался, боясь холодного ответа.
В Познани он на станции вышел из коляски и велел ей ехать за собой, когда заложат лошадей, а сам пошел пешком. В нескольких шагах от деревни стояла в небольшой нише мадонна, перед ней на коленях молился молодой поляк – опять он и, может, в самом деле. Несчастный был скорее похож на мертвеца, умершего после изнурительной болезни и которого забыли схоронить, нежели на живое существо лет двадцати. Он был в военной шинели, рука лежала на перевязке, челюсть и ухо были подвязаны, сухие посиневшие губы и белая бледность свидетельствовали о лихорадке и потере крови. Он только что перебрался через границу и был еще весь под влиянием счастливого спасения; Анатоль заговорил с ним. Сначала раненый вздрогнул, не скрывая, что встреча с русским ему неприятна.
Анатоль не хотел пропустить этой встречи; он взял его за руку и просил выслушать его. Он говорил долго и горячо. Удивленный поляк слушал его с вниманием, пристально смотрел на него и, глубоко потрясенный, в свою очередь сказал ему: «Вы прилетели, как голубь в ковчег, с вестью о близости берега, и именно в ту минуту, когда я покинул родину и начинаю странническую жизнь. Наконец-то начинается казнь наших врагов, стан их распадается, и если русский офицер так говорит, как вы, еще не все погибло!»
Анатоль был счастлив, они поехали вместе.
Что унижений, что холоду и оскорблений должен был вынести Анатоль в этом путешествии! Для каждого польского выходца в то время путешествие было рядом торжеств, симпатических приемов; на каждого русского народы смотрели с затаенной злобой, как на сообщника Николая. Раза два граф Ксаверий должен был, избегая неприятностей со стороны раздраженной толпы, выдавать Анатоля за поляка. Действительная нелюбовь к русским идет с этого времени, мы ею обязаны Николаю.
В этой встрече Анатоля с графом Ксаверием мне хотелось представить нашу русскую натуру, широкую, но распущенную, многостороннюю, но неустоявшуюся, в соприкосновении с натурой польской – определенной, испытанной, односторонней, не идущей вперед, но твердо стоящей на своей почве. У Анатоля были прекрасные стремления, но они больше определялись отрицательно и никогда не приходили в ясность. У поляка во внутренней жизни все было кончено, решено, он шел своим путем, не возвращаясь к точке отправления, не подвергая всякий шаг беспрерывной критике, не пытая его сомнением. В его образе мыслей была очевидная непоследовательность, перелом, но это не уменьшало его энергической деятельности и, главное, не мешало ему. Он был католик и революционер, аристократ и бунтовщик, светский человек в нашем смысле слова – и породистый поляк. Отважный, твердый, фанатик чести, надежный заговорщик, он был бесхитростен и беззаботен, как дитя, так что жизнь его, при всей тягости его положения, шла легче, стройнее, нежели жизнь Анатоля, у которого не было никакого внешнего несчастия.
Граф Ксаверий должен был совершенно овладеть Анатолем – познакомить его с польскими иезуитами. Их строгий чин, их наружный покой, под которыми казались заморенными все сомнения и страсти, кроме веры и энергии в деле прозелитизма, должны были потрясти его. Он искал куда-нибудь прислониться, он стоял слишком одинок, слишком оставлен сам на себя, без определенной цели, без дела. Жена его умерла, с родственниками у него было так же мало общего, как с московской жизнью вообще, никакой сильной связи, общего интереса или общего упования. Опять та же жизнь, которая образовала поколение Онегиных, Чацких и нас всех…
Серьезность религиозных убеждений католика или протестанта часто удивляет нас; она еще больше должна была поразить Анатоля. Когда он воспитывался, тогда еще не было ни православных славянофилов, ни полицейского православия, не было ни накожного обращения униатов, ни мощей Митрофана Воронежского, ни путешествий к святым местам – чужим и своим – Муравьева, ни духовного прозрения Гоголя; Языков писал еще вакхические песни, а ирмосов и кондаков не только не писал, но и не читал. Церковь, приложив кисточкой печать дара духа святого во время крещения, оставляла человека в покое и сама почивала в тишине.
Но если религиозного воспитания не было в ходу, то цивическое становилось со всяким днем труднее; за него ссылали на Кавказ, брили лоб. Отсюда то тяжелое состояние нравственной праздности, которое толкает живого человека к чему-нибудь определенному. Протестантов, идущих в католицизм, я считаю сумасшедшими, но в русских я камнем не брошу, они могут с отчаяния идти в католицизм, пока в России не начнется новая эпоха.
Легко стало жить Анатолю, когда он переступил за порог монастыря и подпал строгому искусу ставленника-послушника. Покойная гавань, призывающая труждающихся, открывалась для него, он слушался не рассуждая, и, усталый к вечеру от работы, усиленного изучения латинского языка и разных утренних и вечерних служб, он засыпал покойно.
Но церковь призывает не одних труждающихся, но и нищих духом. Тут, в виду католического алтаря, хотел я представить последнюю битву его с долгом. Пока продолжались искус, учение, работа, все шло хорошо, но с принятием его в братство Иисуса старый враг – скептицизм снова проснулся; чем больше он смотрел из-за кулис на великолепную и таинственную обстановку католицизма, тем меньше он находил веры, и новый ряд, мучительных страданий начался для него. Но тут выход был еще меньше возможен, нежели в польской войне. Разве не он сам добровольно надел на себя эти вериги? Их он решился носить до конца жизни.
Мрачный, исхудалый, задавленный горьким сознанием страшной ошибки, монах Столыгин исполнял несколько лет, как автомат, свои обязанности, скрывая от всех внутреннюю борьбу и страдания.
Инквизиторский глаз настоятеля их разглядел. Боясь будущего, он выхлопотал от Ротгана почетную миссию для Столыгина в Монтевидео. И наследник Степана Степановича и Михаила Степановича, обладатель поместий в Можайском и Рузском уездах, отправился на первом корабле за океан проповедовать религию, в которую не верил, и умереть от желтой лихорадки…
Таков был мой план.
Ницца. Осенью 1851.








