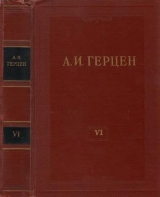
Текст книги "Том 6. С того берега. Долг прежде всего"
Автор книги: Александр Герцен
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 41 страниц)
– Неужели же вы и тут не видите цели?
– Последствие, а не цель. Если прогресс – цель, то для кого мы работаем, кто этот Молох, который, по мере приближения к нему тружеников, – вместо награды – пятится; а в утешение изнуренным и обреченным на гибель толпам, которые кричат ему: «Morituri te salutant!», только и умеет ответить: «После вашей смерти будет прекрасно на земле»? Неужели и вы обрекаете людей на жалкую участь кариатид, поддерживающих террасу, на которой когда-то другие будут танцевать; на то, чтоб быть несчастными работниками, которые, по колено в грязи, тащат барку с таинственным рулем и с смиренной надписью «Прогресс в будущем» на флаге? Утомленные падают на дороге, другие, со свежими силами, принимаются за веревки, а дороги остается столько же, как и при начале. Прогресс бесконечен; уже и это одно должно было насторожить людей: цель, бесконечно далекая, – не цель, а если хотите – гениальная уловка; цель должна быть ближе, по крайней мере заработная плата или наслаждение в работе. Каждая эпоха, каждое поколение, каждая жизнь имели, имеют свою полноту; по дороге развиваются новые требования, новые средства – отношение остается почти то же; по дороге усовершается мозг, – что вы улыбаетесь? – да, да, усовершается мозг… Как все естественное становится ребром, удивляет: точно как некогда рыцари удивлялись, что и вилланы хотят человеческих прав. Гёте, когда был в Италии, сравнивая выкопанный череп древнего быка с нашим, нашел, что у нашего кость тоньше, а вместилище для больших полушарий мозга – больше, так что тот был очевидно сильнее, а наш развился в своем подчинении человеку. За что же вы лишите людей этого развития организма? Это, так сказать, родовой рост; конечно, это не цель, если вы хотите, чтоб я непременно употребил эту категорию; цель одна – поставить человека на ноги, ввести его во владение своей средой, привить ему ее развитие, поставить его à même[122]122
в возможность (франц.). – Ред.
[Закрыть] понимать, чувствовать, действовать и наслаждаться. Природа не только не делает поколений для достижения будущего, но она вовсе о нем и не заботится; она готова, как Клеопатра, распустить в вине лучшую жемчужину – лишь бы потешиться в настоящем: у нее натура вакханки и баядеры.
– И, бедная, не может осуществить своего призвания. Вакханка на диете и баядера в трауре! По крайней мере в наше время она скорее похожа на кающуюся Магдалину. Или, может быть, мозг выделался как-нибудь в сторону.
– Вы вместо насмешки сказали вещь, которая, в сущности, вовсе не смешна. Одностороннее развитие всегда влечет за собой avortement других забытых, изъятых сторон. Дети, слишком развитые в психическом отношении, дурно растут, слабы. Мы веками неестественной жизни, устремленной в одну сторону, воспитали себя в искусственную сферу, в идеализм – и разрушили равновесие. Мы были велики и сильны, даже счастливы в своей отчужденности, в своем теоретическом блаженстве, а теперь перешли эту степень, и теперь она для нас невыносима. Между тем разрыв с практическими сферами сделался страшный. На кого пенять: и тут нет виноватых, кроме природы, – но и та права. Природа натянула все мышцы, чтоб перешагнуть в человеке зверя, чтоб дать ему силы освободиться от опеки, а он так перешагнул, что одной ногой совсем вышел из естественного быта. Он это сделал, потому что свободен. Мы столько толкуем о воле, так гордимся ею – и в то же время досадуем на то, что нас никто не ведет за руку, что оступаемся, несем последствия своих дел. Я готов повторить ваши слова, что мозг выделался в сторону идеализма; скорбный результат этой односторонности теперь заметили многие, и люди пойдут в другую сторону и вылечатся от идеализма, так, как вылечивались от разных исторических болезней: от рыцарства, от езуитизма, пуританизма, деизма…
– Странный путь развития болезнями, отклонениями!
– Да ведь путь и не назначен. Природа слегка, самыми общими формами намекнула свои виды. Стремленье жить вместе, стремленье улучшить свой быт, не успокоиваться, пока всем не будет хорошо, развивать все, что есть в душе, – действовать, сообщать другим и через все это достигать до братского единения, полного любви и деятельного обмена, все это бродит в человеке, ко всему этому он стремится даже тогда, когда, повидимому, преследует цели частные, низшие. Но как достигнуть, какими путями, совершенно зависит от людей: в их воле индивидуально вовсе нейти, а прозябать, подобно грибам, жить одним питанием, подобно устрицам, или идти в ряды войска, в ряды трудящихся. Ряды эти всегда будут; в этом опять природа; но как они пойдут, какие встретят препятствия – зависит от всего многоразличия внешних влияний да столько же иногда от воли одного человека, одной увлекательной мысли. В этом-то весь драматический характер отклонений. Если б не было ни страшных отклонений, ни нежданных поправок – в чем же бы состоял действительный интерес истории? Тогда истории не было бы, а была бы логика. Человечество явилось бы готовым в непосредственно устроенном statu quo – как животные. Какой скачок от орангутангов, и какое тупое положение! Страшная нелепость! Дается инстинкт – разум выработывается, и выработывается трудно; его нет ни для природы, ни для человека: его надобно достигать, а это трудно, особенно когда нет libretto. А если б был libretto, тогда история не нужна, тогда она шалость. Подумайте, как смешны будут и мрачная горесть Тацита, и восторг Колумба: все превратится в гаерство, великие люди сойдут на одну доску с театральными героями, которые, худо ли, хорошо ли играют, – всё идут к одной развязке. Нет! У истории все импровизация, все ex tempore, вперед – границ нет; даны усло-вия, огонь жизни и деятельность, святое беспокойство; достигнута личность – бойцы, пробуйте силу, идите куда хотите, куда только есть дорога из прошедшего, а где ее нет – гений проложит новую – Колумб или Петр Первый.
– А если на беду гения не найдется?
– Они почти всегда находятся; впрочем, в них нет необходимости: народы дойдут после, дойдут иной дорогой. Гений – щегольство истории, ее роскошь. Неужели вы думаете, что судьбы Европы были бы не те, если б Наполеона вовсе не было, – хотя во внешних обстоятельствах перемена была бы большая?
– Все это хорошо; но при такой неопределенности, распущенности история может продолжаться во веки веков – или завтра окончиться.
– Без сомнения. Вероятно, впрочем, при дальнейшем развитии люди натолкнутся на некоторые пределы, лежащие в самой натуре человека, на такие ограничивающие условия, далее которых нельзя идти, оставаясь человеком. Недостатка в деле, в занятье, пока будет длиться история, я не могу себе представить. С другой стороны, я ничего не имею против окончания истории завтра же. Мало ли что может быть: энкиевская комета наедет, геологический катаклизм приостановит на минуту органическую жизнь…
– Фу, какие ужасы! Вы меня стращаете, как маленьких детей; но я вас уверяю, что этого не будет. Стоило бы очень развиваться три тысячи лет с приятной будущностью задохнуться от какого-нибудь серно-аммониального испарения из земли. Как же вы не видите, что это нелепость?
– А я вас спрошу, как вы до сих пор не привыкнете к естественным путям явления? В природе, так, как в душе человека, дремлет бесконечное множество сил, возможности; как только соберутся условия, нужные для того, чтоб их возбудить, – они развиваются и будут развиваться донельзя; они готовы наполнить собою мир, но они могут запутаться на полдороге, принять иное направление, быть, наконец, остановлены. Какой гений устоит против цикуты? Природа так богата, что ей это ничего, ее не убудет от этого; ей же все равно: из нее ничего не вынешь – всё в ней, как ни меняй.
– Для людей однакож и для живых существ это далеко не все равно. И Александр Македонский, я думаю, нисколько не был бы рад, узнавши, что он пошел на замазку, как говорит Гамлет.
– Насчет Александра Македонского я вас успокою: он этого никогда не узнает. Я совершенно с вами согласен, что для человека совсем не все равно, жить или не жить; из этого я делаю заключение, что надо пользоваться жизнию, настоящим: недаром природа всеми языками беспрерывно шепчет и повторяет: «Vivere memento».
– Напрасный труд. Мы помним, что мы живем, по глухой боли, по досаде, которая точит сердце, по однообразному бою часов, – потому, наконец, что жажда деятельности нас снедает – в мире, которому она не нужна. Наслаждаться! – когда, по вашим словам, весь мир, нас окружающий, скоро рухнется и, стало быть, где-нибудь да задавит же. Еще хуже, нас с вами и не задавит; стены сотни лет стоят с трещинами, а пошлая действительность, нас окружающая, и трещины не давала: она так прочна, так прочна… я не знаю в истории такого удушливого времени; была борьба, были страдания, но была и вера; можно было погибнуть, но нельзя было дойти до отчаяния: нам не для чего умирать, и не для чего жить.
– А вы думаете – в падающем Риме было легче?
– Конечно, легче, потому что его падение было так же очевидно, как и замена.
– Очевидно для кого? Неужели вы думаете, что римляне смотрели на свое время так, как мы смотрим на него? Гиббон не мог отделаться от обаяния, которое производит древний Рим на каждую сильную душу. Вспомните, сколько веков продолжалась его агония; нам это время скрадывается по бедности событий, по бедности в лицах, по томному однообразию; а именно эти-то периоды – немые, серые – и страшны для современников; ведь годы в них имели те же триста шестьдесят пять дней, ведь и тогда были люди с душой горячей и блекли, терялись в бесцветных сумерках, под облаками пыли от разгрома падающих стен. Какие звуки скорби вырывались тогда из груди человеческой – читайте, они остались.
– А христиане?
– Они четыре столетия прятались по подземельям, успех казался невозможным, а жертвы были перед глазами.
– Но вера их оправдалась.
– И на другой день после торжества явилась ересь. Языческий мир ворвался в святую тишину их братства, и христианин со слезами обращался назад ко временам гонений и благословлял святые воспоминания, читая мартиролог.
– Вы, кажется, начинаете меня утешать тем, что всегда было так скверно, как теперь.
– Нет, я хотел только напомнить вам, что нашему веку не принадлежит монополия страданий и что вы дешево цените прошедшие скорби. Мысль была и прежде нетерпелива; ей хочется сейчас, ей ненавистно ждать, а жизнь не довольствуется отвлеченностями, не торопится, медлит с каждым шагом, потому что ее шаги трудно поправляются. Отсюда трагическое положение мыслящих. Но чтобы опять не отклониться, позвольте мне теперь вас спросить: отчего вам кажется, что мир, нас окружающий, так прочен и здоров?..
Давно уж тяжелые и крупные капли дождя падали на нас и глухие раскаты грома становились сильнее, а молния ярче. Тут дождь полился как из ведра. Все бросились в каюту – пароход скрипел, качка была невыносимая – разговор не продолжался.
После грозы*Женщины плачут, чтоб облегчить душу, – мы не умеем плакать, я хочу для этого писать. Не описывать, не объяснять страшные события, а просто говорить об них, дать волю речи, слезам, мысли, желчи. Где тут описывать, собирать сведения, спокойно рассуждать? В ушах еще раздаются выстрелы – топот несущейся кавалерии, густой звук лафетных колес по мертвым улицам – мелькают отдельные подробности: раненый на носилках, фуры трупов, – пленные с связанными руками, – лагерь у Porte St. Denis, бивуаки на Place de la Concorde… и мрачное, ночное «Sentinelle, prenez garde à vous». – Нет еще, мозг слишком воспален, кровь слишком остра. Время негодования громкого, открытого – настало, время истории еще не пришло.
Сидеть у себя в комнате сложа руки, когда возле льется кровь, когда возле режут, и не иметь возможности ни покинуть город, ни даже выйти из дому – от этого можно с ума сойти, умереть. Я не умер, но я состарелся, но я слаб, как после тяжкой болезни. Быть свидетелем преступления гораздо мучительнее, нежели участником.
Первые дни прошли в каком-то смутном хаосе – дым, шум, кровь… я помню 26 июня отрывистые, небольшие, правильные залпы, с небольшими расстановками. Мы все взглянули друг на друга – у всех слезы были на глазах, у всех лица были зеленые. «Ведь это расстреливают», – сказали мы в один голос и отвернулись друг от друга… Но после бойни, продолжавшейся четверо суток, наступила тишина, мирное осадное положение, – ни одного экипажа, ни одного гуляющего, – испуганные жители бродили около жилищ своих, надменная Национальная гвардия стояла у домов, на площадях пушки и кавалерия; ликующие толпы мобили ходили по бульварам с песнями – дети 16, 17 лет, запачканные кровью, хвастались ею, им выносили вино, на них бросали цветы. Мещанки выбегали из-за прилавков, чтоб приветствовать победителей. Буржуази торжествовала, а угольный дом в предместии св. Антония еще дымился, палатки были разбиты по бульварам, лошади глодали прекрасные деревья Елисейских Полей, везде сено солома, кирасирские латы, седлы – в Тюльерийском саду готовили суп за очажком… и этот вид стал меняться, начали мести, сыпать песок, из-под которого кровь все-таки проступала… к Пантеону, разбитому ядрами, не подпускали… движенье появилось на улицах, праздношатающиеся облепили кофейные, буржуа появились на бульварах. – Тогда только стало уясняться прошедшее. Помните у Байрона описание ночной битвы – и потом рассвет, приходящий обличить все страшное и дикое борьбы, все скрытое мглою, – руку, судорожно копающую песок, окровавленную чалму… Вот этот-то рассвет наставал теперь внутри души, страшное опустошение обличалось им, половина надежд, половина верований была убита – мысли отрицанья, отчаяния бродили в голове, старались укорениться. Предполагать нельзя было, чтоб в душе нашей, прошедшей через столько опытов, теорий, испытаний современной негацией и неверующей критикой, оставалось так много истребленного – религиозного – и так дорогого.
После таких сильных потрясений живой человек не остается по-старому. Или душа его становится еще религиознее, бросается в ожесточенный фанатизм, с злым упорством находит в самом отчаянии утешение, и он вновь зеленеет, обожженный грозой, нося смерть в груди, или он грустно, но мужественно отдает еще строй верований и упований, становится трезвее и трезвее – и не удерживает последние слабые листья, которые уносит резкий осенний ветер. Что лучше?
Одно ведет к блаженству безумия.
Другое – к самоотвержению знания.
Выбирайте сами. Одно чрезвычайно прочно, потому что оно отнимает всё. Другое ничем не обеспечено – потому что оно многое дает.
Внутри души человеческой, в которой возбуждена мысль, есть постоянный революционный трибунал, есть беспощадный Фукье-Тенвиль – и, главное, есть гильотина. Иногда судья засыпает, гильотина ржавеет, ложное, прошедшее, романтическое, слабое поднимает голову – и вдруг какой-нибудь дикий удар будит суд и палача – начинается свирепая расправа Или казнить и идти вперед, или упасть на дороге, малейшая уступка, пощада, сожаление – ведет к реакции, ведет к прошедшему, оставляет цепи. А их-то снять – в этом вся задачи трибунала.
Первый шаг мышления, – говорил умирающий Дидро, – неверие. Это-то и есть страшный суд разума, о котором я говорю. Нелегко достаются эти казни, эти расставанья с мыслями, которые нам были святы но преданью, с которыми мы сжились, которые нас лелеяли, утешали, которые нам доставили минуты счастья и блаженства. Какая страшная неблагодарность – пожертвовать ими! Да. Но на той выси, на которой стоит трибунал, там нет благодарности, там неизвестно святотатство – и если революция, как Сатурн, ест своих детей, то мы, дети ее, как Нерон, убиваем нашу мать – лишь бы отделаться от прошедшего. Кто не помнит своего логического романа? Кто не помнит; как в его душу падала первая скептическая мысль, первая бодрость исследования – и как она захватывала более и более и подтачивала самые дорогие достояния юной души? Церковь и государство, семейные отношения, национальные предрассудки, добро и зло – являются последовательно перед здоровой критикой, но юноша, подвергая все суду и осуждению, стремится спасти клочки, отрывки, – отказываясь от христианства, он бережет бессмертие души, платоническую любовь, заприродность, романтизм, идеализм – и пуще всего Дух – провидение. Но остановиться невозможно, как я сказал, или замереть неподвижно и глупо на дороге, как верстовой столб, или предать суду и последнюю ношу, спасенную из прошедшего. И вот верховное бытие, абсолютный дух является на лавке подсудимых. Разум беспощаден, как Конвент, настает свое 21 января. Добрый и кроткий король приговорен к гильотине. Это первый пробный камень: все слабое, все половинчатое бежит, отворачивается, не подает голоса и идет назад, – другие, как жирондисты, произносят приговор, жалея подсудимого, воображая, что, казнивши его, нечего будет казнить, что 22 января республика готова и счастлива. Фейербах был accusateur publique[123]123
общественным обвинителем (франц.). – Ред.
[Закрыть]. Мы казнили бога. Казалось, все кончено – consomatum est. Как будто достаточно атеизма, чтоб не иметь религии.
Вспомните, террор именно начался после казни короля. Смотрите, вот являются на помосте благородные отроки революции – жирондисты, блестящие, красноречивые, самоотверженные. У вас текут слезы, опускаются руки – вам жаль их, но спасти невозможно, и окровавленные головы их показывает палач… Погодите отворачиваться – вот и голова Дантона, и за ним идет на ступени баловень революции Камилл Дюмулен… Ну, теперь, говорите вы с ужасом, теперь кончено, – извините – святые палачи идеи, Робеспьер и Сен-Жюст, будут казнены за то, что они верили в возможность демократии во Франции пятьдесять пять лет тому назад, – казнены, как Анахарсис Клооц, мечтавший о братстве народов, за несколько дней до Наполеоновской эпохи. – То же во внутреннем процессе. Отделавшись от крупных, очевидных представителей прошедшего, мы стали встречать на каждом шагу, в каждом чувстве, в каждом понятии что-нибудь христианское, религиозное, – казнивши царя, мы сделали царей из всякой всячины, так велика потребность рабства в нас, – поставивши статую разума, мы впали было в идолопоклонство перед нею. Мы сделались рабами отвлеченной законности, свободы, государства, – после грозного чудовищного опыта нельзя продолжать эту фантасмагорию. Кого же тащить на гильотину? Кто новые обвиняемые?
– Республика. – Suffrage universel…[124]124
Всеобщее избирательное право (франц.). – Ред.
[Закрыть]
– Францию – да по дороге и всю Европу.
Казней много – неужели за этим останавливаться? Близким, дорогим надобно пожертвовать – мудрено ли жертвовать ненавистным, в том-то и дело, чтоб отдать дорогое. Я не остановлюсь, я знаю, что не будет миру свободы, пока все религиозное не превратится в человеческое, простое, подлежащее критике и отрицанью. Истина канонизированная, подавляющая человека, истина неприкосновенная – ошейник рабства на разуме. Разум не требует уничтожения, он, собственно, только расстригает из ангельского чина в людской, он превращает священные таинства в простые истины, неземных дев – в женщин. Если республика выдает себя за такое же божественное право, как монархия, если она свои капризы делает мне святым законом, то я ее презираю так же, как монархию. Нет, гораздо больше. Монархия в Европе – дело совершенно прошедшее, если она и существует кой-как – то у ней нет будущего. Она никогда не поправится от удара, нанесенного ей 24-м февраля. Республика не в том положении, от одного имени ее сильнее бьется наше сердце, мы влюблены в нее, республика – наш религиозный догмат. К ней надобно быть гораздо строже – пощады ей ждать невозможно, она ничего не щадила, эта Клеопатра, эта Лукреция Борджиа, у ней нет религиозных, поэтических, феодальных отговорок монархии, она с нами стоит на одном terrain[125]125
почве (франц.). – Ред.
[Закрыть]– какие ей уступки? Мы не уважили короны – пора перестать уважать и фригийскую шапку. Отсутствие царя еще не есть свобода. Монархическая власть не менее притеснительна в руках Собрания – только менее откровенна. Лудвиг-Филипп никогда не осмелился бы принять каваньяковских мер, он знал, что религия монархии прошла. – Во имя святости suffrage universel и самодержавья Собранья бомбардировал он Париж. Как же не разбить этот кумир? Пора перестать быть детьми. Не будем слабы – вспомним лучше Шиллера, как он вырвал Лауру из своего сердца:
И пусть великим результатом страшных дней останется пониманье, что Французская республика очень далеко от того, чтобы удовлетворить потребности современного человека на свободу. Последний подвиг Франции – 24-е февраля – велик и колоссален, она дала программу новой эры, она поставила всемирно-исторический вопрос, она второй раз указала миру идеалы, к которым надобно стремиться, она второй раз имела святую дерзость осуществить то, о чем едва смеют мечтать. И погибла во второй раз за свою гениальную опрометчивость. Она, как Христос, распинается нашего ради спасения, – она, исходя кровью, умирая от голоду и насилия, завещает миру республику демократическую и социальную, – пример самоотвержения и мужества. Но ее минует и на этот раз плод, выработанный ею. Где почва во Франции для социальной республики? – Она только и может быть республикой мещанской, монархической, солдатской, притеснительной, давящей. Кучка самоотверженных, героических провозвестителей будущего, толпа, полная сил, свежести, мысли, – это работники больших городов. Они действительно граждане будущей республики. Все остальное против них и против истинной республики. Невежественный, тупой земледелец с свирепой злобой говорит о «коммунистах»; ограниченный, развращенный мещанин, мелкий эписье[127]127
лавочник, от épicier (франц.). – Ред.
[Закрыть] и богатый банкир ненавидят их из корысти; распутная литература не понимает их. Тут армия и узкое законодательство не могут без скрежета зубов видеть что б то ни было свободное, недисциплинированное – для них мысль, не укладывающаяся в их формы, – беспорядок, человек, не идущий во фронт и нога в ногу, – мятежник. Где же место, простор свободе в этом мире, выращенном на крови, на неправде и нравственном растлении? Он был велик в прошлой борьбе, он был обманут, увлечен 24 февраля, – но теперь спохватился – и объявил état de siège[128]128
осадное положение (франц.). – Ред.
[Закрыть], т. е. варшавский порядок. Франции 24 февраля нет. Францией июньских дней осталась она, буржуази налегла жабой на грудь побежденных и все подавила: свободную речь, право собираться, личное обеспеченье. Фонды поднялись на другой день после резни!
Но имя республики буржуа не предали, они поняли, что в республике первое место им, воля им, – и горе непокорным, в подвалы их, где вода по колено, в депортацию их. Франция осталась Францией Варфоломеевской ночи, Лудвига XIV, Наполеона. Старая Франция – ее ничто не изменит, кроме смерти.
Уж разрушался бы скорее этот мир, что сидеть над клюкой расслабленному и впавшему в ребячество старику, – пора костям на место – пора обновиться сыновьями. А где сыновья? – Не в Австрии ли, не в Пруссии ли? – Что-то плохо верится. А где были христиане в Риме? – в катакомбах, в пещерах – так и теперь ищите сыновей в душных мастерских, в переулках, в которых не осталось целого окна, не осталось стены, не облитой кровью, – там растет новое поколение, бледное, голодное, худое, отлученное от всех даров мира сего и от этого без всякой связи с ним. Им нечего жалеть ни цивилизацию, которая их оставила без образования, ни государство, которое им не дает куска хлеба, ни республику, которая им посылает фразы, обещанья – и ядры, если они осмеливаются просить исполнения. Эти люди неутомимо подкапывают под фундамент старого здания, они работают день и ночь, уловить, остановить их невозможно. Их называют чартистами в седой Англии, социалистами в седой Франции. Им и мы, дальние братья, можем протянуть руку – потому что они умеют отвечать симпатично. В них, как и в нас, нет той удушливой ограниченности, которая поражает в образованных европейцах. У нас, как и у них, нет ноши, мы не ломимся под тяжестью исторического наследия. У нас нет твердых правил этой каменной болезни мозга, мы не знаем застарелого безумья феодализма и римского права – и мы и они не имеем ни прошедшего, ни настоящего, – но будущее – наше.
Да, будущее – наше, нами сделается возможным братство народов, нами сделаются возможными социальная республика и торжественная федерализация всего мира. Говоря нами, я говорю о наших детях, внучатах. Где нам, начинающим седеть в бою, где нам видеть будущее? Нам еще шагу свободно сделать нельзя – с одной стороны мир прошедшего, гниющий, но громадный, сильный, с другой – мир будущий, незрелый, дальний, слабый. Что же для нас в настоящем? Наше настоящее там, где отчаянная борьба, там, где страданье. Кто теперь не страдает, кто теперь успокоивается воспоминанием и надеждой – тот не человек. Неужели только страдать? – О, нет – просто в страданье есть что-то женское, даже детское, – наше стра-данье должно быть деятельно, мы не призваны собирать плод, мы не призваны наслаждаться, хотя и нам достались великие минуты счастья, – и их мы не забудем! Мы призваны на другое – быть палачами прошедшего, казнить, преследовать с злобой. с неутомимостью восторжествовавшего врага, мы должны узнавать его везде, во всех одеждах, во всех формах, обличать, тащить к суду разума и приносить на жертву светлому. Работать, работать всю жизнь для того, чтоб выломить хоть один камень из тяжелого свода, – а там вались он себе на нашу голову – но, главное, без пощады, без уступок. Трехцветное знамя и желание примирения убили 24 февраля.
Какая тут пощада… кого щадить – Париж? Гибель ему. Его час настал, oн дальше не пойдет. Кончина его славы – 24 февраля; двинутый им, он шел целый месяц вперед и обличил свою неспособность, у него сделалась одышка, он стал отставать, а с 15 мая стоял, ожидая страшного поражения. Пускай он идет со сцены, старый развратник с юношескими мечтами, – ему для житья нужны варфоломеевские ночи, сентябрьские дни, июньские сутки – кто же станет поить своей кровью этого дряхлого вампира? Нет, он свое сделал – пусть разлагается вместе с буржуазной республикой, oн не знает, что такое равенство, что такое свобода, он не понимает братства – он думает, что все сделает кровью, убийством, храбростью, – пусть же он тонет в крови праведников, лишь бы потонул.
Буржуази пирует, царствует в Париже. А вот уже месяц, как он в осадном положении, вот уже месяц, как гражданин боится гражданина. Месяц с тех пор, как ежедневно водят арестантов, как женщины трепещут в домах своих, как все подвалы набиты людьми баррикад. Буржуази довольна, она домы свои осветила. 27 числа, и огонь плошек играл и отсвечивался в крови их братии. Вся власть в руках буржуази, и она собралась венком, гирляндой около Тьера. Да будет он президентом. Фигаро – президент республики, – что может быть забавнее? Пусть вместе с ним царствуют эти жирные лбы, отвислые щеки, маленькие глазки; пусть царствуют люди, которым жизнь за прилавком, жизнь, проведенная в обмеривании и обвешивании, положила клеймо отвержения на лице. Пусть это нечистое животное о восьмистах головах позорит трон – позорит власть, – после него никто не захочет занять место, они из трона сделали позорный столб. Какое собрание портретов можно сделать и подарить какому-нибудь патологическому кабинету для поучения юношеству, для показания им, до чего может пасть образ человеческий – от мирного разврата, от благоразумного стяжания, от сытости, скупости и любви к порядку! Только зачем же Париж умирает так позорно, зачем судьба отказала ему в честной кончине? Жаль его. Он так умел смеяться над другими – и так пошло-смешно оканчивает свою карьеру. Что же делать? – Разве не он вытерпел, позволил укорениться контрреволюции после 24 февраля, разве не он сложа руки сидел после 17 апреля, разве не он призвал дикие орды африканцев против братии своих, чтоб не делиться с ними, и зарезал их бездушной рукой убийцы по ремеслу? Неси же казнь, Каин-буржуа, скучный ритор, лжец, неси логическое последствие, падай глупо, падай преступно, падай позорно…
Все элементы разрушающейся веси, все то, на чем этот дряхлый и половинчатый мир основывал свою славу, свое величие, является теперь во всей гнусности, во всей нелепости. Вот верный признак смерти.
La grande armée[129]129
Великая армия (франц.). – Ред.
[Закрыть]…она взяла не хуже союзных войск Париж; нет, лучше, она взяла улицу за улицей, квартал за кварталом, оставляя груды трупов. Париж любит играть в солдаты, он посадил императором своего маленького капрала, этого солдата в душе и мещанина по приемам, Париж Робеспьера вытянулся во фронт и не смел ни думать, ни дышать перед своим императором. Париж рукоплескал злодействам, которые называют победами, он воздвигал статуи, колонны… он пятнадцать лет плакал о железной руке, он переносил его мощи – он не постыдился после 24 февраля кричать: «Vive Louis Bonaparte!»[130]130
«Да здравствует Луи-Бонапарт!» (франц.). – Ред.
[Закрыть]– пусть же он насладится казарменным управлением и справедливостью кордегардии.
La grande armée… слава Франции, Рейн, Moscova[131]131
Москва-река (франц.). – Ред.
[Закрыть] – вот она вам. Солдат – не гражданин. Цезарь, вы помните, не нашел ничего оскорбительнее для наказания крамольного легиона, как название граждан. Армия – государство в государстве. Государство с другими нравами. Все солдатское не идет к человеку, все человеческое не идет к солдату. Солдат, который рассуждает, – опасен, гражданин, который не рассуждает, – презрителен. Обязанность солдата убивать, он иначе одет, чтоб не мешаться с толпою, он не работает, не производит, он вооружен и ждет, когда ему велят резать, – тогда он режет алжирца или своего брата. Словом, что общего между нашей цивилизацией и той, которая издала на днях прокламацию, в которой Ла-Морисьер делает выговор какому-то батальону за то, что они щадили кровь – «пощада – преступление для военного, у него должна быть одна религия, честь знамени». – Да, это совсем иная религия.
Le suffrage universel… вот вам и suffrage universel, не опертый ни на какое общее социальное воспитание, ни на какую мысль, а механический, арифметический, холодный, тупой, бесхарактерный suffrage universel.
Узкость пониманья, отсталость, тупоумье Национального собрания – поражают, разрушающийся мир заговаривается этими семьюстами ртами. Три месяца эти люди ничего не делали. Как все посредственные натуры, они бросились в мелочи, в подробности – и стали во весь рост 23 июня, чтоб показать миру зрелище невиданное – 700 человек, действующих, как один злодей, как один изверг. – Кровь лилась реками, а они не нашли слова любви, сожаленья, самый страшный террор – это террор трусости. Консидеран, Косидьер предлагали мирные слова, но их предложения были покрыты воплем негодования. Все великодушное, все благородное, доблестное неизвестно этому Калигуле о 700 головах, этому товарищу неаполитанского короля. Они не хотели понять последних слов умирающего Аффра, они не позволили прочесть письмо епископа Халкидонского. Национальная гвардия – эта «охранительница свободы и прав» поняла их, elle a bien mérité de la patrie[132]132
у нее большие заслуги перед родиной (франц.). – Ред.
[Закрыть] – она расстреливала безоружных, она убивала пленных. Свирепейшим мальчишкам мобили раздавали кресты – и Франция не поняла непристойности этой награды.








