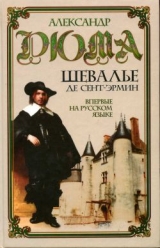
Текст книги "Шевалье де Сент-Эрмин. Том 2"
Автор книги: Александр Дюма
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 29 (всего у книги 38 страниц)
CII
В КОТОРОЙ ЧИТАТЕЛЬ УЗНАЕТ ИМЯ ОДНОГО ИЗ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ; А ОБ ИМЕНИ ВТОРОГО ДОГАДАЕТСЯ
Они находились там, где когда-то решались судьбы Рима.
Они находились на поле сражения между Горациями и Куриациями. Услышав об этом, молодой гусарский офицер отдал честь, приложив руку к своей меховой шапке.
Затем оба сели в кабриолет.
Перед ними простиралась разделенная надвое дорогой в Альбано длинная горная гряда, левая оконечность которой приходится на Соракту, покрытую снеговой шапкой во времена Горация [111]111
Оды,1,9,2, гора Фалисков, или священная гора Аполлона. Сегодня – гора Санто-Оресто.
[Закрыть]и зеленой растительностью в наши дни, а самая высокая вершина которой увенчана Храмом Юпитера Лацийского [112]112
Согласно традиции воздвигнут Таквинием Гордым на Альбанском холме.
[Закрыть]. Перед ними на белевшей вершине одного из холмов открылся Альбано, крестник Альба Лонги, даишей свое имя этому узурпатору, поднявшемуся на руинах Помпеи; которая со своими восемьюстами домов и тремя тысячами жителей не могла восполнить потери тех огромных строений, которые убийца мух Домициан даровал городу – убийце людей Помпеям; справа, нависая над Тирренским морем, протянулась гряда холмов, образовавшая собой тот цирк, где бились друг с другом и погибали в свой черед племена фаллисков, эквов, вольсков, сабинов и герников. За ними был Рим, Эгерийская равнина, где Нума принимал своих оракулов, – длинная череда курганов, тянувшихся к Риму и, кажется, готовых слиться с ним сплошной бороздой развалин; наконец, за Римом – огромное море, усеянное голубоватыми островками, как облаками, которые в своем пути в вечности безмятежно встали на якорь в небесной синеве.
Этот цирк сохранил две тысячи пятьсот воспоминаний, и этот цирк был движущей силой всеобщей истории на протяжении веков будь то при Республике или при папах.
Лошади отдышались, и экипаж продолжил путь.
У холма с могилой Горациев от дороги ответвлялась маленькая тропинка вправо, заметная на фоне рыжеватой, цвета львиной шкуры, растительности, покрывающей римскую равнину; эта маленькая и едва заметная тропка, исчезавшая в горных поворотах, благодаря пешеходам, сокращавшим себе путь из Рима в Валлатри, пережила на своем веку многое и многих.
– Видите эту тропинку? – спросил тот из молодых людей, которого его товарищ возвел в ранг чичероне, а теперь выказывал легкое нетерпение оттого, что экскурсия прервалась. – По всей вероятности, именно по ней два гладиатора Милона, бросив носилки, которые они сопровождали вместе с десятком своих товарищей, решились напасть средь бела дня на Клодия, о чем-то мирно беседовавшего с жнецами. Клодий, раненный в правую сторону груди копьем, наконечник которого вышел у него из плеча, бросился туда, где сейчас находятся эти развалины: тогда здесь была ферма. Гладиаторы – за ним, нашли его прятавшимся в печи и потащили на главную дорогу.
– Объясните же мне, – попросил гусарский офицер, – каким образом Клодий, человек потерянный, запутавшийся в долгах, мог сохранить свое влияние на римлян?
– Все очень просто. Прежде всего он был очень красив, за что получил от своих сограждан прозвище Пульхр, то есть Красавчик, – вы должны знать, как действовала человеческая красота на людей античности. Второе же – то, что популярность Клодия поддерживали его четыре сестрицы, весьма занятные особы: одна была замужем за Метеллом Целером, вторая – за оратором Гортензием, третья – за банкиром Лукуллом, а четвертая, Лесбия, была любовницей поэта Катулла. Злые языки в Риме даже распространяли слух, что Красавчик – любовник всех четырех своих сестер; в последние дни Рима, как известно, инцест был широко распространен. Итак, Клодий, благодаря своим четырем сестрам, имел доступ к четырем великим силам света. К консульской власти – через жену Метелла Целера; к сундукам богатейшего из римских банкиров – через супругу Лукулла; благодаря Гортензии за него был голос одного из красноречивейших ораторов Рима; наконец, Лесбия, любовница Катулла, принесла ему дружбу великого поэта. С другой стороны, его поддерживал Красс, которому как-нибудь могло пригодиться влияние Красавчика на чернь; его ласкал Цезарь, с которым он делил на двоих нежность его жены, и дарил дружбой Помпей, во имя которого он бунтовал легионы своего сводного брата Лукулла. Он был в хороших отношениях даже с Цицероном, который любил его сестру Лесбию и желал стать ее любовником, – желание, которому Клодий нисколько не противился.
Эта любовь стала одной из причин смерти Клодия. Я говорил, что он был любовником Муссии [113]113
В действительности ее звали Помпеей.
[Закрыть], дочери Помпеи, жены Цезаря. Чтобы иметь возможность встречаться с ней в свое удовольствие, он проникал к ней в покои, переодевшись женщиной. Как вы знаете, присутствие мужчин и даже самцов животных было строжайше запрещено на этих лесбийских оргиях. Одна из служанок узнала его и разоблачила; Муссия повела его потайными коридорами, но слух о его проникновении уже успел разнестись, и грянул ужасный скандал.
Он был обвинен в кощунстве трибуном, который потребовал от него предстать перед судьями; однако Красс отговорил его, сказав, что заботу о подкупе берет на себя; и действительно, вскоре явился с деньгами и прекрасными патрицианками, решившимися пожертвовать собой ради Клодия; для судей, этих божеств справедливости, была даже переиначена басня про Юпитера и Ганимеда; грянул такой скандал, что Сенека заметил: «Преступление Клодия не было таким тяжким, как его оправдание» [114]114
Сенека, Письма Люцилию,XVI, 97.
[Закрыть].
А Клодий, защищаясь, придумал себе такое алиби: будто бы еще накануне празднеств в честь Богини-Покровительницы он был в десяти милях от Рима и, стало быть, не мог проделать тридцать пять лье за пять часов. К несчастью, Терренция, жена Цицерона, чудовищно ревновавшая своего мужа и знавшая о его чувстве к Лесбии, видела в тот же вечер, когда состоялись мистерии, как ее муж беседовал с Клодием. Она предложила Цицерону на выбор, которого не спасла его обычная изворотливость: «Либо вы пылаете страстью к сестре Клодия, и тогда я так сделаю, что вам не миновать свидетельствовать против него; либо не пылаете, и тогда у вас также не будет причин не свидетельствовать».
Цицерон трепетал перед своей женой и выступил против Клодия, который ему так этого и не прортил; шум и возбуждение, вызванные этими событиями, длились больше года и утихли лишь тогда, когда Милон взялся оказать Цицерону услугу, поручив своим бестиариям убийство Клодия.
Народ оставался верен своему идолу и после его смерти – явление редкое. Когда один сенатор нашел его тело и в своей повозке привез его в Рим, а его жена Фульвия развела погребальный костер, толпа, разобрав костер на головешки, целиком сожгла один из римских кварталов.
– Мой дорогой друг, – сказал молодой офицер, – вы – настоящая живая библиотека, и я с благодарностью буду вспоминать всю свою жизнь этот путь, который мне довелось проделать со вторым Варроном… Каково! Видите, меня тоже захватила римская история. – Офицер был доволен тем, что в свою очередь вставил цитату и захлопал в ладоши… – Продолжим, продолжим, – сказал он, – что это за могила? Было бы любопытно, если бы вы хоть раз ошиблись. – И он показал на монумент, показавшийся слева.
– Не попали, – ответил Цицерон, – потому что я совершенно точно знаю, чей он. Это могила Аскания, сына Энея, имевшего неосторожность выпустить из рук подол платья своей матери во время погрома в Трое. Он потерял мать, зато нашел отца, который нес на себе Анхиза, прихватив с собой домашних богов-пенатов: отсюда пошло основание Рима. Но что интересно, одновременно через другие ворота выходил Телегон, сын Улисса, основатель Тускула, могила которого находится в двух лье отсюда. Эти двое, один грек, а второй азиат, отпрыски двух враждебных рас, двух народов-противников, перенесли эту борьбу в Европу. Соперничество праотцов вылилось в Риме во вражду потомков. Двумя главными родами Альбы и Тускулума были род Юлиев, из которого вышел Цезарь, и род Порциев, давший жизнь Катоку. Вам известно об ожесточенной борьбе между двумя родами; противостояние, начавшееся под Троей и продолжавшееся более тысячи лет, закончилось в Утике. Наследник побежденных, Цезарь отомстил за Гектора Канону, наследнику победителей. Могила Аскания была первой на пути из Неаполя в Рим и последней из Рима в Неаполь.
Рассказ длился долго, и, как у Руя Гомеса Виктора Гюго, было упомянуто все самое достойное упоминания; было рассказано обо всем интересном, когда пришлось из мнимого движения во времени вернуться на реальную землю.
По задумчивости старшего из друзей, то есть менее образованного, было видно, что у него в душе происходит трудная работа.
– Вы никогда не были профессором истории? – спросил он своего также молчавшего спутника.
– О, разумеется, нет! – ответил тот.
– Тогда откуда вы знаете столько всего?
– Я даже сам не смогу вам этого объяснить. Читал сначала одни книги, потом – другие; эти вещи не изучаются, они сами остаются в голове; для этого следует иметь склонность к истории, богатое воображение; события и люди входят к вам в мозг, мозг придает им свою форму, и в следующий раз вы уже видите их, этих людей и эти события.
– Черт возьми! – вскричал офицер. – Да если бы у меня были ваши мозги, я бы только и делал, что читал всю свою жизнь.
– Я не пожелаю вам этого! – ответил, смеясь, молодой ученый. – Изучать в условиях, в которых это пришлось делать мне… Я был приговорен к смерти и провел три года в тюрьме в ожидании расстрела или гильотины каждый день; надо было как-то отвлечься от мыслей.
– В самом деле? – сказал Офицер, внимательно всматриваясь в лицо своего собеседника, пытаясь в его суровых чертах прочесть что-либо о его прошлом. – Должно быть, вы многое пережили.
Тот, кому был адресован этот вопрос, лишь печально улыбнулся.
– Вся загадка в том, – ответил он, – что мне не довелось проводить свою жизнь на ложе из роз [115]115
«Лежу ли на ложе из роз?» – спросил у своего советника ацтекский вождь Гуатимозин, когда его положили на раскаленные угли в попытке добиться у него признания о том, где спрятаны все его сокровища.
[Закрыть].
– Очевидно, вы из знатного рода?
– Я более чем знатен, сударь. Я – дворянин.
– Вы были приговорены к смертной казни по политическим делам?
– Да, по политическим.
– Вам неприятно то, что я расспрашиваю вас таким образом?
– Нисколько. На вопросы, на которые я не могу, или, вернее, не хотел бы отвечать, я не отвечаю. Вот и все.
– Сколько вам лет?
– Двадцать семь.
– Любопытно, но вы кажетесь одновременно и младше, и старше своего возраста. Сколько времени прошло с тех пор, как вы вышли из тюрьмы?
– Три года.
– Чем вы занимались все это время?
– Я воевал.
– На море или на суше?
– На море с людьми, на суше – с дикими тварями.
– А на море против кого вы воевали?
– Против англичан.
– А за кем охотились на суше?
– За тиграми, пантерами, удавами…
– Значит, вы были либо в Индии, либо в Африке…
– Я был в Индии.
– В какой части Индии вы были?
– В той части, которая почти неизвестна миру: в Бирме.
– Участвовали ли вы в каких-либо крупных морских сражениях?
– Я был при Трафальгаре.
– На каком корабле?
– На «Грозном».
– Стало быть, вы видели Нельсона?
– Да, и даже вблизи.
– Как вам удалось не попасться англичанам?
– Мне не удалось: я был арестован и отпоавлен в Англию.
– Вас обменяли?
– Я сбежал.
– С понтонов?
– Из Ирландии.
– А куда следуете сейчас?
– Я не знаю.
– А как ваше имя?
– У меня его нет. При нашем расставании вы можете назвать меня каким-нибудь, и я возьму на себя обязанности крестного сына по отношению к крестному отцу.
Молодой офицер смотрел на своего компаньона в изумлении: он чувствовал, что в его неустроенной и бродячей жизни крылась какая-то тайна; он был благодарен ему за все ответы, которые получил у него, и не хотел допытываться о тех вещах, которые тот скрывал.
– А я, почему вы не спрашиваете, кто я? – спросил он.
– Я не настолько любознателен; но если это не составит вам труда, что ж, буду вам благодарен.
– Α-a! Моя жизнь в такой же степени прозаична, в какой ваша любопытна и, может быть, поэтична. Меня зовут Шарль Антуан Мане, я родился 4 ноября 1777 года в маленьком городке Орийяке, что в департаменте Канталь. Мой отец был королевским прокурором гражданского суда. Видите, я не восхожу своими корнями к французской аристократии. Кстати, а какой вы носите титул?
– Титул графа.
– Я учился в колледже моего родного городка, и это в некоторой степени вам объясняет, откуда мое несколько легкомысленное отношение к учебе. Власти моего департамента, признав во мне склонность к военному ремеслу, отправили меня в школу Марса. Я особенно увлекался артиллерией и делал такие успехи, что в шестнадцать лет уже стал инструктором. Но затем школа Марса была расформирована [116]116
Военное училище, основанное 13 прериаля И года республики, расформировано 4 брюмера III года.
[Закрыть], и мне оставалось сдать экзамен. Я успешно его сдал и был прикомандирован к третьему батальону Канталя, а оттуда – в двадцать шестой линейный полк. Войну я начал в 1795 году; четыре года в действующих армиях на Рейне и Мозеле; 7,8 и 9-й годы Республики – в Итальянской армии. Был тяжело ранен при Нови и лечился шесть недель, присоединился к своему полку на генуэзском побережье. Вы когда-нибудь питались мясом бешеной коровы?
– Да, иногда.
– Так вот, я питался им каждый день и мог бы рассказать вам, что это такое. Произведен в лейтенанты, б июня прошлого года представлен к Ордену Почетного Легиона; после сражения при Аустерлице – капитан; сейчас я – адъютант великого герцога Бергского и от его имени везу весть о вступлении Наполеона в Берлин его брату Жозефу, перед которым также отчитаюсь во всех перипетиях сражения при Йене, я в нем принимал участие; а по возвращении я дал себе слово стать командиром эскадрона, что было бы очень славно в двадцать девять лет. Вот и вся моя история; как видите, она короткая и не очень интересная; но что действительно интересно, это то, что мы уже в Веллетри, и я умираю с голоду. Давайте спустимся и пообедаем.
Поскольку безымянный путешественник не видел никаких препятствий, чтобы принять это предложение; он вылез из экипажа и вместе с будущим командиром эскадрона Шарлем Антуаном Мане вошел в гостиницу «Рождение Августа». Это название могло означать только то, что гостиница, и оставим доказательства археологам, была возведена на развалинах дома, в котором родился первый римский император.
CIII
ПОНТИНСКИЕ БОЛОТА
Обед путешественников оказался скверным, но они благоразумно решили не предъявлять жалоб на дурное обращение в «Рождении Августа»: сам Август на троне съедал на обед две сушеные рыбы и запивал их стаканом воды. Здесь все было в точном соответствии с традициями, которые с рождения окружали Августа, пророча ему, сыну мельника и африканки, великое будущее и власть над миром.
Не Антоний ли ему говорил: «Твоя бабка была африканка, твоя мать крутила жернова в Ариции, а отец ссыпал муку руками, грязными от денег, что он наторговал в Нерулоне»? [117]117
Светоний, Жизнь Двенадцати Цезарей,IV. Нерул – маленький городок в Лукании по соседству с Фуриями.
[Закрыть]
Но были знамения.
Его мать Атия спала на носилках в храме Аполлона, а мраморная змея, обвившаяся вокруг посоха в руках статуи, изображавшей бога медицины, отделилась от жертвенника, подползла к носилкам, забралась в них и обвилась вокруг Атии; когда змея покинула носилки, Атия зачала ребенка.
Однажды, когда он шел в школу и держал в руке кусок лепешки, на него опустился орел, схватил его и унес, а в следующее мгновение вернул его, всего пропитанного амброзией [118]118
Там же, XCIV и XCV.
[Закрыть].
И, наконец, в его дом ударила молния и освятила его.
В это время в Веллетри был праздник, и сюда съехались крестьяне со всех окрестных деревень.
Танцевало все.
Испокон веков на половине итальянских земель принято было танцевать, когда другая половина плакала; жителей первой половины не волновало, вступили ли французы в Рим, захватили ли Неаполь, осаждали ли Гаету и доносится ли с той стороны Понтинских болот канонада 24-фунтовых пушек, превращающих города в развалины.
«Сжимайте кольцо осады», – писал своему брату Наполеон.
Жозеф повиновался и сжимал кольцо осады.
Французам улыбались; молодые женщины протягивали руки и увлекали их в круг танца; они не отводили свои лица от губ французов; но когда с французами оставались наедине, закалывали их кинжалами.
Постояльцы, обедавшие за тем же столом, с жадностью смотрели то на мешочек с золотом, из которого более молодой вынул луидор расплатиться за трапезу стоимостью в четыре франка то на бумажник, который старший вынул из плаща, чтобы переложить в карман.
Веллетрийский староста, прогуливавшийся между пьющими и танцующими, с не меньшей алчностью поглядывал на эти богатства, и, чтобы заполучить их, он предложил молодым людям то же, что прежде предлагал станционный смотритель, а именно: четырех человек сопровождения для перехода через Понтинские болота.
Однако Мане достал из своей дорожной сумки два своих пистолета и похлопал рукой по своей сабле, в то время как его приятель проверил оба заряда его карабина.
– Вот наше сопровождение, – ответил Мане, – и французам не нужно никакого другого, кроме их собственного оружия.
– Месяц назад, – насмешливо проговорил староста, – здесь ужинал один французский адъютант – так же, как ужинаете вы; он тоже был хорошо вооружен, насколько я мог судить, но потом я это же оружие увидел в руках у других людей, которые убили его.
– И ты не остановил их? – возмущенно закричал Мане, приподнимаясь на своем месте.
– Мои обязанности состоят в том, чтобы предлагать сопровождение путешественникам, а не в том, чтобы останавливать тех, кто их убивает, лишь потому, что те отказались от моих услуг; я выполняю только свои обязательства.
Мане не склонен был спорить, он сделал знак своему товарищу, и оба встали из-за стола и направились к кабриолету, уже сменившему и почтаря, и лошадей. Они щедро расплатились с тем, который привез их в Веллетри, и галопом пустились в сторону Понтинских болот.
Эти земли римской области, простирающиеся от Веллетри до Террачины, то есть до рубежей Неаполитанского королевства известны своей двусмысленной славой и отравленным воздухом, вдохнув который можно было распрощаться с жизнью, не успев попасться разбойникам.
Помните ли вы барку нашего великого живописца Эбера [119]119
«Малярия», работа маслом кисти Эрнеста Эбера, выставленная в салоне в 1850-51 гг. В настоящее время находится в музее в Орсэ.
[Закрыть], с изможденным и бледным моряком, его женой, кисти рук которой свисают в воду канала, и эти яркие зеленые овощи; в них зажгла растительную жизнь та самая зловонная земля, в которой жизнь человеческая угасает подобно факелу?
Во время обеда опустились сумерки, и когда молодые люди вышли из гостиницы, серебристый свет огромного лунного диска освещал их путь, а листва на деревьях обретала мраморный оттенок. Время от времени на их пути по сторонам вдруг вставали махины скал, бросавшие на дорогу огромные тени, и казалось, скалы рухнут на путешественников, проходивших у их подножий.
Чем ближе становились Понтинские болота, тем чаще к небесам поднимались огромные воздушные полосы, но не облаков, а пара; они заволакивали лунный диск, перед которым проплывали черной дымчатой вуалью. Даже небо приняло странные оттенки, болезненно-желтоватые; в тусклом свете фонарей, едва пробивающем плотный воздух, можно было разглядеть в больших лужах движения громадных животных, размеры которых к тому же обманчиво увеличивала ночь; они шумно дышали, высунув головы из воды. Это были дикие буйволы, для которых эти болота стали настоящим спасением: даже самые бесстрашные из охотников не решались забраться в гущу этих болот.
Иногда с места на место бесшумно перелетали, испуганные звуком экипажа, большие птицы цвета сумерек: это были серые цапли, а иногда – выпи, издававшие мрачные вопли и исчезавшие в темноте, трижды взмахнув крылом. Фауст и Мефистофель, собравшиеся на шабаш, не вообразили бы себе дороги, более населенной привидениями.
– Встречалось ли вам что-либо подобное? – спросил Мане.
– Да, по дороге из Пегу в Землю бетеля; только это был не рев буйволов, который мы слышим, а рычание тигров и крики крокодилов; над нами летали не цапли и выпи, а огромные летучие мыши, которых называют вампирами, – они вскрывают артерии спящим людям так, что те и не чувствуют, и десять минут высасывают их кровь.
– Хотел бы я увидеть все это своими глазами, – сказал Мане.
И оба невольно погрузились в продолжительное молчание, точно не решаясь его прервать.
Внезапно почтарь протрубил три раза в медный рог, который хранил у себя на перевязи. Не понимая, кому могли быть адресованы эти звуки, молодые люди потянулись руками к оружию, приняв их за сигнал.
Вскоре в ответ рогу два или три раза прозвучала труба. Сквозь зеленую поросль болот явственно проглядывал костер, казалось, собравший вокруг себя призраков. Это была почтовая станция.
Экипаж остановился.
Пять или шесть конюхов с неверно освещенными лицами, схватив кнуты, бросились в высокук? траву, в то время как другие продолжали стоять вокруг костра, как в столбняке.
В несколько секунд почтарь распряг лошадей.
– Заплатите мне скорее, – сказал он молодым людям, – и я погнал.
Те заплатили, и почтарь, оседлав одну, пустил лошадей галопом, и вскоре они скрылись в темноте, а топот постепенно затих.
Пока между двуногими и четвероногими разворачивалась настоящая борьба, и если эти дикие конюхи ругались, то их еще более дикие лошади ржали; к экипажу приблизились две бесформенные и неясные массы. Это были люди, но более походившие на древних мифических животных, трехголовых центавров, оттого что их длинные волосы, развеваясь, переплетались с гривами их лошадей. Вскоре укрощенные животные перестали громко ржать и лишь тихо постанывали. Одна из лошадей встала под упряжь экипажа, рядом с ней заняла место другая, а двое всадников обошли его справа и слева; почтарь взобрался на голую спину лошади, которая оставалась свободной; люди продолжали изо всех сил удерживать запряженных лошадей, рвавшихся на свободу, они шумно дышали и нетерпеливо били ногами. Внезапно люди отпустили поводья, и лошади, как одержимые, с гневным ржанием бросились вперед, пылая глазами и выпуская пар из ноздрей. Тотчас же двое наездников с дикими криками бросились к ним, каждый со своей стороны, чтобы удержать запряженных лошадей посредине дороги и не дать им свалиться ни в ту, ни в другую канаву, тянущиеся по бокам дороги, – напрасно! И всадники, и лошади с экипажем, и путешественники внутри него – все обрушились в канаву подобно смерчу [120]120
Дюма приводит описание эпизода, содержащегося в гл. XXI, «Дорога из Рима», книги Corricolo,впервые опубликованного под названием «Le marais Pontines» (Понтинские болота) 17–20 июня в «Le courrier français».
[Закрыть].
Следующие три станции являли такой же спектакль, как и тот, что мы попытались описать, с той лишь разницей, что чем дальше, тем все более буйными становились лошади, а люди – все бледнее, и одежда на них все больше напоминала лохмотья.
На последней остановке, когда свет фонарей экипажа уже едва был виден и ни у конюха, ни у почтаря не оказалось свечей, чтобы заново зажечь их, двоим путешественникам пришлось вооружиться факелами.
Они выехали с такой же неистовой быстротой: до Террачины оставалось два с половиной лье пути.
Внезапно в том месте, где земля, до сих пор ровная, начала уходить в горы, молодые люди различили какие-то тени, которые, перепрыгнув через канаву, появились на дороге.
– Faccia in terrai [121]121
«Лицом к земле!» ( итал.).
[Закрыть]– раздался крик.
А так как оба привстали, сверкнул выстрел, и пуля, пройдя между ними, вонзилась в стенку экипажа; тот из путешественников, который отказывался назваться, даже не вскинув карабин на плечо, словно стрелял из пистолета, ответил выстрелом на выстрел.
Раздался пронзительный крик, и послышался шум падающего тела…
Сейчас же оба путешественника бросили свои факелы перед собой на десять шагов, так что они осветили путь, и при этом свете можно было различить четыре или пять человек, метавшихся и останавливающих экипаж, а один даже повис на поводьях.
– Отпусти лошадь, каналья! – закричал ему Мане. Ивыстрелом из пистолета уложил разбойника рядом с его товарищем.
Тотчас же раздались три выстрела: одна из пуль сбила меховую шапку с головы Мане, а вторая едва задела плечо его товарища. Но тот вторым выстрелом из карабина уложил на землю третьего разбойника. Остальные уже и не помышляли ни о чем кроме бегства, но двое выскочили из экипажа, держа в руке каждый по пистолету. К несчастью для разбойников, занимался рассвет, а молодые люди в быстроте бега могли состязаться с самой Аталантой [122]122
Аталанта – лучница и бегунья, участница похода аргонавтов. – Прим. ред.
[Закрыть].
Мане, преследуя одного из разбойников, во второй раз выстрелил в него; тот оступился и попытался вытащить из-за пояса кинжал, но, прежде чем преуспел в этом, почувствовал на своей груди острие сабли Мане. Разбойник, которого преследовал второй путешественник, чувствуя, что его догоняют, достал из-за пояса пистолет, обернулся и выстрелил, – но пистолет дал осечку. И тут же почувствовал, как пальцы преследователя железной хваткой вцепились в его горло, а к виску приставлен холодный ствол пистолета.
– Я мог бы убить тебя, – сказал ему путешественник, – но мне доставит удовольствие выставить тебя на обозрение, как медведя в наморднике, перед теми, кто еще считает разбойников храбрыми. Пошли, друг Мане, и пощекотите-ка кончиком вашей сабли всех этих фасьятеров, чтобы они помогли нам связать руки этим бездельникам.
При этих словах почтарь и двое всадников, которые скакали по обеим сторонам экипажа, поняв слова как приказ, спрыгнули с лошадей и упали перед ними на землю, но только почувствовали на своих спинах саблю Мане, как проворно вскочили, спрашивая при этом:
– Что угодно сеньорам?
– Веревки, – ответил Мане. – И скрутите-ка покрепче этих молодцов.
Они повиновались; двоих разбойников сунули в экипаж; собрали карабины и пистолеты, которые после произведенных из них выстрелов путешественники побросали на землю, – теперь их вновь зарядили, опасаясь нового нападения. Двое путешественников пошли пешком по обеим сторонам своего экипажа, оставив на главной дороге три трупа.
– Ах, черт возьми, мой дорогой друг, – сказал Мане, взяв в руку воду и поднимая фуражку своего товарища, – вы просили меня быть вашим крестным отцом, – я думаю настал тот момент, когда можно приступить к обряду крещения. Во имя Баярда, кавалера Ассаса и маршала Тюренна я крещу вас и нарекаю именем Лев. Вы, черт возьми, заслужили это имя. Граф Лев, обнимите своего крестного!
Граф Лев со смехом обнял своего крестного отца, и оба пешком направились в сторону Террачины, конвоируя своих пленников, связанных в экипаже, и конвоируемые в свою очередь двумя верховыми почтарями, которые все еще бледнели π трепетали от страха.







