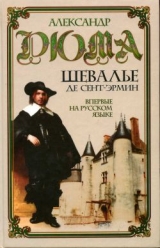
Текст книги "Шевалье де Сент-Эрмин. Том 2"
Автор книги: Александр Дюма
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 38 страниц)
– Да, Ваше Величество.
– И даже проявили большую отвагу?
– Я делал все, что было в моих силах.
– Я знаю о вас из сообщений губернатора острова Франции генерала Декана.
– Я имел честь быть представленным ему.
– Он мне рассказывал об одном путешествии, которое вы предприняли в глубь Индии.
– Я путешествовал по индийской земле на расстоянии пятидесяти лье от побережья.
– И англичане вас оставили в покое?
– Это была та часть территории Индии, которую они не занимают.
– Где же это? Мне казалось, они заняли всю Индию?
– В королевстве Пегу, Ваше Величество, между реками Ситаун и Ирравадди.
– Губернатор уверял меня, что в этой части Индии вы участвовали в весьма опасных охотничьих делах.
– Я встретил нескольких тигров, мне удалось их подстрелить.
– Испытывали ли вы сильные ощущения, когда вам довелось стрелять в этих животных в первый раз?
– В первый раз – да, впоследствии – уже нет.
– Почему так?
– Потому что мне удавалось заставить его опускать взгляд, и с этого момента я понял, что тигр – это животное, над которым человек должен быть властен.
– А перед Нельсоном?
– Перед Нельсоном, Ваше Величество, я на мгновение испытал замешательство.
– Почему?
– Потому что Нельсон был великим военачальником, Ваше Величество, и на какое-то мгновение я подумал о том, что он необходим в качестве противовеса Вашему Величеству.
– Aral Вы не хотели стрелять в человека, которого послало Провидение?
– Нет. Потому что я себе сказал, что если он действительно избранный, Провидение должно беречь его от пуль; впрочем, – продолжал Рене, – я никогда не хвастался тем, что убил Нельсона.
– А если все же…
– Подобными делами не пристало бравировать, – перебил его Рене, – разве что в них можно признаваться; если бы я убил Густава Адольфа или Фридриха Великого, это произошло бы только потому, что их смерть моей стране во благо, но я при этом был бы безутешен.
– А если бы вы оказались в рядах моих врагов, стреляли бы вы в меня?
– Никогда, Ваше Величество!
– Хорошо.
Он знаком показал, что аудиенция закончена, затем опять подозвал Люка:
– Господин капитан, сегодня же я объявляю войну Англии и Пруссии. В войне против Пруссии, у которой лишь один морской порт, вам делать нечего; но в войне против Англии вы будете мне нужны. Вы, в отличие от Вильнева, один из тех людей, которые умеютумирать, и даже, порой, желают умереть.
– Ваше Величество, у Трафальгара я не терял Вильнева из поля своего зрения ни на минуту: ни один из нас не осмелится обвинить его в том, что он недостаточно строго и недостаточно свято исполнял свой долг.
– Да, коль скоро оказался у Трафальгара. Я это знаю, но до сих пор он причинял мне только страдания. Из-за него я сейчас остановился в Вене, вместо того, чтобы быть в Лондоне.
– Не стоит жалеть об этом, Ваше Величество, вы ничего не потеряли от такой смены маршрута.
– Это, безусловно, успех, но вы видите, что, несмотря на то, что я оказался в Вене, все следует начать сначала, раз уж я объявил войну Англии и Пруссии. Но на этот раз, поскольку я не вижу иных способов, я буду бороться с Англией на континенте, побеждая королей, которых она поддерживает. Я еще увижу вас перед тем, как эта война начнется, капитан Люка; вот вам офицерский крест Почетного Легиона, который я попросил бы вас носить и не забывать о том, что он получен из моих рук.
А затем обернулся к Рене:
– Что до вас, господин Рене, оставьте свое имя и фамилию моему адъютанту Дюроку, и, поскольку капитан Люка, кажется, ваш друг, мы постараемся не слишком вас разлучать.
– Ваше Величество, – ответил Рене, приблизившись и поклонившись, – тогда, когда Ваше Величество еще не знало меня, я хотел сохранить себе то имя, которым меня все называют и под которым я был вам представлен, но это значило бы обмануть императора. Лучше навлечь на себя гнев Наполеона, чем обмануть его. Ваше Величество, для всех я Рене, но для Вас меня зовут граф де Сент-Эрмин.
И, не отступив ни на шаг, он склонился перед императором и ждал.
Император мгновение был неподвижен, и брови его нахмурились; его лицо выражало изумление. Затем удивление сменилось суровостью.
– То, что вы признались, – хорошо, но совершенно недостаточно для того, чтобы я вас простил. Возвращайтесь к себе, оставьте свой адрес Дюроку и ждите моих распоряжений, которые будет доводить до вас господин Фуше. Ведь если я не ошибаюсь, именно он один из ваших покровителей.
– Но без того, чтобы я что-то сделал для этого, Ваше Величество. – ответил Сент-Эрмин, поклонившись.
Затем он вышел и стал ждать в экипаже капитана Люка.
– Ваше Величество, – сказал Люка, – я ничего не знаю о причине того интереса, который может иметь Ваше Величество к моему бедному другу Рене, но готов поручиться честью, что это один из самых верных и отважных людей, которых мне довелось знать.
– Черт возьми, я убедился в этом! – ответил Наполеон. – Если бы он не назвал себя, к чему его никто не вынуждал, быть бы ему лейтенантом фрегата.
Оставшись один, Наполеон некоторое время оставался неподвижным и озабоченным; затем, с силой бросив свои смятые перчатки на стол, сказал:
– Мне не везет: это был наверняка тот человек, который мне нужен в море, – прошептал он.
Что же до Рене – или графа Сент-Эрмина, как будет угодно, – лучшее сейчас, что он мог сделать, это подчиниться полученному приказу.
И он сделал это: вернувшись в гостиницу Мирабо, на улицу Ришелье, он стал ждать.
XCVIII
ПОЧТОВАЯ СТАНЦИЯ В РИМЕ
2 декабря 1805 года Наполеон одержал победу при Аустерлице.
27 декабря он объявил неаполитанскую династию низложенной.
15 февраля в город, повторно оставленный Бурбонами, зступил Жозеф Наполеон.
Наконец 30 марта он был провозглашен неаполитанским королем.
Вслед за новым, а точнее сказать, будущим неаполитанским королем французская армия вступила в Римскую область, вызвав тем самым искреннее раздражение Святого Папы, который направил кардинала Феша с требованием к французам освободить римские территории.
Феш обратился к Наполеону.
Наполеон отвечал:
"Пресвятой Отец, вы являетесь властителем Рима, это правда, но Рим включен в состав Французской империи; вы – Папа, но ведь я – Император, такой же, какими были все германские императоры, каким был еще раньше Карл Великий. Я для вас такой же Карл, и не по одному титулу, а и по праву силы и по праву воздаяния: поэтому вы подчинитесь законам федеративной системы империи, открыв свою территорию моим друзьям и закрыв ее для моих противников".
При виде этого типично наполеоновского ответа глаза Папы, обычно столь кроткие и добродушные, засверкали яростью; он поручил Фешу передать, что не признает над собой суверенов, и если Наполеон хочет восстановить тиранию в духе Генриха IV Германского, то он возобновит сопротивление этой тирании в духе Григория VII.
Наполеон ответил с нескрываемым презрением, что не боится духовного воинства в XIX столетии, что у папы нет никаких законных оснований вмешиваться в дела мирские, пусть ограничится тем, что касается дел религиозных; он же, со своей стороны, ограничится тем, что поразит папу как мирского правителя, но оставит в Ватикане как римского епископа и главу всего христианского епископата.
Эта свара без начала и конца продолжалась весь декабрь 1805 года; за этот месяц Наполеон, чтобы не оставалось сомнений в его стремлении идти до конца, усилиями французских войск под командованием Лемаруа занял провинции Урбино, Анкону и Мачерату, простирающиеся вдоль всего Адриатического побережья.
Теперь Пий VII, отказавшись от идеи его отлучения, вступил с ним в переговоры по следующим условиям мирного соглашения:
Папа остается и провозглашается независимым правителем своей области, его права признаются и гарантируются Францией, он заключает с последней военный союз и берет на себя обязательство не допускать на территорию Римской области врагов Франции.
Французские войска занимают Анкону, Остию и Чивитавеккью, но снабжение их будет происходить через французскую казну.
Папа обязывается углубить и привести в порядок илистую гавань Анконы.
Он признает короля Жозефа, высылает посланника короля Фердинанда и отказавшихся присягнуть неаполитанских кардиналов – виновников гибели французов, а также отказывается от своего права на инвеституру в отношении неаполитанского трона.
Он соглашается распространить условия итальянского конкордата на все области итальянского королевства, превратив их во французские провинции.
Он сейчас же назначает французских и итальянских, кардиналов, не требуя их прибытия в Рим.
Он назначает уполномоченных представителей, которые должны будут вести переговоры о заключении германского конкордата.
И, наконец, чтобы заверить Наполеона в верности ему священной коллегии и чтобы соизмерить влияние Франции с величиной ее теперешней территории, он доводит число французских кардиналов до трети от общего числа кардиналов.
Два из этих условий особенно раздражали Святой престол: закрытие территории папского государства для врагов Франции и увеличение числа французских кардиналов.
Итак, Наполеон наделил соответствующими полномочиями кардинала Байана [92]92
Кардинал в 1739–1818 гг. (1801, in pectore с 1802 г.).
[Закрыть]и приказал занять оставшиеся территории папского государства; в Фолиньо были собраны две тысячи пятьсот человек, а в Перудже находились еще две тысячи пятьсот под командованием Лемаруа Наполеон приказал генералу Миоллису возглавить обе эти колонны, и, объединившись еще с тремя тысячами человек, которые по приказу Жозефа должны были выступить из Террачины, пойти на Рим и вступить в столицу христианского мира.
Генералу Миоллису вменялось силой или миром занять Замок Святого Ангела, взять на себя командование папскими отрядами, оставив папе отряд почетной охраны, а на все замечания отвечать, что французы вступили в Рим из сугубо военных соображений, дабы удалить из Римского государства врагов Франции; на отряды же римской полиции полагаться, лишь отлавливая разбойников, которые в Риме устраивали привал, да еще для препровождения неаполитанских кардиналов в Неаполь.
Генерал Миоллис, старый солдат Республики, характера непреклонного, ума просвещенного и чести незапятнанной, должен был с присущей ему важностью обхождения, а пуще того полагавшимся ему большим штатом, приучить римлян к тому, что власть теперь в руках французского генерала из Замка Святого Ангела, а не у старого понтифика в Ватикане.
С незапамятных времен "римские папы давали приют разбойникам, опустошавшим неаполитанские земли; разбойники эти были не преходящим бичом этих мест, – а не заживающей на солнце раной. В Абруцце, Базиликате, Калабрии отцы воспитывали сыновей-разбойников, разбой был ремеслом. Можно было стать разбойником, как становились плотником, портным или булочником; отличие было в том, что четыре месяца в году новоявленный разбойник проводил вдали от отчего дома, на большой дороге. Зимой разбойники спокойно отсиживались у себя дома, и никому в голову не приходило побеспокоить их. С наступлением весны они выходили, разбредались, и каждый выбирал себе привычную местность.
Самой завидной считалась та, что располагалась вдоль границы Римской области. Преследуемые неаполитанскими властями, разбойники переходили границу и оказывались в полной безопасности; иногда, в особых случаях, неаполитанские власти продолжали их преследование и здесь; власти Рима не преследовали их никогда.
Так, при осаде Гаэте офицер с донесением к генералу Ренье был убит между Террачиной и Фонди, и его смерть не наделала никакого шума, тогда как в клерикальной партии Рима основательно обсуждалось освобождение Фра Диаволо [93]93
Настоящее имя – Микеле Пецца; ему уделено много внимания в мемуарах генерала Гюго.
[Закрыть], который, загнанный, точно лань, неугомонным майором Гюго, в конце концов попался.
Таковы были обстоятельства, когда молодой человек лет двадцати шести – двадцати восьми, среднего роста, в чудном мундире, который нельзя было отнести ни к одному роду войск, появился на почтовой станции и потребовал лошадей и экипаж.
Он был вооружен небольшим английским карабином о двух стволах и парой пистолетов, заткнутых за пояс, что показывало: ему отлично известны опасности, с которыми сопряжен путь из Рима в Неаполь.
Станционный смотритель ответил, что у него есть экипаж, но нанять его нельзя, поскольку он выставлен на продажу. Что же до лошадей, то тут у него большой выбор.
– Если экипаж не слишком дорогой, – предложил проезжий, – и мне подойдет, я могу купить его.
– Тогда посмотрите его.
И проезжий последовал за станционным смотрителем; экипаж оказался похож на открытый кабриолет, но на улице было жарко и отсутствие крыши превращалось из неудобства в преимущество.
Молодой человек путешествовал один, все его имущество составляли дорожный сундук и кожаный кошелек…
Начали обсуждать цену, и молодой человек торговался скорее для очистки совести, чем ради снижения цены.
Сошлись на сумме в восемьсот франков.
Проезжий распорядился подать экипаж к выходу и запрячь лошадей. Пока он лично наблюдал за тем, как почтарь закреплял ремнями сундук позади экипажа, к смотрителю обратился гусарский офицер, стоя в дверях и с полнейшим безразличием к тому, чем занят почтарь; ему нужно было того же, что и опередившему его путешественнику.
– Можно у тебя нанять лошади и экипаж?
– Остались только лошади, – стоически ответил станционный смотритель.
– А что ты сделал со своими экипажами?
– Последний я продал господину, которому сейчас запрягают.
– По закону у вас всегда должен быть наготове хотя бы один экипаж для обслуживания путников.
– Закон! – ответил станционный смотритель. – Что вы называете законом? Наш брат здесь уже давно не признает никаких законов.
И он щелкнул перед офицером пальцами с видом человека, который давно перестал жалеть об исчезновении нравственных устоев в обществе.
Из уст офицера раздалось ругательство, свидетельствовавшее о его большом разочаровании.
Первый путешественник тем временем бросил взгляд на офицера, который оказался красивым молодым человеком двадцати восьми – тридцати лет, с суровым лицом, голубыми глазами, выражавшими одновременно сдержанность и раздражительность; постукивая ногой, офицер бормотал про себя:
– Тысяча чертей, мне, однако, завтра надо быть в Неаполе к пяти вечера, и я бы все отдал, чтобы проделать сейчас шестьдесят лье во весь опор!
– Сударь, – обратился к нему первый с такой учтивостью, благодаря которой люди света могут узнать и различить своих, – я тоже еду в Неаполь.
– Да, но вы, вы едете в экипаже, – с грубоватой непринужденностью ответил офицер.
– Именно в нем я и собираюсь предложить вам место рядом со мной.
– Простите, сударь, – ответил офицер, сменив тон и вежливо поклонившись, – но я не имею чести вас знать.
– Зато я знаю вас; вы носите мундир, капитана третьего гусарского полка генерала Лассаля, одного из самых храбрых полков в армии.
– Но это не может быть основанием, чтобы я, пренебрегая приличиями, принял ваше предложение.
– Я вижу, что вас смущает, сударь, и готов прийти вам на выручку; мы разделим наши расходы пополам.
– Ну что ж, – ответил гусарский офицер, – в конце концов, это единственный экипаж, на который теперь приходится рассчитывать.
– Я никоим образом не стремился задеть ваше самолюбие и всего лишь рассчитываю в вашем лице обрести товарища в дороге; по приезде в Неаполь ни вы, ни я не будем нуждаться в этой колымаге, которую мы продадим, а если не сможем продать, разведем из нее костер. Но если нам удастся ее продать, поскольку я заплатил за нее восемьсот франков, четыреста я заберу себе, все, что останется сверх этой суммы, достанется вам.
– Я приму ваше предложение на условии, что немедленно отсчитаю вам четыреста франков, и таким образом экипаж будет принадлежать нам обоим, и мы действительно разделим поровну его потерю.
– Я вижу, вы приятный человек, сударь, принимаю ваше предложение полностью и нахожу, что именно так должны относиться друг к другу соотечественники.
Офицер направился к станционному смотрителю.
– Я покупаю у этою господина половину экипажа, – заявил он ему, – и вот тебе четыреста франков с моей стороны.
Смотритель оставался недвижим, со скрещенными на груди руками.
– Господин уже заплатил мне, – ответил он, – и ваши деньги полагаются ему, а не мне.
– Можешь ли ты говорить со мной повежливее, плут?
– Я говорю вам так, как говорю, а вы понимайте, как вам заблагорассудится.
Офицер сделал движение рукой, словно хватался за рукоять своей сабли, но вместо этого, не убирая руки с портупеи, обратился к первому проезжему:
– Сударь, – произнес он с подчеркнутой вежливостью, особенно заметной по сравнению с грубым тоном, которым он говорил со станционным смотрителем, – не изволите ли принять четыреста франков, которые я вам должен?
Первый путешественник нагнулся, открыл маленький кожаный кошелек на железной защелке, который он носил на перевязи, перекрещивавшейся с лентой его карабина.
Офицер высыпал в кошелек золотые монеты из своей пригоршни.
– Теперь, сударь, – сказал он, – когда хотите.
– Не угодно ли вам прикрепить к моему сундуку ваш мешочек?
– Спасибо, я помещу его сзади себя: он будет защищать меня от тряски в этой старой развалюхе, и потом я храню там пару пистолетов, которые не прочь иметь под рукой. По коням, почтарь, по коням!
– Господам не нужно сопровождение? – спросил станционный смотритель.
– Вот как, ты еще и принимаешь нас за монахов, возвращающихся в свою обитель?
– Как вам угодно; вы вольны поступать по-своему.
– И в этом разница между нами и тобой, слуга дьявола!
Затем, обратившись к почтарю, офицер закричал:
– Avanti! Avanti! [94]94
«Вперед! Вперед!» – итал.
[Закрыть]
Тот пустил лошадей галопом.
– Через Аппиеву дорогу! Только не через ворота Святого Иоанна Латеранского! – закричал тот из путешественников, который первым появился на почтовой станции.
XCIX
АППИЕВА ДОРОГА
Было около одиннадцати часов утра, когда молодые люди, обогнув слева пирамиду Секстия, в своем открытом экипаже показались на широких плитах Аппиевой дороги, которую не смогли разрушить две тысячи лет непрерывного движения.
Известно, что Аппиева дорога [95]95
Дюма воспроизводит первую главу Исаака Лакедема(Librairie de la France Theatral, 1853) «Аппиева дорога», напечатанную в «Le Constitutione!» 10 и 11 декабря 1852 г. Источником ему послужила работа Шарля Дезобри: «Рим в век Августа, или Путешествие из Галлии в Рим во времена правления Августа и Тиберия».
[Закрыть]являлась для Рима времен Цезаря тем же, чем Шанз-Элизе, Булонский лес и холмы Шомона для Парижа времен Хаусмана.
В золотые времена античности она называлась Большая Аппиева, царица дорог, дорога в Элизий. Она была местом встреч при жизни и после смерти всего, что было роскошного, богатого и изысканного, прежде всего в самом городе.
На нее падали тени самых разнообразных деревьев, но чаще это были величественные кипарисы, в тени которых были укрыты живописные надгробья. Здесь могут встретиться могильники, повторявшие могильники по краям других дорог: Фламиниевой, Латинской. Римляне, у которых вкус к смерти был столь же распространен, как и сегодня у жителей Восточной Англии, а в Риме страсть к самоубийству во времена Тиберия, Калигулы и особенно Нерона превратилась в настоящую эпидемию, в те времена человек очень беспокоился о том месте, где опочиет его тело.
Крайне редко живущий мог переложить на своих потомков заботу о выборе участка для своей могилы. Это было особого рода удовольствием – самому распоряжаться поиском и следить за устройством своей могилы; поэтому на многих надгробиях, которые дошли до наших дней, можно увидеть всего две буквы: V.F. (Vivus fecit) или три: V.S.P. (Vivus cibi posuit), или три другие буквы: V.F.C., что означало: Vivus faciendum curavit [96]96
Соответственно: «Сделал при жизни», «Воздвиг для себя при жизни», «Распорядился о воздвижении при жизни».
[Закрыть].
Как мы убедимся, для римлянина было крайне важно быть погребенным по религиозному обычаю, распространенному во времена Цицерона, когда как раз все верования римлян исчезали и когда один из авгуров, если верить этому поклоннику Тускулума, не мог без смеха смотреть на другого: одинокая душа, оторванная от усыпальницы, была обречена на сотню лет скитаний в Стиксе, прибиваясь то к одному его берегу, то к другому. Поэтому всякий, кто встречал на своем пути тело и не предавал его земле, совершал святотатство и мог искупить его, только принеся в жертву Церере поросенка.
Однако дело было не только в предании тела земле, но, скорее, в предании подобающем; смерть язычника, более приятная, нежели наша, представала перед взором умиравшего в эпоху Августа не тощим скелетом с большим лысым черепом, с пустыми орбитами и мрачной ухмылкой.
Нет, она была всего-навсего милой женщиной, бледной дочерью Сна и Ночи, с длинными распущенными волосами, с белоснежными руками, с ледяными объятиями, кем-то вроде неизвестного друга, который, когда его звали, выступал из темноты и тяжелой, медленной и молчаливой поступью подходил к умирающему, наклонялся над его изголовьем и одним своим смертельным поцелуем закрывал его глаза и губы. И вот тело застывало в молчании, безмолвии и бесчувственности, пока для него не начинал светить огонь костра, и, поглотив его, он отделял душу от плоти, превратившейся в пепел. Душа же превращалась в бога. Затем в новом боге, боге маны, ставшем для нас, живых, невидимым, подобно нашим привидениям, возобновлялись его привычки, вкусы, чувства и желания; возвращая, если так можно выразиться, себе свои чувства, он опять мог любить тех, кого любил, и ненавидеть тех, кого ненавидел.
Именно поэтому в склепе воина можно было найти его щит, меч и копья; в могиле женщины – ее украшения, бриллианты, золотые цепи и жемчужные ожерелья:· наконец, в могиле ребенка – самые дорогие ему игрушки, хлеб, фрукты, а на самом дне алебастровой вазы – несколько капель молока, выцеженного из материнской груди и не успевшего высохнуть.
И если расположение дома, в котором жил римлянин в продолжение своей недолгой жизни, было предметом его внимания и тщательного выбора, можно представить, какое огромное внимание он уделял очертанию, расположению, привлекательности местности, которая должна была более или менее соответствовать его обычаям, вкусам, желаниям – всем качествам своего нового дома, который должен был приютить его навеки. Потому что боги маны, боги домашние, были прикованы к своим могилам и больше всего хотели, чтобы им позволили попутешествовать. Некоторые были любителями сельской жизни, людьми простых нравов и буколического мироощущения. Другие – а таких было совсем немного – требовали, чтобы их помещали в гуще их садов, в их лесах, чтобы они проводили вечность в окружении нимф, фавнов и дриад, убаюканные тихим шелестом от легких дуновений ветерка, успокоенные журчанием многочисленных ручейков среди камней и разнеженные щебетанием птиц, скрывавшихся в листве деревьев.
Те, о ком мы говорим, были из числа философов и мудрецов, но остальные – а таких было великое множество, огромное большинство – нуждались в движении, оживлении и суматохе так же, как и первые – в тишине и спокойствии. Люди, которым была по душе суета, платили золотом за участки на обочинах дорог, по которым потоком двигались путешественники из всех стран, несущие в Европу новости Африки и Азии, – по Фламиниевой, Латинской и особенно по Аппиевой дороге; мало-помалу поток иссяк: но так была Аппиева дорога всеми любима в Риме, что со временем превратилась в одно из его предместий. Она вела в сторону Неаполя, через двойные ряды домов, напоминавших дворцы, и могил, больше похожих на памятники; так уж сложилась судьба божественных манов, которым повезло лежать вдоль Аппиевой дороги, что они не только видели всех проезжих, известных и неизвестных, не только подслушивали, что нового в Азии и Африке, но и вмешивались в разговор устами своих надгробий, на которых были выбиты эпитафии.
И поскольку души людей продолжали жить после их смерти, о чем мы уже говорили, вот снова человека скромного:
Я был, меня больше нет.
Вот вся моя жизнь и вся моя смерть.
Слова человека богатого:
Здесь покоится
СТАБИРИЙ
Он мог занимать должности во всех декуриях Рима, Но не захотел.
Благоговейный, мужественный, верный. Он пришел ни с чем: он оставил тридцать миллионов сестерциев.
И никогда не хотел внимать философам. Будь здоров и будь похожим на него.
Затем, чтобы привлечь еще больше внимания прохожих, Стабирий, человек богатый, выбил над своей эпитафией солнечный диск.
Человек образованный говорил:
Странник!
Что спешишь поскорее закончить дела!
Этот камень зовет повернуть в его сторону взгляд
И прочесть те слова, что на нем:
Здесь покоятся кости поэта
МАРКА ПАКУВИЯ,
Вот и все, что хотел я, чтобы ты знал.
Прощай!
Говорил человек осторожный:
Мое имя, рождение и происхождение,
Кем я был и кто я есть,
Я не раскрою никогда.
Нем навечно, щепотка пепла и костей, и все!
Пришедши ни с чем, возвратился, откуда пришел.
Мой удел и тебя ожидает. Прощай!
Человек, довольный всем:
Пока я жил в этом мире, я многое пережил.
Мой спектакль уже окончен, ваш окончится тоже.
Прощайте! Аплодисменты!
Наконец, неведомая рука, но, несомненно, рука отца, вывела на могиле дочери, бедняжки, покинувшей мир в возрасте семи лет:
Земля! Не дави на нее!
Она никогда не давила на тебя!
К кому обращались все эти умершие, так цепляющиеся за жизнь, языками своих надгробий? Кто они, взывающие со своих надгробий, словно проститутки, стучащие туфлями по мостовой в надежде, что кто-либо из прохожих повернет голову в ее сторону? Что это за такой «весь белый свет», к которому они обращались и в котором по-прежнему вращались их души? А те проходили мимо, веселые, быстрые, беспечные, не слыша голосов и не видя никого.
Это были молодость, красота, грация, богатство, аристократия Рима. Аппиева дорога была Лонгшаном древности; но этот Лонгшан вместо трех дней длился круглый год.
К четырем часам пополудни, когда сильная дневная жара начала отступать, когда солнце, теряя яркость и жар своих лучей, опускалось над Тирренским морем; когда тени сосен, дубов и зеленых пальм протянулись с запада на восток; когда потянулись первые ветры, сошедшие с голубых горных склонов, наклонившихся над Храмом Юпитера Лацийского; когда зацвела индийская магнолия, показав слоновой кости белизну своего цветка, который с чашей, круглой, словно надушенный кубок, готовился втянуть в себя вечернюю росу; когда нелумбии [97]97
Nelumbium speciosum, вид кувшинковых с белым цветком, «священный лотос» древних, «нильская лилия» в упоминании Геродота.
[Закрыть], лотосы Каспия, скрывавшиеся от огненного зноя в чреве озера, всплыли на его поверхности, чтобы вдохнуть во всю глубину своей распустившейся чаши свежесть ночных часов, тогда начали показываться, выходя из Аппиевых ворот, те, кого можно было назвать передовым отрядом красавцев, Троссулов, маленьких троянцев Рима, которых жители римского предместья Аппия, в свою очередь выходившие из домов, чтобы подышать воздухом, готовились наблюдать, присев на табуретах или стульях, принесенных изнутри атрия, опершись на выступы, которые всадники могли использовать, чтобы вскочить на лошадь, или на круглых сидениях, прислоненных к жилищам мертвых с единственной целью – чтобы было удобнее сидеть живым.
Никогда Париж, тянущийся двумя рядами к Елксейским Полям, никогда Флоренция, стремящаяся к Касцине, и Вена, прижимающаяся к Пратеру, никогда Неаполь, громоздящийся вокруг Толеде или Кьяйя, не увидят такого разнообразия артистов и такого стечения зрителей!







