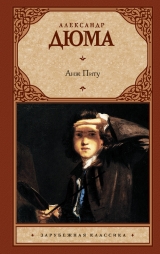
Текст книги "Анж Питу"
Автор книги: Александр Дюма
сообщить о нарушении
Текущая страница: 36 (всего у книги 45 страниц)
– Ну вот.
– Только аббат Фортье может мне их не отдать.
– Ну что ж! Поступишь так, как патриоты с Домом инвалидов, – ты отберешь их силой.
– Один?
– Мы соберем подписи, а в случае нужды придем к тебе на помощь и поднимем Виллер-Котре, если понадобится.
Питу покачал головой.
– Аббат Фортье упрям, – сказал он.
– Ведь ты же был его любимым учеником, разве он сможет тебе отказать!
– Сразу видно, что вы его совсем не знаете, – сказал Питу со вздохом.
– Так ты думаешь, старик не отдаст ружья?
– Он не отдал бы их даже эскадрону королевского немецкого полка. Это упрямец, injustum et tenacem[34]34
Несправедливый и твердый в решениях (лат.).
[Закрыть]. Впрочем, – спохватился Питу, – вы же не знаете латыни.
Но два арамонца не дали себя ослепить ни цитатой, ни этим хвастливым замечанием.
– Право, Клод, мы выбрали славного командира, он всего боится, – сказал Дезире.
Клод покачал головой.
Питу заметил, что может упасть в их глазах. Он вспомнил, что фортуна любит смелых.
– Ну ладно, – сказал он, – там видно будет.
– Так ты берешь на себя ружья?
– Я берусь… попробовать.
Негромкий ропот сменился одобрительным шепотом.
"Ну вот, эти люди уже командуют мной еще до того, как я стал их командиром. Что же будет потом?" – подумал Питу.
– Попробовать недостаточно, – сказал Клод, качая головой.
– Если этого недостаточно, иди и забирай сам, – рассердился Питу. – Я передаю тебе мою власть. Иди подольстись к аббату Фортье и его плетке.
– Стоило возвращаться из Парижа с саблей и каской, – презрительно произнес Манике, – чтобы бояться плетки.
– Сабля и каска ведь не кираса, а даже если бы были кирасой, аббат Фортье со своей плеткой быстро нашел бы какое-нибудь место, которое она не закрывает.
Клод и Дезире, кажется, поняли это замечание.
– Ну же, Питу, сынок! – сказал Клод.
"Сынок" – дружеское обращение, что было в большом ходу в этих местах.
– Что ж, ладно! – согласился Питу. – Но чтоб слушались меня, черт возьми!
– Вот увидишь, какие мы послушные, – сказал Клод, подмигивая Дезире.
– Только, – прибавил Дезире, – не забудь о ружьях.
– Решено, – сказал Питу.
Честолюбие заставляло его храбриться, но в глубине души он был встревожен.
– Обещаешь?
– Клянусь.
Питу простер руку, два его спутника тоже, и на поляне при свете звезд три арамонца, невинные подражатели Вильгельма Телля и его сподвижников, провозгласили начало восстания в департаменте Эна.
Все дело в том, что Питу провидел в конце своих трудов счастливую возможность покрасоваться в мундире командира национальной гвардии и вызвать если не раскаяние, то хотя бы размышления у мадемуазель Катрин.
Избранный на почетный пост таким образом, Питу вернулся домой, мечтая о путях и средствах раздобыть оружие для своих тридцати трех национальных гвардейцев.
XXXVIГЛАВА, ГДЕ СТАЛКИВАЮТСЯ МОНАРХИЧЕСКИЕ УБЕЖДЕНИЯ В ЛИЦЕ АББАТА ФОРТЬЕ И РЕВОЛЮЦИОННЫЕ УБЕЖДЕНИЯ В ЛИЦЕ ПИТУ
В эту ночь Питу был так занят нежданно свалившейся на его голову честью, что даже забыл обойти свои силки.
На следующий день он вооружился каской и саблей и отправился в Виллер-Котре.
На городских часах било шесть утра, когда Питу пришел на площадь перед замком и тихо постучал в маленькую дверь, выходившую в сад аббата Фортье.
Питу постучал достаточно сильно, чтобы успокоить свою совесть, но недостаточно сильно, чтобы его услышали в доме.
Он надеялся получить таким образом четверть часа отсрочки и за это время украсить цветами ораторского искусства речь, приготовленную им для аббата Фортье.
К его большому удивлению, дверь, в которую он так тихо постучал, отворилась, но, когда он увидел, что ему открыл не кто иной, как Себастьен Жильбер, удивление сразу прошло.
Мальчик с рассветом вышел в сад и учил урок, вернее, делал вид, что учит, ибо раскрытая книга то и дело выпадала у него из рук и он уносился мыслями то вперед, то назад – навстречу тому, что он любил в этом мире.
Увидев Питу, Себастьен вскрикнул от радости.
Они обнялись; первым делом мальчик спросил:
– У тебя есть новости из Парижа?
– Нет, а у тебя? – спросил Питу.
– У меня есть, отец написал мне такое ласковое письмо!
– Ах! – воскликнул Питу.
– И в нем, – продолжал мальчик, – есть для тебя приписка.
И, вынув письмо из-за пазухи, он показал его Питу.
P.S. Бийо передает Питу, чтобы он не докучал людям на ферме и не отвлекал их от работы.
– О! – вздохнул Питу. – Вот, право, совершенно бесполезный совет. Я больше не могу ни докучать им, ни отвлекать их.
Потом вздохнул еще глубже и добавил совсем тихо:
– Эти слова надо было адресовать господину Изидору.
Но, быстро придя в себя, протянул письмо Себастьену и спросил:
– Где аббат?
Мальчик прислушался, и хотя лестница, скрипевшая под ногами достойного священнослужителя, находилась с другой стороны дома, он сказал:
– Слышишь, он спускается.
Питу перешел из сада во двор и только тогда услышал тяжелые шаги аббата.
Почтенный наставник шел вниз по лестнице, читая газету.
Его неизменная плетка висела на боку, как шпага.
Уткнувшись носом в газету, ибо он знал на память количество ступенек лестницы и все углы и закоулки старого дома, аббат шел прямо на Анжа Питу, а тот приосанился, чтобы выглядеть как можно внушительнее перед лицом своего политического противника.
Но сначала скажем несколько слов: они показались бы излишними в другом месте, но вполне уместны здесь.
Рассказ этот объяснит, откуда взялись у аббата Фортье тридцать или сорок ружей, которые так хотелось заполучить Питу и его сообщникам Клоду и Дезире.
Аббат Фортье был, как мы уже имели случай упомянуть в другом месте, капелланом замка и со временем, благодаря терпению и настойчивости, свойственной всем лицам духовного звания, сделался единственным распорядителем того, что на театре называют реквизитом.
Помимо священных сосудов, библиотеки и кладовой, он получил на хранение старое охотничье снаряжение герцога Луи Филиппа Орлеанского, отца Филиппа, впоследствии называвшегося Эгалите. Кое-что из этих доспехов восходило ко временам Людовика XIII и Генриха III. Всю эту утварь аббат Фортье с большим вкусом разместил в галерее замка, предоставленной по сему случаю в его распоряжение. И дабы придать своей выставке более живописный вид, он развесил тут же круглые щиты, рогатины, кинжалы, кортики и инкрустированные мушкеты времен Лиги.
Дверь этой галереи надежно охраняли две бронзовые посеребренные пушки, подаренные Людовиком XIV своему брату.
Кроме того, имелось полсотни мушкетонов – трофей, захваченный Жозефом Филиппом во время сражения при Уэсане и подаренный им коммуне; та, не зная, что ей делать с подарком, разместила его в одной из комнат того дома, что был бесплатно предоставлен (как мы уже говорили) аббату Фортье.
Это и было сокровище, которое охранял дракон по имени Фортье и которым мечтал завладеть Ясон по имени Анж Питу.
Маленький замковый арсенал был довольно знаменит в округе и весьма соблазнителен для заговорщиков.
Но дракон-аббат неусыпно стерег яблоки в саду Гесперид и не собирался их отдавать никакому Ясону.
Теперь вернемся к Питу.
Он весьма учтиво поздоровался с аббатом Фортье, сопроводив свое приветствие легким покашливанием, призывающим к вниманию людей рассеянных или занятых.
Аббат Фортье оторвал глаза от газеты.
– Смотри-ка, Питу! – удивился он.
– К вашим услугам, господин аббат. Чем могу быть полезен? – услужливо спросил Анж.
Аббат сложил, вернее, закрыл газету, ибо в ту благословенную эпоху газеты больше походили на небольшие книжки, потом заткнул ее за пояс с левой стороны (справа висела плетка).
– В том-то и беда, – ответил аббат насмешливо, – что ты ничем не можешь быть полезен.
– Помилуйте, господин аббат!
– Да, да, господин лицемер.
– Помилуйте, господин аббат.
– Да, да, господин революционер.
– Ну вот, я еще не начал говорить, а вы уже рассердились на меня. Это плохое начало, господин аббат.
Себастьен, слышавший все то, что последние два дня аббат Фортье говорил о Питу каждому встречному и поперечному, почел за лучшее не присутствовать при ссоре, которая не могла не вспыхнуть между его другом и его учителем, и ушел.
Питу посмотрел вслед Себастьену с некоторой грустью. Это был не очень сильный союзник, но все же ребенок такого же политического вероисповедания, как он.
Поэтому когда дверь за Себастьеном закрылась, Питу вздохнул и продолжал разговор с аббатом:
– Да что вы, господин аббат, какой же я революционер? Разве я повинен в том, что произошла революция?
– Ты жил бок о бок с теми, кто ее делает.
– Господин аббат, – сказал Питу с чрезвычайным достоинством, – каждый волен в своих мыслях.
– Ну да!
– Est penes hominem arbitrium et ratio[35]35
Человек есть существо, наделенное волей и разумом (лат.).
[Закрыть].
– Ax, так ты знаешь латынь, болван?
– Я знаю то, чему вы меня научили, – скромно ответил Питу.
– Да, в исправленном, дополненном и украшенном варваризмами виде.
– Пусть даже с варваризмами! Боже мой, кому же удается избежать варваризмов, господин аббат?
– Шалопай, – сказал аббат, явно уязвленный этой наклонностью Питу к обобщениям, – ты думаешь, я тоже допускаю варваризмы?
– Вы допускали бы варваризмы в глазах человека, который является более сильным латинистом, чем вы.
– Полюбуйтесь-ка на этого грамотея! – сказал аббат, бледный от гнева и тем не менее пораженный рассуждением, не лишенным справедливости.
Потом грустно добавил:
– Вот в двух словах система этих негодяев: они разрушают и портят. Ради чего? Они сами не знают. Ради неизвестно чего. Ну-ка, господин лентяй, скажите по совести: знаете вы более сильного латиниста, чем я?
– Нет, но такой может найтись, хотя я его и не знаю, я ведь знаю не всех.
– Да уж я думаю, черт возьми!
Питу перекрестился.
– Что ты делаешь, безбожник?
– Вы бранитесь, господин аббат, вот я и крещусь.
– Да неужели! Послушайте, господин шалопай, вы зачем явились ко мне? Чтобы меня тиранить, публично осмеять?
– Тиранить вас! – повторил Питу.
– Вот видишь, ты не понимаешь! – торжествовал аббат.
– Нет, господин аббат, я понимаю. Благодаря вам, я знаю корни: "тиранить" происходит от латинского tyrannus – "повелитель, властитель". Это слово пришло в латынь из греческого: tyrannos по-гречески "господин". Такие сведения приводит Лансело в своем "Саду греческих корней".
– Ах ты плут, – возмутился аббат, все больше поражаясь, – похоже, ты еще что-то помнишь, даже то, чего ты не знал.
– Хм, – произнес Питу с притворной скромностью.
– Почему же в те времена, когда ты учился у меня, ты никогда так не отвечал?
– Потому что в те времена, когда я был у вас, господин аббат, ваше присутствие смущало меня; потому что своим деспотизмом вы не давали проявиться моему уму и моей памяти, а теперь свобода выпустила мои знания на волю. Да, свобода, слышите? – настаивал Питу, поднимая голову, – свобода!
– Ах, шельма!
– Господин аббат, – произнес Питу внушительно и даже не без угрозы, – господин аббат, не браните меня: как говорит один из ораторов, contumelia non argumentum – "брань не довод".
– Я смотрю, шалопай, ты считаешь, что я не пойму твою латынь и потому переводишь на французский! – в ярости закричал аббат.
– Это не моя латынь, господин аббат, это латынь Цицерона, то есть человека, который, сравнив вашу речь с его собственной, несомненно нашел бы у вас даже больше варваризмов, чем вы находите у меня.
– Надеюсь, ты не ждешь, – сказал аббат Фортье, поколебленный в своих основополагающих принципах, – надеюсь, ты не ждешь, что я стану спорить с тобой.
– Отчего бы и нет, если в спорах рождается истина: abstrusum versis silicum[36]36
Из кремня извлекает [огонь] потаенный (лат.). – Вергилий, «Георгики», I, 135.
[Закрыть].
– Однако шалопай прошел школу у революционеров! – закричал аббат Фортье.
– Вовсе нет, вы ведь говорите, что революционеры – болваны и невежды.
– Да, именно так я и говорю.
– Но тогда вы рассуждаете неверно, господин аббат, и ваш силлогизм построен неправильно.
– Построен неправильно! Я неправильно построил силлогизм?
– Конечно, господин аббат. Питу рассуждает и говорит верно; Питу был в школе революционеров, значит, революционеры рассуждают и говорят верно. Это неизбежно вытекает из ваших рассуждений.
– Скотина! Грубиян! Дурень!
– Не обходитесь со мной так грубо, господин аббат:
objurgatio imbellem animum arguit – "гнев выдает слабость".
Аббат пожал плечами.
– Что вы можете ответить? – сказал Питу.
– Ты говоришь, что революционеры верно говорят и верно рассуждают. Но назови мне хоть одного из этих несчастных, одного-единственного, который умеет читать и писать?
– Я, – с уверенностью сказал Питу.
– Читать я не говорю, да и то… но писать?
– Писать? – переспросил Питу.
– Писать без словаря.
– Умею.
– Хочешь, побьемся об заклад, что ты не напишешь под мою диктовку страницу, не сделав четырех ошибок?
– Хотите, побьемся об заклад, что вы не напишете под мою диктовку пол страницы, не сделав двух ошибок?
– Только этого недоставало!
– Ну что ж! Давайте. Я поищу для вас причастия и возвратные глаголы. Я приправлю это несколькими que, которые я знаю, и выиграю пари.
– Будь у меня побольше времени… – сказал аббат.
– Вы проиграли бы.
– Питу, Питу, вспомни пословицу: Pitoueus Angelus asinus est[37]37
Анж Питу – осел (лат.).
[Закрыть].
– Ну, пословиц каких только нет. Знаете, какую пословицу нашептал мне тростник Вюалю?
– Нет, но мне любопытно услышать, метр Мидас.
– Fortierus abbas forte fortis.
– Сударь! – воскликнул аббат.
– Вольный перевод: "Аббат Фортье не всякий день силен".
– К счастью, – сказал аббат, – мало обвинять, надо еще доказать.
– Увы, господин аббат, это так легко. Чему вы учите своих учеников?
– Но…
– Следите за моими рассуждениями. Чему вы учите своих учеников?
– Тому, что я знаю.
– Хорошо! Запомните, вы сказали: "Тому, что я знаю".
– Да, тому, что я знаю, – повторил аббат уже не так уверенно, ибо чувствовал, что за время своего отсутствия этот странный борец изучил неведомые приемы. – Да, я так сказал, и что?
– Ну что ж! Раз вы учите своих учеников тому, что вы знаете, посмотрим, что вы знаете?
– Латынь, французский, греческий, историю, географию, арифметику, алгебру, астрономию, ботанику, нумизматику.
– Что-нибудь еще? – спросил Питу.
– Но…
– Подумайте, подумайте.
– Рисование.
– Еще!
– Архитектуру.
– Еще!
– Механику.
– Это раздел математики, ну да ладно; еще!
– Слушай-ка, к чему ты клонишь?
– Да вот к чему: вот вы подробно перечислили, что вы знаете, а теперь посчитайте, чего вы не знаете.
Аббат передернулся.
– Ах, я вижу, мне придется вам помочь, – сказал Питу. – Вы не знаете ни немецкого, ни древнееврейского, ни арабского, ни санскрита, – четырех основных языков. Я уж не говорю об остальных, которых не счесть. Вы не знаете естественной истории, химии, физики.
– Господин Питу…
– Не прерывайте меня; итак, вы не знаете физики, планиметрии; не знаете медицины, не знаете акустики, навигации; не знаете всего, что связано с гимнастическими науками.
– Что ты сказал?
– Я сказал "гимнастическими", от греческого gymnaza ехегсае, которое происходит от gymnos – "обнаженный", потому что атлеты тренировались нагишом.
– Да ведь это я всему тебя научил! – вскричал аббат, едва ли не радуясь победе своего ученика.
– Верно.
– Спасибо, что хоть в этом ты со мной соглашаешься.
– С признательностью, господин аббат. Так мы говорили о том, что вы не знаете…
– Довольно! Конечно, я не знаю больше, чем знаю.
– Значит, вы согласны, что многие знают больше вас?
– Возможно.
– Это несомненно, и чем больше человек знает, тем больше он видит, что ничего не знает. Эти слова принадлежат Цицерону.
– И какой же отсюда вывод?
– Сейчас скажу.
– Посмотрим, какой ты сделаешь вывод, надеюсь, правильный.
– Мой вывод таков: ввиду вашего относительного невежества вы должны бы иметь больше снисхождения к относительной учености других людей. Это является двойной добродетелью, virtus duplex, которая, как уверяют, была свойственна Фенелону; он был не менее учен, чем вы, и тем не менее отличался христианским милосердием к человечеству.
Аббат зарычал от ярости.
– Змея! – возопил он. – Змея подколодная!
– "Ты бранишься и не отвечаешь мне!" – так возражал один из греческих мудрецов. Я мог бы сказать вам это по-гречески, но я вам уже говорил почти то же самое по-латыни.
– Вот еще одно следствие революционных учений, – сказал аббат.
– Какое?
– Они внушили тебе, что ты был мне ровня.
– Коли и так, это не дает вам права делать в этой фразе грамматическую ошибку.
– Как это?
– Я говорю, что вы только что сделали грубую грамматическую ошибку.
– Вот это мило! И какую же?
– Вот какую. Вы сказали: "Революционные учения внушили тебе, что ты был мне ровня".
– И что?
– А вот что: "был" в прошедшем времени.
– Да, черт возьми.
– А нужно настоящее.
– А! – сказал аббат краснея.
– Переведите-ка эту фразу на латынь, и вы увидите, какой громадный солецизм даст вам глагол, поставленный в прошедшем времени.
– Питу, Питу! – воскликнул аббат, которому в такой эрудиции почудилось нечто сверхъестественное. – Питу, какой демон нашептывает тебе все эти нападки на старого человека и на Церковь?
– Но, господин аббат, – возразил Питу, несколько растроганный оттенком неподдельного отчаяния, прозвучавшего в этих словах учителя. – Мне внушает их не демон, и я на вас вовсе не нападаю. Просто вы продолжаете считать меня за дурака и забываете, что все люди равны.
Аббат снова разозлился.
– Чего я никогда не потерплю, – сказал он, – так это чтобы в моем присутствии произносили такие богохульства. Ты, ты – ровня человеку, которого Бог и труд учили уму-разуму целых шестьдесят лет! Никогда, никогда!
– Проклятье! Спросите у господина де Лафайета, который провозгласил права человека.
– У этого дурного подданного своего короля, у человека, сеющего семя раздора, у предателя!
Питу опешил:
– Господин де Лафайет – дурной подданный короля, господин де Лафайет – семя раздоров, господин де Лафайет – предатель?! Нет, это вы богохульствуете, господин аббат! Вы что же, три месяца жили под стеклянным колпаком? Вы что же, не знаете, что этот дурной подданный – единственный верный слуга короля? Что это семя раздора – залог общественного спокойствия? Что этот предатель – достойнейший из французов?
– Боже мой, – произнес аббат, – мог ли я когда-нибудь думать, что королевская власть падет так низко и такой оболтус, – аббат показал на Питу, – будет ссылаться на Лафайета, как в прежние времена люди ссылались на Аристида или Фокиона!
– Ваше счастье, что вас не слышит народ, господин аббат, – неосторожно заметил Питу.
– А! – победно вскричал аббат. – Вот оно, твое истинное лицо! Ты угрожаешь! Народ! Какой народ? Тот самый народ, который подло перерезал королевских офицеров, тот самый народ, который рылся во внутренностях своих жертв! Да, народ господина де Лафайета, народ господина Байи, народ господина Питу! Ну, что же ты медлишь? Беги скорее, донеси на меня революционерам Виллер-Котре! Что же ты не тащишь меня в Плё? Что же не засучиваешь рукава, чтобы повесить меня на фонаре? Давай, Питу, macte ammo[38]38
Хвала тебе (лат.).
[Закрыть], Питу! Sursum, sursum[39]39
Выше, выше (лат.).
[Закрыть], Питу! Давай, давай, где веревка? Где виселица! Вот палач: Macte animo, generose Pitoue![40]40
Хвала тебе, благородный Питу! (лат.)
[Закрыть]
– Sic itur ad astra[41]41
Так восходят к звездам (лат.).
[Закрыть], – продолжил Питу сквозь зубы просто из желания закончить стих и не замечая, что произнес каламбур достойный каннибала.
Но, увидев, как разъярился аббат, Питу понял, что сказал что-то не то.
– Ах, вот как! – завопил аббат. – Вот, значит, как я взойду к звездам! Ах, так ты прочишь мне виселицу!
– Но я ничего подобного не говорил! – вскричал Питу, начиная ужасаться тому, какой оборот принимает их спор.
– Ты сулишь мне небо несчастного Фуллона, злополучного Бертье!
– Да нет же, господин аббат!
– Ты, как я погляжу, уже готов накинуть мне петлю на шею, живодер, camifex[42]42
Палач (лат.).
[Закрыть]; ведь это ты на ратушной площади взбирался на фонарь и своими отвратительными паучьими лапами тянул к себе жертвы!
Питу зарычал от гнева и негодования.
– Да, это ты, я узнаю тебя, – продолжал аббат в пророческом вдохновении, делавшем его похожим на Иодая, – узнаю тебя! Каталина, это ты!
– Да что же это! – взревел Питу. – Да знаете ли вы, что вы говорите ужасные вещи, господин аббат! Да знаете ли вы, что вы меня оскорбляете в конце концов?
– Я тебя оскорбляю!
– Да знаете ли вы, что, если так пойдет и дальше, я буду жаловаться в Национальное собрание?
Аббат рассмеялся с мрачной иронией:
– Ну-ну, иди жалуйся.
– И знаете ли вы, что есть наказание против недостойных граждан, оскорбляющих честных граждан?
– Фонарь!
– Вы недостойный гражданин.
– Веревка! Веревка!.. Понял! Понял! – закричал вдруг в приступе благородного негодования аббат, пораженный неожиданной догадкой. – Да, каска, каска, это он!
– Что такое? – изумился Питу. – При чем тут моя каска?
– Человек, который вырвал дымящееся сердце Бертье, людоед, который положил его, окровавленное, на стол перед Избирателями, был в каске, человек в каске – это ты, Питу; человек в каске – это ты, чудовище; вон, вон, вон!
И при каждом "вон!", произнесенном трагическим тоном, аббат делал шаг вперед, наступая на Питу, а Питу отступал на шаг назад.
В ответ на это обвинение, как читатель знает, совершенно несправедливое, бедный малый отбросил подальше каску, которой он так гордился, и она упала на мостовую с глухим стуком, ибо под медь был подложен картон.
– Вот видишь, несчастный, – закричал аббат, – ты сам признался!
И он встал в позу Лекена в роли Оросмана, когда тот, найдя письмо, обвиняет Заиру.
– Погодите, погодите, – сказал Питу, выведенный из себя подобным обвинением, – вы преувеличиваете, господин аббат.
– Я преувеличиваю; значит, ты вешал немножко, значит, ты потрошил немножко, бедное дитя!
– Господин аббат, вы же знаете, что это не я, вы же знаете, что это Питт.
– Какой Питт?
– Питт Младший, сын Питта Старшего, лорда Чатама, который давал деньги со словами: "Пусть не жалеют денег и не дают мне никакого отчета". Если бы вы понимали по-английски, я сказал бы вам это по-английски, но вы ведь не понимаете.
– Ты хочешь сказать, что ты знаешь по-английски?
– Меня научил господин Жильбер.
– За три недели? Жалкий обманщик!
Питу увидел, что пошел по неправильному пути.
– Послушайте, господин аббат, – сказал он, – я больше ни о чем с вами не спорю, у вас свои взгляды, у меня – свои.
– Да неужели?
– Каждый волен иметь свои взгляды.
– Ты признаешь это. Господин Питу позволяет мне иметь собственные взгляды; благодарю вас, господин Питу.
– Ну вот, вы опять сердитесь. Если так будет продолжаться, мы никогда не дойдем до того, что меня к вам привело.
– Несчастный! Так тебя что-то привело? Ты, может быть, избран депутатом? – насмешливо расхохотался аббат.
– Господин аббат, – сказал Питу, отброшенный на позиции, которые он хотел занять с самого начала спора. – Господин аббат, вы знаете, как я всегда уважал ваш характер.
– Ну-ну, поговорим теперь об этом.
– И как я неизменно восхищался вашей ученостью, – прибавил Питу.
– Змея подколодная! – сказал аббат.
– Я! – произнес Питу. – Да что вы!
– Ну, о чем ты собрался меня просить? Чтобы я взял тебя обратно? Нет, нет, я не стану портить моих учеников; нет, в тебя проник вредоносный яд, его невозможно вытравить. Ты погубишь мои молодые побеги: infecit pabula tabo[43]43
Заразой луга напитала (лат.). – Вергилий, «Георгию», III, 481.
[Закрыть].
– Но, господин аббат…
– И не проси у меня пищи, если хочешь поесть, ибо я полагаю, что свирепые вешатели из Парижа испытывают голод, как все обычные люди. Они испытывают голод! О боги! В конце концов, если ты требуешь, чтобы я бросил тебе кусок свежего мяса, ты его получишь. Но за порогом, в корзинке – так в Риме хозяева подавали своим псам.
– Господин аббат, – сказал Питу, расправив плечи, – я не прошу у вас пропитания: слава Богу, я могу прокормиться сам! И я не хочу никому быть в тягость.
– А! – удивился аббат.
– Я живу как все, не побираясь, благодаря изобретательности, которой одарила меня природа. Я живу своим трудом и, более того, настолько далек от мысли быть в тягость моим согражданам, что многие из них выбрали меня командиром.
– Да? – произнес аббат с таким изумлением и таким ужасом, словно наступил на змею.
– Да, да, выбрали меня командиром, – любезно повторил Питу.
– Командиром чего?
– Командиром войска свободных людей, – отвечал Питу.
– О Боже мой! – вскричал аббат. – Несчастный сошел с ума.
– Командиром национальной гвардии Арамона, – закончил Питу с притворной скромностью.
Аббат наклонился к Питу, чтобы лучше разглядеть в его чертах подтверждение своих слов.
– В Арамоне есть национальная гвардия! – взревел он.
– Да, господин аббат.
– И ты ее командир?
– Да, господин аббат.
– Ты, Питу?
– Я, Питу.
Аббат воздел руки, как Финей.
– Какая мерзость! – пробормотал он – Как не прийти в отчаяние!
– Вам, должно быть, известно, господин аббат, – ласково сказал Питу, – что национальная гвардия призвана охранять жизнь, свободу и собственность граждан.
– О-о! – в отчаянии стонал старик.
– И в деревне она должна быть особенно хорошо вооружена, дабы противостоять бандам разбойников, – продолжал Питу.
– Бандам, главарем которых ты являешься! – вскричал аббат. – Бандам, грабителей, бандам поджигателей, бандам убийц!
– О, не путайте, дорогой господин аббат, – надеюсь, когда вы увидите моих солдат, вы поймете, что никогда еще более честные граждане…
– Замолчи! Замолчи!
– Не сомневайтесь, господин аббат: мы ваши подлинные защитники, доказательство чему – то, что я пришел прямо к вам.
– Зачем? – спросил аббат.
– Да вот… – сказал Питу, почесывая ухо и глядя, куда упала его каска, чтобы понять, не слишком ли далеко он отступит за линию обороны, если пойдет и подберет эту существенную часть своего военного обмундирования.
Каска валялась всего в нескольких шагах от парадной двери, выходящей на улицу Суасон.
– Я спросил тебя, зачем? – повторил аббат.
– Так вот, господин аббат, – сказал Питу, пятясь на два шага по направлению к каске, – позвольте мне изложить причину моего прихода в надежде на вашу мудрость.
– Вступление закончено, – пробормотал аббат, – теперь переходи к повествованию.
Питу сделал еще два шага по направлению к своей каске.
Но, всякий раз как Питу делал два шага назад, к своей каске, аббат, чтобы сохранить разделявшее их расстояние, делал два шага вперед, к Питу.
– Так вот, – сказал Питу, начиная храбриться по мере приближения к орудию обороны, – солдатам необходимы ружья, а у нас их нет.
– Ах, у вас нет ружей! – вскричал аббат, притопывая от радости. – У них нет ружей! Ах, вот, право, превосходные солдаты!
– Но, господин аббат, – сказал Питу, делая еще два шага к каске, – когда нет ружей, надо их искать.
– Да, – сказал аббат, – и вы их ищете?
Питу поднял каску.
– Да, господин аббат, – ответил он.
– И где же?
– У вас, – сказал Питу, нахлобучивая каску.
– Ружья! У меня! – удивился аббат.
– Да; у вас в них нет недостатка.
– А, мой музей! – возопил аббат. – Ты пришел, чтобы ограбить мой музей! Кирасы наших древних богатырей на груди этих негодяев! Господин Питу, я вам уже сказал, вы сошли с ума. Шпаги испанцев из Альмансы, пики швейцарцев из Мариньяно нужны, чтобы вооружить господина Питу и иже с ним. Ха-ха-ха!
И аббат рассмеялся презрительным и грозным смехом, от которого по жилам Питу пробежала дрожь.
– Нет, господин аббат, – сказал он, – нам нужны не пики швейцарцев из Мариньяно и не шпаги испанцев из Альмансы; нет, это оружие нам не подходит.
– Хорошо, что ты хоть это понимаешь.
– Нет, господин аббат, нам нужно не это оружие.
– Тогда какое же?
– Добрые флотские ружья, господин аббат, добрые флотские ружья, что я часто чистил в наказание в те времена, когда имел честь учиться под вашим началом: dum me Galatea tenebat[44]44
Пока Галатея мною владела (лат.). – Вергилий, «Буколики», I, 31.
[Закрыть], – добавил Питу с любезной улыбкой.
– Вот, чего захотел! – сказал аббат, чувствуя, как от улыбки Питу его редкие волосы встают дыбом. – Вот, чего! Мои флотские ружья!
– То есть единственное ваше оружие, которое не имеет никакой исторической ценности и может сослужить хорошую службу.
– Ах, вот в чем дело, – сказал аббат, поднося руку к рукояти своей плетки, словно военачальник к эфесу шпаги. – Ах, вот в чем состоят твои предательские планы!
Питу перешел от требования к просьбе:
– Господин аббат, отдайте нам эти тридцать ружей.
– Назад! – произнес аббат, наступая на Питу.
– И вы заслужите славу, – сказал Питу, отступая на шаг, – человека, который помог освободить страну от угнетателей.
– Чтобы я дал в руки врагов оружие против себя и своих единомышленников! – вскричал аббат. – Чтобы я дал врагам оружие, а они из него будут в меня стрелять!
И, вынув из-за пояса плетку, он замахнулся на Питу:
– Никогда! Никогда!
– Господин аббат, ваше имя будет упомянуто в газете господина Прюдома.
– Мое имя в газете господина Прюдома! – взревел аббат.
– С похвалой вашей гражданской доблести.
– Лучше позорный столб и галеры!
– Так вы отказываетесь отдать ружья? – спросил Питу без большой уверенности в голосе.
– Отказываюсь, убирайся вон!
И аббат указал Питу на дверь.
– Но это произведет дурное впечатление, – сказал Питу, – вас обвинят в недостатке гражданских чувств, в предательстве. Господин аббат, умоляю вас, не подвергайте себя этому.
– Сделай из меня мученика, Нерон! Это все, о чем я прошу! – воскликнул аббат; глаза его горели, и он был больше похож на палача, чем на жертву.
Во всяком случае, такое впечатление он произвел на Питу, и Питу снова попятился.
– Господин аббат, – сказал он, делая шаг назад, – я мирный депутат, борец за восстановление порядка, я пришел…
– Ты пришел, чтобы разграбить мое оружие, как твои сообщники грабили Дом инвалидов.
– За что удостоились многочисленных похвал, – сказал Питу.
– А ты здесь удостоишься многочисленных ударов плеткой, – посулил аббат.
– О господин Фортье, – сказал Питу, хорошо знакомый с плеткой аббата, – вы не станете так нарушать права человека.
– А вот ты сейчас увидишь, мерзавец! Подожди у меня!
– Господин аббат, меня защищает мое звание посланника.
– Вот я тебя!
– Господин аббат! Господин аббат!! Господин аббат!!!
Питу, пятясь, дошел до двери, выходящей на улицу; теперь надо было принять бой или бежать. Но, для того чтобы бежать, необходимо было открыть дверь, а для того чтобы открыть дверь, надо было обернуться.
При этом, оборачиваясь, Питу подставлял ударам противника незащищенную часть своей особы, которую как следует не закрывает даже кираса.
– Ах, так тебе понадобились мои ружья! – сказал аббат. – Так ты пришел за моими ружьями… Так ты мне говоришь: ружья или смерть!..
– Господин аббат, я ничего такого не говорил, – оправдывался Питу.
– Ну что ж? Ты знаешь, где они, мои ружья, можешь задушить меня, чтобы ими завладеть. Только через мой труп.
– Я на это не способен, господин аббат.
И Питу, положив руку на щеколду и глядя на поднятую руку аббата, считал уже не число ружей, хранящихся в арсенале аббата, но число ударов, готовых слететь с хвоста его плетки.
– Так, значит, господин аббат, вы не хотите отдать мне ружья?








