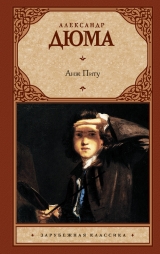
Текст книги "Анж Питу"
Автор книги: Александр Дюма
сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 45 страниц)
ВОЗВРАЩЕНИЕ
Настала ночь, а с ней череда страхов и мрачных видений. Вдруг в глубине дворца раздались крики.
Королева вздрогнула и, вскочив, распахнула окно.
Почти в то же мгновение на пороге показались ликующие слуги с криками:
– Гонец, ваше величество! Гонец!
Три минуты спустя в переднюю вбежал офицер в гусарском мундире.
Это был лейтенант, посланный г-ном де Шарни. Он примчался во весь опор из Севра.
– А король? – спросила королева.
– Его величество прибудет через четверть часа, – доложил офицер, с трудом переводя дух.
– Целый и невредимый? – спросила королева.
– Целый, невредимый и в добром расположении духа, ваше величество.
– Вы его видели, не правда ли?
– Нет, но так выразился господин де Шарни, отправляя меня к вашему величеству.
Королева снова вздрогнула, услышав это имя, случайно прозвучавшее рядом с именем короля.
– Благодарю вас, сударь, вы свободны, – сказала она молодому дворянину.
Офицер поклонился и вышел.
Она взяла детей за руки и вывела их к парадному входу, где уже собрались придворные и слуги.
Острый взгляд королевы отметил стоявшую на нижней ступеньке бледную молодую женщину; облокотившись на каменную балюстраду, она жадно всматривалась во мрак, не обращая ни малейшего внимания на королеву.
То была Андре. Прежде она всегда стремилась быть поближе к государыне, но сейчас не заметила либо не соизволила ее заметить.
Обиделась ли она на Марию Антуанетту за неистовую вспышку гнева, которую та обрушила на нее днем, или же в приливе нежности и тревоги ожидала возвращения Шарни и не думала более ни о чем?
Двойной удар кинжала разбередил незажившую рану королевы.
Она рассеянно слушала поздравления и радостные возгласы других своих подруг и придворных.
На время она забыла даже о сильной боли, мучившей ее весь вечер. Тревога за короля, которому угрожало столько опасностей, заглушала боль.
Сильная духом, королева отринула все чувства, кроме священной привязанности сердца. Она сложила к стопам Бога свою ревность, принесла в жертву священной супружеской клятве все: и вспышки гнева, и тайные услады.
Без сомнения, сам Господь послал ей для отдохновения и поддержки эту спасительную способность ставить любовь к своему царственному супругу превыше всего!
В это мгновение – во всяком случае, так ей казалось – королевская гордость возвышала Марию Антуанетту над всеми земными страстями, эгоизм побуждал ее любить короля. Итак, она отринула и мелкую женскую мстительность, и легкомысленное кокетство любовницы.
В конце аллеи показались факелы эскорта. Лошади бежали быстро, и огни с каждой минутой разгорались все ярче. Уже было слышно конское ржание и храп. Земля задрожала в ночной тиши под грузной поступью эскадронов.
Ворота распахнулись, часовые бросились навстречу королю с громкими радостными криками. Карета с грохотом въехала на парадный двор.
Ослепленная, восхищенная, завороженная, упоенная всем происходящим, всем, что она чувствовала раньше и вновь почувствовала теперь, Мария Антуанетта сбежала по ступенькам навстречу королю.
Людовик XVI вышел из кареты и быстро поднимался по лестнице в окружении офицеров, еще не успокоившись после рискованного предприятия, закончившегося столь триумфально; между тем королевские гвардейцы вместе с конюхами и кучерами дружно срывали с карет и упряжи кокарды, которыми их украсили восторженные парижане.
Супруги встретились на площадке мраморной лестницы. Мария Антуанетта с радостным криком сжала мужа в объятиях. Она всхлипывала, словно уже не надеялась его увидеть.
Всецело отдавшись сердечному порыву, она не видела, как в темноте Шарни и Андре молча пожали друг другу руки.
Это было простое рукопожатие, но Андре первой спустилась вниз и была первой, кого увидел и коснулся Шарни.
Королева подвела детей к королю, чтобы он поцеловал их, и дофин, увидев на шляпе отца новую кокарду, на которую факелы бросали кровавый отсвет, с детским удивлением закричал:
– Смотрите, отец! Что это с вашей кокардой, на ней кровь?
Это была красная полоса на национальной кокарде.
Королева посмотрела и тоже вскрикнула.
Король наклонился поцеловать дочь; на самом деле он хотел скрыть стыд.
Мария Антуанетта с глубоким отвращением сорвала эту кокарду, не думая о том, что ранит в самое сердце народ, который может однажды отомстить ей за дворянскую спесь.
– Бросьте это, сударь, бросьте, – сказала она.
И она швырнула кокарду на ступени, и все, кто провожал короля в его покои, прошли по ней.
Такая странная перемена в образе мыслей короля заглушила в Марии Антуанетте весь супружеский восторг. Она незаметно поискала глазами г-на де Шарни, державшегося в стороне, как положено солдату.
– Благодарю вас, сударь, – сказала она ему, когда он после секундного колебания поднял на нее глаза и их взгляды встретились, – благодарю вас, вы достойно сдержали слово.
– С кем это вы говорите? – спросил король.
– С господином де Шарни, – храбро ответила она.
– Да, бедный Шарни, ему было очень нелегко пробраться ко мне. А кстати… что-то я не вижу Жильбера? – прибавил он.
Королева, усвоившая вечерний урок, поспешила переменить разговор:
– Государь, пожалуйте к столу. Господин де Шарни, – обратилась она к графу, – разыщите госпожу графиню де Шарни и приходите вдвоем. Поужинаем в тесном кругу.
Она сказала это по-королевски. Но она невольно вздохнула, увидев, как грустный Шарни тотчас повеселел.
XIIФУЛЛОН
Бийо купался в блаженстве.
Он взял Бастилию; он вернул свободу Жильберу; он был замечен Лафайетом, обращавшимся к нему по имени. Наконец, он видел похороны Фуллона.
Немногие в ту эпоху снискали такую ненависть, как Фуллон; только один человек и мог с ним соперничать – его зять г-н Бертье де Савиньи.
Обоим повезло на следующий день после взятия Бастилии.
Фуллон умер, а Бертье сбежал.
Всеобщую неприязнь к Фуллону довершило то, что после отставки Неккера он согласился занять место "добродетельного женевца", как называли Неккера, и три дня пробыл министром финансов.
Поэтому на его похоронах так весело пели и плясали.
У кого-то даже появилась мысль вынуть труп из гроба и повесить; но Бийо, взобравшись на каменную тумбу, произнес речь об уважении к покойникам, и катафалк продолжал свой путь.
Что касается Питу, он перешел в разряд героев.
Питу стал другом г-на Эли и г-на Юлена, которые удостаивали его чести исполнять их поручения.
Кроме того, он был доверенным лицом Бийо, того Бийо, который, как мы уже сказали, был отмечен Лафайетом и которому за его могучие плечи и геркулесовы кулаки Лафайет доверял иногда охрану своей безопасности.
После путешествия короля в Париж Жильбер, благодаря Неккеру познакомившийся с вождями Национального собрания и ратуши, неустанно пестовал юную революцию.
Теперь ему было решительно не до Бийо и Питу, и они, оставшись без присмотра, со всем пылом устремились на собрания, где третье сословие обсуждало вопросы высокой политики.
Наконец однажды, после того как Бийо битых три часа излагал выборщикам свои мнения о наилучших способах снабжения Парижа продовольствием и, устав от собственных речей, но в глубине души радуясь, что говорил как настоящий трибун, с наслаждением отдыхал под монотонный гул чужих выступлений, стараясь не слушать их, прибежал Питу, ужом проскользнул в зал заседаний ратуши и взволнованным голосом, вовсе не похожим на обычный его рассудительный тон, воскликнул:
– О, господин Бийо! Дорогой господин Бийо!
– Ну что там еще?
– Важная новость!
– Хорошая новость?
– Потрясающая новость.
– Какая же?
– Вы ведь знаете, я пошел в клуб Добродетельных, что у заставы Фонтенбло.
– И что же?
– Так вот! Там говорили совершенно невероятные вещи.
– Какие?
– Оказывается, этот негодяй Фуллон только притворился мертвецом и сделал вид, что его похоронили.
– Как притворился мертвецом? Как сделал вид, что его похоронили? Он, черт возьми, в самом деле мертв, я сам видел, как его хоронили.
– А вот и нет, господин Бийо, он живехонек.
– Живехонек?
– Как мы с вами.
– Ты сошел с ума!
– Дорогой господин Бийо, я не сошел с ума. Изменник Фуллон, враг народа, пиявка, сосущая кровь Франции, грабитель, не умер.
– Но я же говорю тебе, что он умер от апоплексического удара, я повторяю тебе, что был на его похоронах и даже не дал вытащить его из гроба и повесить.
– А я его только что видел живым!
– Ты?
– Вот как вас вижу, господин Бийо. Похоже, умер кто-то из его слуг, и негодяй велел похоронить его как дворянина. О, все открылось; он это сделал, боясь мести народа.
– Расскажи все по порядку, Питу.
– Давайте-ка выйдем в вестибюль, господин Бийо, там нам будет свободнее.
Они вышли из зала и дошли до вестибюля.
– Прежде всего, – сказал Питу, – надо узнать, здесь ли господин Байи?
– Будь спокоен, он здесь.
– Хорошо. Итак, я был в клубе Добродетельных, где слушал речь одного патриота. И знаете, он говорил по-французски с ошибками! Сразу видно, что он не был учеником аббата Фортье.
– Продолжай, – сказал Бийо, – ты прекрасно знаешь, что можно быть патриотом и не уметь ни читать, ни писать.
– Это верно, – согласился Питу. – И тут вдруг вбежал запыхавшийся человек с криком: "Победа, победа! Фуллон не умер, Фуллон жив: я его обнаружил, я его нашел!". Все отнеслись к этому, как вы, папаша Бийо, никто не хотел верить. Одни говорили: "Как, Фуллон?" – "Нуда". Другие говорили: "Полноте!" – "Вот вам и полноте". Третьи говорили: "Ну, раз уж ты такой прыткий, нашел бы заодно и его зятя Бертье".
– Бертье! – вскричал Бийо.
– Да, Бертье де Савиньи, вы ведь его знаете, это наш компьенский интендант, друг господина Изидора де Шарни.
– Конечно, тот, который всегда так груб со всеми и так любезен с Катрин.
– Он самый, – ответил Питу, – ужасный обирала, еще одна пиявка, сосущая кровь французского народа, изверг рода человеческого, "позор цивилизованного мира", как говорит добродетельный Лустало.
– Дальше, дальше! – требовал Бийо.
– Ваша правда, – сказал Питу, – ad eventum festina, что означает, дорогой господин Бийо, "спеши к конечной цели". Так вот, я продолжаю: этот человек вбегает в клуб Добродетельных и кричит: "Я нашел Фуллона, я его нашел!". Поднялся страшный шум.
– Он ошибся! – прервал крепколобый Бийо.
– Он не ошибся, я сам видел Фуллона.
– Ты сам видел, своими глазами?
– Своими глазами. Имейте терпение.
– Я терплю, но во мне все так и кипит.
– Да вы слушайте, я и сам взмок от нетерпения… Я же вам толкую, что он только притворился мертвым, а вместо него похоронили одного из слуг. По счастью, вмешалось Провидение.
– Так уж и Провидение! – презрительно произнес вольтерьянец Бийо.
– Я хотел сказать "нация", – покорно уточнил Питу. – Этот достойный гражданин, этот запыхавшийся патриот, сообщивший новость, видел негодяя в Вири, где он скрывался, и узнал его.
– Неужели!
– Узнав Фуллона, он его выдал, и член муниципалитета Рапп велел тут же арестовать мерзавца.
– А как имя храброго патриота, у которого достало смелости совершить этот поступок?
– Выдать Фуллона?
– Да.
– Его зовут господин Сен-Жан.
– Сен-Жан; но ведь это имя лакея?
– А он и есть лакей этого негодяя Фуллона. Так ему и надо, аристократу: незачем было заводить лакеев!
– А ты занятный человек, Питу, – удивился Бийо и придвинулся к рассказчику поближе.
– Вы очень добры, господин Бийо. Итак, Фуллона выдали и арестовали; его отправили в Париж, доносчик бежал впереди, чтобы сообщить новость и получить награду, так что Фуллон добрался до заставы позже.
– Там ты его и видел?
– Да, ну и вид у него был! Вместо галстука ему надели на шею ожерелье из крапивы.
– Послушай, а почему из крапивы?
– Потому что, по слухам, этот негодяй сказал, что хлеб необходим для порядочных людей, сено – для лошадей, а для народа хороша и крапива.
– Он так сказал, несчастный?
– Да, тысяча чертей, он именно так и сказал, господин Бийо.
– Вон как ты теперь ругаешься!
– Да чего уж там! – бросил Питу небрежно. – Ведь мы люди военные! Одним словом, Фуллон остаток пути шел пешком, и его всю дорогу колотили по спине и по голове.
– Так-так! – сказал Бийо уже с меньшим воодушевлением.
– Это было очень забавно, – продолжал Питу, – правда, не всем удавалось его ударить, потому что за ним шло тысяч десять человек, не меньше.
– А что было потом? – спросил Бийо в раздумье.
– Потом его отвели к председателю Сен-Марсельского дистрикта, хорошему человеку, знаете его?
– Да, господин Аклок.
– Аклок? Да, тот самый, и он приказал отвести его в ратушу, потому что не знал, что с ним делать, так что вы его скоро увидите.
– Но почему об этом сообщаешь ты, а не достославный Сен-Жан?
– Да потому что у меня ноги на шесть дюймов длиннее, чем у него. Он вышел раньше меня, но я его догнал и перегнал. Я хотел вас предупредить, чтобы вы предупредили господина Байи.
– Тебе везет, Питу.
– Завтра мне повезет еще больше.
– Откуда ты знаешь?
– Потому что тот же самый Сен-Жан, который выдал господина Фуллона, обещал поймать и сбежавшего господина Бертье.
– Так он знает, где тот скрывается?
– Да, похоже, этот господин Сен-Жан был их доверенным лицом и получил от тестя и зятя, которые хотели его подкупить, немало денег.
– И он взял эти деньги?
– Конечно; от денег аристократа никогда не стоит отказываться; но он сказал: "Настоящий патриот не продает нацию за деньги!".
– Да, – пробормотал Бийо, – он предает своих хозяев, только и всего. Знаешь, Питу, мне кажется, он большая каналья, этот твой господин Сен-Жан.
– Может быть, но какая разница? Господина Бертье поймают, как и метра Фуллона, и обоих повесят нос к носу. Хорошенькие они скорчат рожи друг другу, когда повиснут рядышком, верно?
– А за что их вешать? – спросил Бийо.
– Да за то, что они мерзавцы и я их ненавижу.
– Господин Бертье приходил ко мне на ферму! Господин Бертье, путешествуя по Иль-де-Франсу, пил у нас молоко, он прислал из Парижа золотые сережки для Катрин! О нет, нет, его не повесят!
– Да что там говорить! – произнес Питу свирепо. – Он аристократ, соблазнитель.
Бийо посмотрел на Питу с изумлением. Под взглядом Бийо Питу невольно покраснел до корней волос.
Вдруг достойный фермер заметил г-на Байи: после обсуждения тот шел из зала заседаний в свой кабинет; он бросился к нему и сообщил новость.
Теперь пришла очередь Бийо столкнуться с недоверием.
– Фуллон! Фуллон! – воскликнул мэр. – Не может быть!
– Послушайте, господин Байи, – сказал фермер, – вот перед вами Питу, он сам его видел.
– Я видел его, господин мэр, – подтвердил Питу, прижимая руку к сердцу и кланяясь.
И он рассказал Байи то же, что прежде рассказывал Бийо.
Бедный Байи заметно побледнел; он понимал, как велико обрушившееся на них несчастье.
– И господин Аклок отправил его сюда? – прошептал он.
– Да, господин мэр.
– Но как он его отправил?
– О, не беспокойтесь, – сказал Питу, неверно истолковавший тревогу Байи, – пленника есть кому охранять; его не украдут по дороге.
– Дай Бог, чтобы его украли! – пробормотал Байи.
Потом обернулся к Питу:
– Есть кому… что вы имеете в виду, мой друг?
– Я имею в виду народ.
– Народ?
– Собралось больше двадцати тысяч, не считая женщин, – торжествующе сказал Питу.
– Несчастный! – воскликнул Байи. – Господа! Господа выборщики!
И пронзительным, отчаянным голосом он призвал к себе всех выборщиков.
Рассказ его прерывался лишь восклицаниями да горестными вздохами.
Воцарилось молчание, и в этой зловещей тишине до ратуши стал долетать далекий невнятный гул, похожий на шум в ушах, когда кровь приливает к голове.
– Что это? – спросил один из выборщиков.
– Черт побери, толпа, – ответил другой.
Вдруг на площадь быстро выехала карета; два вооруженных человека высадили из нее третьего, бледного и дрожащего.
За каретой под предводительством Сен-Жана, совершенно выбившегося из сил, бежала сотня юнцов от двенадцати до восемнадцати лет с болезненно-бледными лицами и горящими глазами.
Они бежали, почти не отставая от лошадей, с криками "Фуллон! Фуллон!".
Однако двое вооруженных людей сумели обогнать их на несколько шагов и успели втолкнуть Фуллона в ратушу, двери которой захлопнулись перед носом у этих охрипших крикунов.
– Ну вот, доставили, – сказали они выборщикам, ждавшим на верху лестницы. – Черт возьми, это было нелегко.
– Господа! Господа! – воскликнул трепещущий Фуллон. – Вы меня спасете?
– Ах, сударь, – со вздохом ответил Байи, – вы совершили много черных дел.
– Однако, я надеюсь, сударь, – сказал Фуллон с мольбой и тревогой в голосе, – правосудие защитит меня.
В это мгновение шум на улице стал громче.
– Быстро спрячьте его, – велел Байи людям, стоявшим вокруг, – иначе…
Он обернулся к Фуллону.
– Послушайте, – сказал он, – положение столь серьезно, что я хочу вас спросить: хотите попытаться бежать через черный ход? Быть может, вы еще успеете.
– О нет! – воскликнул Фуллон. – Меня узнают и убьют на месте!
– Вы хотите остаться с нами? И я и эти господа – мы сделаем все, что в человеческих силах, чтобы вас защитить: не правда ли, господа?
– Обещаем! – крикнули выборщики в один голос.
– О, уж лучше я останусь с вами, господа, только не бросайте меня.
– Я обещал вам, сударь, – ответил Байи с достоинством, – что мы сделаем все, что в человеческих силах, чтобы спасти вашу жизнь.
В это мгновение по площади разнесся громкий рев и через раскрытые окна проник в ратушу.
– Вы слышите? Вы слышите? – прошептал Фуллон, покрываясь бледностью.
И правда, со всех улиц, ведущих к ратуше, особенно с набережной Пелетье и с улицы Корзинщиков надвигалась грозная, орущая толпа.
Байи подошел к окну.
Он увидел горящие глаза, увидел ножи, пики, косы и мушкеты, блестевшие на солнце. Не прошло и десяти минут, как народ запрудил всю площадь. К тем, кто сопровождал Фуллона и о ком говорил Питу, прибавились любопытные: они сбежались к Гревской площади, привлеченные шумом.
Двадцать тысяч глоток изрыгали крики:
– Фуллон, Фуллон!
Тут стало видно, что не менее сотни человек, бегущих впереди разъяренной толпы, указывают этой орущей массе на дверь, за которой скрылся Фуллон; преследователи тотчас принялись вышибать эту дверь пинками, прикладами ружей, рычагами, и вскоре она распахнулась.
Из двери вышла охрана ратуши и двинулась навстречу наступающим, которые поначалу отпрянули, испугавшись штыков, и перед ратушей образовалось большое пустое пространство.
Стража, не теряя самообладания, разместилась на ступенях.
Впрочем, офицеры отнюдь не угрожали, но ласково увещевали толпу и пытались ее успокоить.
Байи едва не потерял голову. Бедный астроном впервые столкнулся со взрывом народного гнева.
– Что делать? – спрашивал он у выборщиков, – что делать?
– Судить его! – отозвалось несколько голосов.
– Невозможно судить под напором толпы.
– Проклятье! – вскричал Бийо. – У нас достанет солдат, чтобы защищаться?
– У нас нет и двухсот человек.
– Значит, необходимо подкрепление.
– О, если бы господин де Лафайет знал, что здесь происходит! – воскликнул Байи.
– Так сообщите ему.
– Как это сделать? Кто решится переплыть это людское море?
– Я! – ответил Бийо и шагнул к двери.
Байи остановил его.
– Безумец, – сказал он, – взгляните в окно. Первая же волна поглотит вас. Если вы вправду хотите пробраться к господину Лафайету, спуститесь через черный ход, да и то я не поручусь, что это вам удастся. Впрочем, попытайтесь!
– Попробую, – просто ответил Бийо.
И он стремглав помчался искать Лафайета.
XIIIТЕСТЬ
Однако нарастающий гул толпы свидетельствовал, что страсти на площади накалялись: это была уже не ненависть, но ярость; люди уже не угрожали, но брызгали слюной от злобы.
Крики "Долой Фуллона!", "Смерть Фуллону!" сталкивались, словно смертоносные снаряды во время бомбардировки; людское море волновалось, грозило прихлынуть и смести стражу с ее поста.
И в толпе этой все громче звучали призывы к расправе.
Смерть грозила не только Фуллону, но и защищавшим его выборщикам.
– Они упустили пленника! – говорили одни.
– Надо войти внутрь! – говорили другие.
– Спалим ратушу!
– Вперед! Вперед!
Байи понял, что, раз г-н де Лафайет не появляется, у выборщиков остается единственное средство: выйти на площадь, смешаться с толпой и попытаться переубедить самых рьяных сторонников жестоких мер.
– Фуллон! Фуллон! – звучал несмолкающий крик, нескончаемый рев разъяренной толпы.
Она готовилась к штурму; стены ратуши не выдержали бы натиска.
– Сударь, – сказал Байи Фуллону, – если вы не покажетесь толпе, эти люди подумают, что мы помогли вам бежать; они взломают дверь, ворвутся сюда и найдут вас – тогда я уже ни за что не ручаюсь.
– Я не думал, что меня так люто ненавидят, – сказал Фуллон, бессильно опустив руки.
Опираясь на Байи, он с трудом добрел до окна.
Его появление было встречено страшным воплем. Стражу оттеснили, двери высадили; людской поток устремился по лестницам, коридорам, залам и в одно мгновение запрудил их.
Приказав оставшимся у него солдатам охранять пленника, Байи пытался успокоить вырвавшихся.
Он хотел объяснить им, что расправа не имеет ничего общего с правом и правосудием.
После неслыханных усилий, после того, как он двадцать раз рисковал собственной головой, ему это удалось.
– Да! Да! – закричали наступающие. – Пусть его судят! Пусть судят! Но пусть повесят!
Тут в ратушу прибыл наконец в сопровождений Бийо г-н де Лафайет.
При виде трехцветного плюмажа – он начал его носить одним из первых – толпа в ратуше затихла.
Главнокомандующий национальной гвардии пробился сквозь толпу и еще более решительно повторил то, что только что сказал Байи.
Речь его убедила всех, кто мог ее слышать, и здесь, в зале заседаний, дело Фуллона было пока что выиграно.
Но те двадцать тысяч, что находились на улице, не слышали слов Лафайета и продолжали неистовствовать.
– Успокойтесь! – закричал Лафайет, который полагал, что впечатление, произведенное им на тех, кто его окружает, естественно распространяется и на остальных. – Успокойтесь! Этот человек будет предан суду.
– Да! – кричала толпа в ратуше.
– Итак, я отдаю приказ отвести его в тюрьму, – продолжал Лафайет.
– В тюрьму! В тюрьму! – раздался дружный рев.
Генерал сделал знак страже, и она подтолкнула пленника вперед.
Толпа на улице ничего не поняла, кроме того, что добыча перед ней. Никому и в голову не приходило, что добычу могут отнять.
Эта толпа, так сказать, почуяла приближающийся запах свежего мяса.
Бийо вместе с несколькими выборщиками и с самим Байи подошли к окну, чтобы посмотреть, как городская гвардия ведет пленника через площадь.
По пути Фуллон лепетал жалкие слова, плохо скрывавшие сильный страх.
– О великодушный народ! – заискивающе говорил он, спускаясь по лестнице. – Я ничего не боюсь, ведь я среди моих сограждан.
Под градом насмешек и оскорблений он вышел из-под мрачных сводов и внезапно очутился на верху лестницы, спускающейся на площадь: свежий воздух и солнце хлынули ему в лицо.
И тут из двадцати тысяч глоток вырвался единодушный вопль, вопль ярости, рев угрозы, рычанье ненависти. Этим взрывом охрану оторвало от земли, отнесло, разметало в разные стороны, тысяча рук схватила Фуллона и потащила в зловещий угол под фонарем – гнусной и жестокой виселице, орудию гнева, который народ именовал своим правосудием.
Бийо, глядя на все это из окна, кричал, призывая гвардейцев исполнить свой долг, ему вторили выборщики. Но гвардейцы были бессильны справиться с разбушевавшейся толпой.
Лафайет в отчаянии выбежал из ратуши, но не смог пробиться даже сквозь первые ряды толпы, гигантским озером разлившейся между ним и фонарем.
Взбираясь на каменные тумбы, чтобы лучше видеть, цепляясь за окна, за выступы зданий, за любую неровность, зеваки жуткими криками еще сильнее возбуждали действующих лиц страшного спектакля.
Преследователи играли со своей жертвой, словно стая тигров с беззащитной добычей.
Все дрались за Фуллона. Наконец люди поняли, что, если они хотят сполна насладиться его агонией, надо распределить роли, в противном случае он будет тут же растерзан на части.
Поэтому одни стали держать Фуллона, у которого не было уже даже сил кричать. Другие, сорвав с него галстук и разодрав одежду, накинули ему на шею веревку. Третьи, взобравшись на фонарь, спустили оттуда веревку, и их товарищи накинули ее на шею бывшему министру.
Затем его с веревкой на шее и связанными за спиной руками приподняли и показали толпе.
Когда толпа вдоволь налюбовалась на страдальца и вдоволь похлопала в ладоши, был дан сигнал, и Фуллон, бледный, окровавленный, под гиканье, внушавшее ему больший страх, чем сама смерть, взвился к железной длани фонаря.
Наконец-то все, кто до сих пор ничего не мог разглядеть, увидели врага, реющего над толпой.
Раздались новые выкрики: это были возгласы недовольства: зачем так быстро убивать Фуллона?
Палачи пожали плечами и молча указали на веревку.
Веревка была старая, сильно обтрепанная.
Когда повешенный начал биться в предсмертных судорогах, последние нити окончательно перетерлись, веревка оборвалась и полузадушенный Фуллон рухнул на мостовую.
Это была лишь прелюдия к казни, лишь преддверие смерти.
Все ринулись к жертве; но никто уже не боялся, что Фуллон может убежать: падая, он сломал ногу ниже колена.
И все же послышалась брань – нелепая и никак не заслуженная: палачей обвиняли в неумении, а ведь они, напротив, были столь хитроумны, что выбрали ветхую, отслужившую свой срок веревку в надежде, что она перетрется.
Надежда эта, как мы видим, оправдалась.
Веревку связали и вновь накинули на шею несчастного; Фуллон, полумертвый, безгласный, блуждающим взором обводил толпу, пытаясь увидеть, не найдется ли в этом городе, именуемом центром цивилизованного мира и охраняемом ста тысячью штыков короля, назначившего его, Фуллона, министром, хотя бы один штык, чтобы проделать проход в этой орде каннибалов.
Но вокруг не было ничего – ничего, кроме ненависти, кроме оскорблений, кроме смерти.
– Убейте меня, но только не мучайте так жестоко, – взмолился Фуллон в отчаянии.
– Вот еще, – ответил чей-то голос, – с какой стати мы должны сокращать твои муки, ведь ты-то вон как долго нас мучил!
– Вдобавок, – подхватил другой голос, – ты не успел даже переварить крапиву.
– Постойте! Погодите! – кричал третий. – Мы приведем сюда его зятя Бертье! На фонаре напротив как раз есть место!
– Посмотрим, какие рожи состроят тесть и зятек, когда увидят друг друга! – прибавил четвертый голос.
– Добейте меня! Добейте меня! – молил несчастный.
Тем временем Байи и Лафайет просили, заклинали, требовали, пытаясь пробиться сквозь толпу; вдруг Фуллон снова взвивается вверх, но веревка снова рвется, и их просьбы, мольбы, судорожные рывки, не менее мучительные, чем у страдальца, тонут, гаснут, растворяются в дружном хохоте, которым толпа встречает это новое падение.
Байи и Лафайета, еще три дня назад подчинявших своей воле шестьсот тысяч парижан, сегодня не слушают даже дети. Поднимается ропот; эти двое мешают смотреть спектакль.
Тщетно Бийо пытался помочь им растолкать народ; могучий фермер сбил с ног двадцать человек, но, чтобы добраться до Фуллона, ему понадобилось бы уложить на месте пятьдесят, сто, двести человек, а между тем силы его были на исходе; и когда он остановился, чтобы отереть пот и кровь, которые струились по его лицу, Фуллон в третий раз взвился до самого шкива фонаря.
На этот раз его пожалели, нашли новую веревку.
Осужденный испустил дух. Мертвому уже не было больно.
Толпе достало полминуты, чтобы убедиться, что искра жизни в жертве угасла. Тигр прикончил добычу, теперь ее можно было терзать.
Труп, сброшенный с вершины фонаря, не успел коснуться земли. Его разорвали на клочки прямо в воздухе.
Голову тотчас оторвали от тела и надели на пику. В ту эпоху было очень модно носить таким образом головы врагов.
Это зрелище вселило в Байи ужас. Голова Фуллона казалась ему головой горгоны Медузы.
Лафайет, бледный, со шпагой в руке, с отвращением оттолкнул стражу, пытавшуюся просить прощения за то, что сила оказалась не на ее стороне.
Бийо, в гневе топая ногами и брыкаясь направо и налево, как горячий першеронский конь, вернулся в ратушу, чтобы не видеть того, что происходило на этой залитой кровью площади.
Что касается Питу, его мстительный порыв сменился судорожным отвращением, он спустился к берегу реки, где закрыл глаза и заткнул уши, чтобы ничего не видеть и не слышать.
В ратуше царила подавленность; выборщики начали понимать, что никогда не смогут заставить толпу свернуть с ее пути, пока она сама не захочет этого.
Когда разъяренные мстители волокли обезглавленное тело Фуллона к реке, из-за мостов вдруг послышался новый крик, новый раскат грома.
На площадь мчался гонец. Толпа уже знала, какую новость он несет. Она верит в чутье самых ловких своих вожаков – так свора гончих берет след, полагаясь на чутье лучших своих ищеек.
Толпа теснится вокруг гонца, окружает его; она чувствует, что найдена новая дичь; она догадывается, что речь пойдет о г-не Бертье.
Так и есть.
Десять тысяч глоток в один голос спрашивают гонца, и он вынужден ответить:
– Господин Бертье де Савиньи арестован в Компьене.
Затем он входит в ратушу и сообщает эту весть Лафайету и Байи.
– Ну что ж, я так и думал, – говорит Лафайет.
– Мы это знаем, – сказал Байи, – мы сами дали приказ, чтобы его взяли под стражу и охраняли.
– Взяли под стражу? – переспросил гонец.
– Конечно, я послал двух комиссаров и охрану.

– Охрану из двухсот пятидесяти человек, – уточнил один из выборщиков, – этого более чем достаточно.
– Господа, – сказал гонец, – я приехал сообщить вам, что толпа разогнала стражу и захватила пленника.
– Захватила! – воскликнул Лафайет. – Стража позволила захватить пленника?
– Не осуждайте ее, генерал, она сделала все что могла.
– А господин Бертье? – с тревогой спросил Байи.
– Его везут в Париж, сейчас он в Бурже.
– Но если он окажется здесь, ему конец! – воскликнул Бийо.
– Скорее! Скорее! – закричал Лафайет. – Отрядите пятьсот человек в Бурже. Пусть комиссары и господин Бертье останутся там ночевать, а за ночь мы что-нибудь придумаем.
– Но кто поведет их за собой? – спросил гонец, с ужасом глядя в окно на бурное море, каждая волна которого испускала новый боевой клич.
– Я! – воскликнул Бийо. – Уж его-то я спасу.
– Но вы погибнете! – воскликнул гонец. – На дороге черно от народа.
– Я еду, – сказал фермер.
– Бесполезно, – пробормотал Байи, слышавший весь разговор. – Слышите?! Слышите?!
И тут со стороны заставы Сен-Мартен стал надвигаться шум, подобный рокоту моря, набегающего на гальку.
Этот гневный ропот лился над домами, как кипяток переливается через край стоящего на огне горшка.
– Слишком поздно! – сказал Лафайет.
– Они идут. Они идут, – прошептал гонец. – Слышите?
– Полк, ко мне! Полк! – крикнул Лафайет в благородном безумии человеколюбия, составлявшем замечательную черту его характера.








