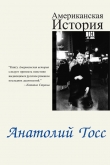Текст книги "The Green Suitcase: Американская история (СИ)"
Автор книги: Блэк-Харт
Жанр:
Слеш
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 24 страниц)
Сэм Райхман давил на сына, как мог. Желание вылепить его по своему образу и подобию овладело Сэмом настолько яростно, что он использовал любые приёмы: от психологического давления до физического воздействия. Однажды он ударил сына так сильно, что едва не сломал ему челюсть.
Но мальчик оказался настойчивым и волевым. Давление и агрессия со стороны отца лишь разжигали в нём желание делать по-своему. Несмотря на стремление отца запихнуть его на юридический факультет, после окончания школы он поступил в бакалавриат искусств Университета Колорадо на отделение скульптуры, что вызвало шоковое состояние у Сэма. Добропорядочный иудей не может быть каким-то там скульптором, у него должно быть более серьёзное занятие. Сэм видел своего сына юристом или, на худой конец, бухгалтером, но только не скульптором. «Это вообще не профессия, Дэйв, это полная ерунда!» Сэм орал, хватался за сердце, обзывал сына идиотом, дебилом и даже в сердцах назвал его свиньёй[1]. Ничего не действовало. Дэвид упорно поступал по-своему и не желал никого слушать. Тем более, отца.
Когда Дэвиду исполнился двадцать один год, по завещанию Рейчел к нему отошла квартира в довольно неплохом районе Денвера и немалая денежная сумма. Сэм рвал и метал, но оспаривать ничего не стал. Он довольствовался тем, что с помощью своих влиятельных друзей пытался контролировать все расходы сына. И до определённого момента ему это вполне удавалось. Пока Дэвид не обнаглел окончательно и не посмел снять против его воли крупную денежную сумму со своего счёта.
Но не сам факт снятия денег со счёта был тем, что так разозлило Сэма. А то, на что Дэвид потратил эти деньги.
Он купил мотоцикл.
Сэм снова орал, оскорблял сына на чём свет стоит (к ужасному для любого иудея оскорблению «свинья» Дэвид уже привык и вообще перестал на него реагировать), утверждал, что Дэвид непременно убьётся, врезавшись в какую-нибудь фуру, на что сын, ухмыляясь, заявлял ему, что каждый когда-нибудь врежется в свою фуру, ибо, хоть фура у каждого и своя, а конец у всех один. Подобные язвительные замечания настолько выводили Сэма из себя, что он в сердцах прогонял сына вон, чтобы ненароком не придушить в порыве гнева.
Дэвида подобные сцены стали забавлять. Он чувствовал, что отец бессилен против него. Он не может его задавить – и оттого бесится.
Бывали у них периоды примирения, когда Сэм вдруг вспоминал о том, что Дэвид – его единственный сын и наследник; именно о таких «приступах любви» к нему Дэвид и рассказывал Патрику. Потом они вдруг сменялись периодами крайнего отчуждения, а порой – и агрессии друг к другу.
На одной из студенческих вечеринок на первом курсе Дэвид впервые познал прелесть однополого секса. Наутро он подскочил, как ошпаренный, выпихнув из постели парня, с которым всю ночь предавался плотским утехам, и обозвав его «хреновым пидорасом». Вернувшись домой, он метался по своей комнате, словно зверь в клетке, пытаясь уверить себя в том, что это была чистая случайность. Надо меньше пить, сказал он себе. Но потом эта «случайность» повторилась снова. И снова. И снова. Он больше не мог себе лгать. Да, чёрт возьми, ему нравятся мужчины. Нравятся гораздо больше, чем девушки. Одна мысль о том, что он входит в тело другого парня, тем самым полностью подчиняя его себе, возбуждала до мурашек, заставляя до крови прикусить губу и ощутить почти болезненный жар в паху. Он начал встречаться с мужчинами исключительно ради секса, стараясь не ввязываться ни во что большее. Хотя к тому моменту Дэвид окончательно перестал ходить в синагогу и укрепился в своём атеистическом мировоззрении, где-то глубоко внутри него сидел ортодоксальный иудей, уверявший его в том, что подобные отношения – «мерзость». Поэтому он продолжал время от времени встречаться с девушками. Некоторые были очень даже милы и неплохи в постели. Некоторые ему искренне нравились. Но Дэвид был вынужден себе признаться: он предпочитал мужчин и ничего не мог с этим поделать.
Не чувствовать себя «грязным педиком» ему помогало одно обстоятельство: в сексе с представителями своего пола его прельщала лишь активная позиция. Именно это возбуждало Дэвида до дрожи. Он никогда не был пассивом и не хотел этого даже пробовать.
По байкерской тусовке поползли соответствующие слухи, и Дэвид был готов провалиться сквозь землю от стыда (точнее, этого хотел тот самый ортодоксальный иудей, глубоко спрятанный в нём), но он достойно выдержал испытание, заявив друзьям-байкерам, что это его личное дело, которое, по его мнению, не должно касаться никого. Даже друзей. Быть изгнанным из клуба, к тому же по такой «грязной» причине – это было то, чего Дэвид боялся не выдержать. Но он понимал, что путей к отступлению нет. И когда один из основателей клуба, индеец чероки Дэнни Ричардс, подошёл к нему и похлопал его по плечу, у него отлегло от сердца.
– Не знаю, как другим, а лично мне посрать, кого ты ебёшь, Дэйви, – сказал Дэнни Ричардс. – Мне с тобой не спать. Парень ты хороший. Наш человек. А на остальное я готов хрен положить.
Дэвид кивнул Ричардсу в знак благодарности и хотел, было, что-то сказать, но Дэнни жестом остановил его.
– Не оправдывайся в этом, Дэйви, – сказал он. – Ни перед кем.
Больше эта тема в байкерской тусовке не поднималась. До того самого вечера, когда Дэнни заговорил с Дэвидом о Патрике.
Однажды они с однокурсником Санни Андерсоном, который тоже был членом «Ангелов дорог», курили перед занятиями, когда взгляд Дэвида вдруг зацепился за стоящий на парковке мотоцикл.
– Клёвый байк, ага, – кивнул Санни, заметив, куда смотрит Дэвид. – Кажется, «Хонда»?
– «Хонда Пан Юропиэн», – машинально уточнил Дэвид, не отводя взгляда от байка. Он любил самой пылкой и преданной любовью свой «Кавасаки Ниндзя» и ни на что бы не променял его. Но этот байк был поистине великолепен. – Чей это?
– Того странного парня, – ответил Санни. – С отделения живописи. Который похож на Джима Моррисона.
– Не знаю такого, – Дэвид швырнул окурок в урну, не отводя взгляда от байка. – Он ведь не из наших?
– Не из наших, – кивнул Санни. – Он такой, знаешь… Сам по себе. И со всеми, и ни с кем. Говорят, он из этих… из индейцев. Странный народ.
– Индейцы – это не народ, а собирательное название народов, населявших Северную и Южную Америку до массового нашествия агрессивных белых мужчин со своими скво, – отозвался Дэвид. – Тупарь ты невежественный.
– Куда мне до вас, – съязвил Санни. – Да, кстати, вон тот парень.
Дэвид перевёл взгляд на высокого темноволосого молодого человека, на которого указывал Санни. Парень действительно был похож на Моррисона, только волосы были темнее, а кожа – смуглее. На нём была обычная чёрная футболка и чёрные джинсы. Рядом с Дэвидом, одетым в футболку с изображением смерти, пинающей черепа носком сапога, он, вероятно, смотрелся бы ангелом.
– Пойду пообщаюсь, – Дэвид подмигнул Санни, отправляя очередной окурок в урну.
– Не напугай мальчика, – засмеялся в ответ Санни.
– Да иди ты.
«Мистер Лизард Кинг», как про себя окрестил его Дэвид, как раз достал сигарету и шарил по карманам в поисках зажигалки. Не найдя её, он, по всей видимости, хотел попросить у кого-нибудь прикурить и взглянул на Дэвида, который не упустил случая этим воспользоваться. Достав из кармана зажигалку, Дэвид чиркнул ей и поднёс к сигарете парня.
– Курить вредно, – насмешливо сказал он.
Парень поднял на него глаза. Они оказались тёмно-карими. Почти чёрными.
Индеец.
– Жить – тоже, – ответил он.
Дэвид с улыбкой кивнул. «Отлично, детка».
– Дэвид Райхман, – он протянул руку. – Можно Дэйв.
– Патрик О’Хара, – ответил парень, пожимая его руку. – Можно Пат.
И с этого всё началось.
[1]Свинья считается нечистым животным в иудаизме. Назвать кого-либо свиньёй среди иудеев значит нанести одно из самых страшных оскорблений.
========== Склеп ==========
– Далековато мы припарковались, – Патрик огляделся вокруг, убирая со лба прядь волос.
– Сойдёт, – Дэвид зубами извлёк сигарету из пачки. – Пройдёмся заодно. Почувствуем себя пешеходами.
Патрик усмехнулся:
– Вспомни свою последнюю поездку в метро.
Дэвид понимающе улыбнулся в ответ. Он понял, о чём говорит Патрик. В то утро у Дэвида с похмелья кружилась голова, и он справедливо рассудил, что ехать на мотоцикле в таком состоянии – самоубийство. Спустившись в метро, Дэвид вдруг понял, что его ужасно раздражают люди. Дэвиду уже почти удалось абстрагироваться от неприятных эмоций, как вдруг в вагон вошёл мужчина средних лет в строгом костюме и шляпе, которого Дэвид безошибочно определил как глубоко религиозного еврея, верящего в избранность еврейского народа. Мужчина встал прямо напротив Дэвида и принялся внимательно изучать последнего. Футболка с изображением скалящегося черепа явно пришлась не по вкусу славному представителю народа Авраама и Иакова, и он презрительно сморщил губы. На следующей станции правоверный иудей, ухмыльнувшись, наступил Дэвиду на ногу. Дэвид едва сдержался, чтобы не разразиться матерной бранью, и лишь выразительно взглянул на «соседа», но этого было достаточно, чтобы правоверный иудей взорвался, словно пороховая бочка.
– Что ты смотришь на меня, фашистская свинья! – заорал он. – Расплодились фашистские твари – ещё и пялятся со всех сторон! Из-за таких как ты, свиное отродье, нас, избранный народ, жгли в крематориях Освенцима!
Дэвид почувствовал, как кровь закипает в жилах. Он сам не знал, что его задело больше – то, что ему явно нарочно наступили на ногу, то, что другой еврей намеренно обозвал его свиньёй, или то, что его приняли за фашиста.
– Имеет ли право один представитель избранного народа дать в морду другому представителю избранного народа за то, что тот назвал его свиньёй? – произнёс он на идиш.
У правоверного иудея выразительно выпучились глаза, и теперь он напоминал рыбу, выброшенную на берег.
– Ah myyn Gát![1] – воскликнул он.
– Не поминай Господа Бога своего всуе, – сказал Дэвид, выразительно подняв вверх указательный палец, и вышел на следующей станции под одобрительные возгласы остальных пассажиров.
– Чтобы ты гонорею схватил, – мысленно обратился он к консервативному представителю избранного народа и направился к выходу из метро, размышляя о том, что быть пешеходом ему совершенно не нравится.
– Ну, это, положим, не метро, – Дэвид улыбнулся одними губами. – А гораздо более приятное место.
– Я слышал, евреи считают кладбище нечистым местом, – отозвался Патрик. – А никак не приятным.
Дэвид искоса взглянул на него:
– Я плохой еврей, детка.
– Не говори так.
– Буду говорить. Потому что так и есть. Я не хожу в синагогу. Не чту день субботний. Сплю с мужчиной, – Дэвид многозначительно улыбнулся и шутливо ткнул Патрика под рёбра. – Я ем свинину, знаешь. Мой организм её не принимает. Отторгает. До блевотины. Мой бедный желудок к ней непривычен. Но я всё равно её ем. Когда-нибудь я привыкну, – он усмехнулся. – Осталось только нарастить крайнюю плоть.
Патрик покачал головой.
– Ты согласен делать то, что противно тебе до блевотины – лишь бы это было против?
Дэвид довольно заулыбался:
– Вы, как всегда, поразительно мудры, Великий Вождь.
У кладбищенских ворот Дэвид швырнул окурок от очередной сигареты в урну и выразительно взглянул на Патрика.
– Ты точно хочешь пойти со мной? – спросил он.
– А ты хочешь, чтобы я пошёл?
Дэвид усмехнулся.
– Звучит удивительно по-еврейски, – сказал он. – Ещё пара таких фразочек – и я решу, что это заразно, – он положил руку Патрику на плечо. – Да, я хочу, чтобы ты пошёл со мной. Не заставляй меня просить.
Патрик кивнул в ответ.
Они зашли на территорию кладбища и одновременно замолчали. Это место действительно не располагало к болтовне. Кладбище было довольно старым, некоторые памятники облупились и потрескались. Патрик взглянул на статую ангела с пустыми зияющими глазницами и почувствовал бегущий по коже холодок. Он философски относился к смерти, но это кладбище было неприятным, по-настоящему неприятным. Он вызывало у юного индейца чувство отторжения и какой-то странной брезгливости.
– Вот здесь, – сказал Дэвид.
Они остановились неподалёку от массивного склепа, двери которого украшала Звезда Давида.
– Наш семейный склеп, – Дэвид взглянул на Патрика. – Мальчики, познакомьтесь. Склеп, это Патрик, Патрик, это Склеп.
– Не смешно, – Патрик покачал головой.
– Ты прав, детка, – кивнул Дэвид. – Это и правда совершенно не смешно, и в первую очередь мне самому, но я несу эту хрень, чтобы…
«Чтобы не расплакаться».
«Я знаю».
Ни та, ни другая фраза не были произнесены вслух. Это был молчаливый диалог взглядов. Они поняли друг друга. Как всегда.
– Разве евреев хоронят в склепах? – удивился Патрик.
– Это не особо приветствуется, – отозвался Дэвид. – Но есть несколько «но». Во-первых, это не еврейское кладбище. Когда еврея хоронят не на еврейском кладбище, его могилу нужно непременно отгородить от могил не евреев. А склеп как нельзя лучше подходит для этой цели. Во-вторых, в этих местах возможны оползни, а могила благочестивого иудея, как ты сам понимаешь, не имеет никакого морального права оползти, – Дэвид улыбнулся одними губами. – Ну а в-третьих, мой дед так хотел иметь фамильный склеп, что первые два обстоятельства были ему как нельзя на руку, – он кивнул Патрику. – А теперь подожди немного, ладно?
Патрик кивнул. Их глаза снова встретились.
«Конечно, Дэйви. Я всё понимаю».
«Спасибо».
Дэвид подошёл к склепу, провёл по двери кончиками пальцев, после чего прислонился к ней лбом. Патрик слегка отошёл. Он был глубоко убеждён, что нельзя мешать людям в такие моменты.
Наконец Дэвид обернулся к нему и жестом позвал подойти. Его глаза были ясными и холодными, как всегда. Две светло-голубые льдинки. На какое-то мгновение на его лице промелькнула тень глубокой печали, но Дэвид волевым усилием отогнал её.
– Я часто прихожу сюда, – сказал он Патрику. – Иногда просто лапаю двери снаружи, как последний идиот. Иногда захожу внутрь и сижу там. Просто сижу. Сижу и сижу. Однажды я просидел там всю ночь. И всё пытаюсь понять, почему так случилось.
Патрик кивнул и хотел, было, прикоснуться к своему другу, но Дэвид жестом остановил его.
– Не надо, – сказал он. – Не утешай меня. Я живу с этим с десяти лет. Всё в порядке. Правда.
– Зайдёшь внутрь? – спросил Патрик.
Дэвид покачал головой:
– Не сегодня. В другой раз. А сейчас… я хочу показать тебе… кое-что, – он сунул руку в карман и достал оттуда ключ. – Вот ключ от склепа. Есть ещё два – у меня и моего отца, это третий. Я сделал дубликат специально для тебя, – увидев, что Патрик пытается сделать отрицательный жест, Дэвид схватил его за руку. – Да выслушай ты. На днях мне надо будет уехать из Денвера. Ненадолго – быть может, на пару дней. Мне надо успеть до начала семестра, – он взглянул Патрику в глаза. – Я хочу составить завещание, Пат. Но я не могу сделать этого здесь. Потому что мой отец… он как осьминог. С кучей щупалец.
Патрик понимал, о чём говорит Дэвид. Составить завещание в Денвере в обход Сэма Райхмана было чем-то крайне нереальным.
– Я покажу его тебе, когда оно будет готово, – продолжал Дэвид. – Одним из пунктов завещания будут распоряжения относительно похорон, – он сильно, почти до боли сжал руку Патрика. Казалось, у последнего хрустнули костяшки пальцев, но руки он не отнял. – Я хочу, чтобы меня кремировали. Иудейские традиции запрещают кремацию. Категорически. Тело человека после смерти должно быть предано земле. Оно должно гнить, Пат. «Прах ты и в прах возвратишься». Так велит Тора. Но я не хочу, – Дэвид отвернулся, глядя куда-то вдаль; его рука по-прежнему сжимала руку Патрика. – Я не хочу гнить в склепе, Пат. Мать твою, как же я не хочу гнить в этом чёртовом склепе!
– Дэйв, прекрати, – резко произнёс Патрик.
– Пат…
– Прекрати это немедленно. С какой стати ты собрался умирать?!
Дэвид вновь отвернулся и неожиданно тихо рассмеялся.
– Помнишь Билли Таккера, Пат? – спросил он. – Помнишь этого несчастного Билли Таккера? – он снова повернулся к Патрику, и глаза его были холодными как никогда. – Каждый из нас имеет шанс стать Билли Таккером, Пат. Каждый. В любую минуту.
– Я с этим не спорю, – кивнул Патрик. – Но мне не нравятся твои мысли, Дэйв.
Дэвид вновь сжал его руку.
– Возьми ключ, Пат, – сказал он. – Возьми и пообещай мне. Если что-то со мной случится, и мой отец каким-то образом обойдёт оставленное мной завещание, ты откроешь склеп, вытащишь оттуда моё тело и сожжёшь. Что бы тебе ни говорили и как бы ни сложились обстоятельства.
– Райхман, хватит.
Дэвид наклонился к Патрику и взял его за подбородок.
– Я не знаю, что ты чувствуешь ко мне, – сказал он, – но ведь что-то чувствуешь! – его голос дрожал. Сейчас с Патриком говорил не тот самодовольный тип, что со словами «Ты ведь любишь меня. Я это чувствую» расстёгивал его ширинку. С ним говорил маленький беззащитный мальчик, которого отец жестоко избивал за каждую провинность. – Если… если это случится раньше… раньше, чем хотелось бы… ты исполнишь мою волю? – Патрик почувствовал, как пальцы Дэвида вновь до боли сильно сжались на его запястье. – Я не хочу гнить в склепе, Пат.
Патрик взглянул в лицо друга, на котором в этот момент отражалась вся скорбь этого мира. Скорбь – и страх. Дэвид ждал лишь одного ответа, и нельзя было ответить иначе.
– Ты не будешь гнить в склепе, Дэйв, успокойся.
Это было произнесено таким спокойным и уверенным тоном, что Дэвид сразу понял: в склепе он гнить не будет.
Что бы ни сделал Сэм Райхман.
Он ничего не сказал в ответ – лишь крепко обнял Патрика. И они ещё долго стояли так, обнявшись, возле семейного склепа Райхманов, обдуваемые кладбищенским ветром.
[1«О боже мой!» (идиш)
========== Дэвид и Патрик ==========
– Можешь не разуваться, – Дэвид закрыл за собой входную дверь. – Здесь не убрано. – Мозес! – крикнул он куда-то вглубь квартиры. – Иди жрать, пока я добрый!
Мозес с жизнерадостным «мууууууурррррр» выбежал в прихожую и начал тереться о ноги хозяина.
– Проходи, – Дэвид легко, едва ощутимо, тронул Патрика за плечо – словно просто искал повод прикоснуться. – Я покормлю кота, пока он нас обоих не сожрал, и тут же вернусь.
Патрик не стал присаживаться. Вместо этого он подошёл к окну, на котором не было занавесок – лишь жалюзи, которые были всё время приподняты, и взглянул в него. Вечерний, уже почти ночной Денвер раскинулся перед ним во всей красе.
– Классный вид отсюда? – подошедший Дэвид обнял его за плечи.
Патрик повернулся к нему:
– Ты любишь высоту.
Дэвид кивнул:
– Люблю. И моя мать любила. Это была её квартира. Ей здесь нравилось. Но отец затащил её в наш семейный склеп. Нет, не в тот, который на кладбище – в другой. В наш семейный особняк. Сначала в один, затем, когда тот сгорел, – в другой. Он тоже склеп, Пат. Похлеще того, где лежат мои мать и сестра.
Патрик посмотрел ему в глаза и тут же отвернулся. Как будто хотел что-то спросить или сказать, но передумал.
– Спроси это, – произнёс Дэвид.
– Что?
– То, что хотел. Спроси, не бойся. Может быть, я даже отвечу.
– Я ничего не говорил.
– Не прикидывайся идиотом. Ты хотел спросить, почему я так отношусь к своему родному дому, – легко взяв Патрика за подбородок, Дэвид развернул его лицо к себе. – И к своему отцу.
– Я понял, что вы плохо ладите. Мне этого достаточно.
Дэвид усмехнулся:
– Не хочешь меня травмировать? Это похвально.
Патрик посмотрел ему в глаза:
– Откуда в тебе столько желчи, Райхман?
Дэвид пожал плечами:
– Хрен его знает. Возможно, от папы, – он отошёл от окна, взял с журнального столика пепельницу, поставил её на подоконник и закурил. Курение явно доставляло ему огромное удовольствие, и сейчас, сидя на подоконнике с сигаретой в руках, он напоминал греющегося на солнце кота, каким-то чудом научившегося курить. – Ты не задаёшь идиотских вопросов, не начинаешь неприятные темы, – прищурившись, Дэвид выпустил дым через ноздри. – Ты пьёшь со мной, хотя твой индейский организм плохо принимает алкоголь. Тусишь с моими друзьями. Когда мы первый раз трахались, ты терпел, сцепив зубы. Тебе было больно, но ты не произнёс ни звука. Я достал эти хреновы гандоны, но честно сказал, что не хочу. Что хочу с тобой без всего. И ты не стал настаивать. А ведь надо было. Учитывая, сколько хорошеньких мальчиков прошло через мою постель.
Патрик нахмурился. Слова Дэвида его явно задели.
«Ублюдок. Я терпел ради тебя».
– Ты знаешь, что ты мудак? – произнёс он вслух.
Дэвид молча кивнул.
– И это тебя совсем не беспокоит?
Дэвид отрицательно покачал головой, после чего нарочито беспомощно развёл руками, дескать «ну что тут поделаешь».
Патрик отвернулся и уставился в окно, краем глаза поглядывая на Дэвида, который, прислонившись к оконной раме, курил очередную сигарету и не сводил с него глаз.
– Иди-ка сюда, – сказал Дэвид наконец.
Патрик обернулся. В его взгляде отчётливо читалось что-то наподобие «хер тебе».
– Ну же, иди, – Дэвид за руку притянул его к себе. Затушив сигарету в пепельнице, он закрыл глаза и провёл кончиками пальцев по лицу Патрика.
– Что ты делаешь? – удивился последний.
– Тссс. Тихо. Я тебя леплю.
– Чего? – Патрик был явно удивлён.
– Леплю, – повторил Дэвид, не открывая глаз. – Я леплю твоё лицо, – его руки скользнули по щекам и скулам Патрика. – Теперь шею, – руки скользнули по шее, затем пальцем левой руки Дэвид провёл по губам Патрика. – Губы.
Патрик перехватил его руку, и Дэвид тут же открыл глаза.
– Всё испортил, – сказал он. – Ну и ладно. Когда-нибудь я тебя по-настоящему вылеплю.
– Что за приступ нежности, Райхман? – усмехнулся Патрик, стараясь скрыть то, что подобное проявление чувств его очень тронуло.
Дэвид усмехнулся и облизнул губы.
– Поцелуй меня, детка, – сказал он, притягивая Патрика к себе.
– С какой стати? – фыркнул Патрик.
Дэвид тихо рассмеялся.
– Это мило, – сказал он. – Знаешь, все без исключения мужчины, с которыми я спал, поначалу ломались. Кроме того несчастного, который был у меня первым. Хотя, может, и он ломался – просто я был настолько пьян, что с трудом вспомнил бы, как меня зовут. И могу вполне не помнить этого.
Патрик отвернулся. Да, Дэвид вполне мог не помнить. Как не помнил подробностей того, что происходило в их первую ночь. Когда, резко и грубо вдавливаясь в тело Патрика, он шептал ему на ухо: «Скажи, что любишь меня. Скажи это. Скажи». Патрик не сказал. Не разрешил себе сказать. Даже когда пальцы Дэвида, дёрнув его за волосы, едва не свернули ему шею. Позволить трахнуть себя – одно, сказать, что любишь – другое. Поэтому Патрик молчал, уткнувшись в подушку и ощущая на себе весь садизм Дэвида Райхмана. В нём была жестокость. Но это была не та уродливая жестокость, которая свойственна людям, избивающим детей и убивающим собак и кошек. Это была красивая величественная жестокость, делавшая его отчасти похожим на какого-то первобытного дикаря. И когда всё закончилось, и Патрик, вскочив с кровати, начал одеваться, Дэвид молча наблюдал. Взгляд этих «ледяных» глаз ранил в самое сердце, и Патрику подумалось, что, наверное, именно так клиент публичного дома смотрит на проститутку. На шлюху, которую поимел. Его чувство собственного достоинства не выдерживало такого. По бёдрам стекала сперма этого ублюдка – он ощущал это, когда застёгивал джинсы, и это было невыносимо. Пересилив собственный стыд, он взглянул в эти «ледяные» глаза и тихо, но отчётливо произнёс:
– Не подходи ко мне больше, Райхман. Никогда. Забудь о моём существовании. Забудь – не то я вырву тебе челюсть, ты, чокнутый хренов садист.
Взгляд холодных светло-голубых глаз, казалось, стал ещё более насмешливым. Патрик развернулся и вышел из комнаты.
Вон отсюда. Вон из этого места. Уйти и никогда не возвращаться.
Чтобы больше не видеть этого ублюдка.
Никогда.
Но когда Патрик был уже у дверей, Дэвид вдруг бросился за ним. Патрик оттолкнул его. И продолжал отталкивать, когда Дэвид хватал его за руки и пытался обнять. «Прости меня, пожалуйста, прости». Патрик снова и снова его отталкивал и даже залепил оплеуху, но Дэвид продолжал обнимать. В конце концов Патрик сдался и опустил руки.
– Ты грёбанный мудак, – сказал он.
Дэвид взглянул ему в глаза:
– Да. Я грёбанный мудак. И садист. И ещё я свинья. Нечистое животное.
– Пусти.
– Нет. Прости меня, я… я… – он отвернулся. – Господи, Пат…
Патрик усмехнулся:
– К чему такие терзания, Дэйв? Тебе хотелось меня трахнуть – ты своё получил. На том и закончим.
Дэвид покачал головой.
– Пожалуйста, не уходи, – сказал он. Голос его звучал почти умоляюще. – Тебе было очень больно?
Патрик усмехнулся:
– Когда именно? Когда ты пихал мне в жопу или когда пытался свернуть мне шею?
Дэвид погладил его по лицу. Патрик попытался оттолкнуть его руку:
– Оставь.
Но Дэвид всё же обнял его, и почему-то Патрик не отпрянул. Злость и агрессия начали отступать. Он уже знал, что простит. Простит, даже если когда-нибудь возненавидит себя за это.
– Позволь мне загладить свою вину, – прошептал Дэвид. – Позволь показать тебе, как это может быть.
Патрик усмехнулся:
– Что тебе ещё надо, Райхман? Свяжешь меня или отхлещешь ремнём?
– Нет, детка, нет.
Патрик хотел возразить, но губы Дэвида накрыли его губы, и он не смог этому сопротивляться.
– На этот раз будет лучше, – прошептал ему в ухо Дэвид, отрываясь от его губ и стаскивая с него джинсы.
– Откуда тебе знать? – ухмыльнулся Патрик. – Тебя же не трахали.
– Мне рассказывали.
– Те, кого ты трахал?
– Да. Пат… скажи мне… ты был девственником? Это ведь был твой первый раз? Не просто первый с мужчиной, а вообще первый?
Патрик отвернулся и промолчал. Дэвид поцеловал его в висок.
– Не отвечай, если не хочешь, – сказал он. – Только знай. Я больше не причиню тебе боли. Клянусь. Только не уходи.
Патрик кивнул. Он знал, что не уйдёт.
Ни в этот раз, ни в другой.
Голос Дэвида вывел его из воспоминаний.
– О чём ты задумался? – спросил он.
– Да так, – ответил Патрик.– Так говоришь, все ломались?
Дэвид погладил его по лицу:
– Не думай о них, детка, это был просто секс. Ты единственный, из тех, кого я трахал, с кем меня связывает ещё что-то, кроме секса.
Патрик взял его за руку. Их пальцы переплелись.
– Налей нам выпить, – сказал он.
Дэвид вновь тихо усмехнулся.
– Тебе так будет легче? – спросил он.
– Нет, – ответил Патрик. – Тебе.
И всё снова повторилось – два сплетённых тела, скрип кровати. Объятия, тяжёлое сбивчивое дыхание. Когда Дэвид уснул, Патрик ещё долго сидел, прислонившись к стене, пока не пришёл рассвет. Пару раз Дэвиду начинали сниться кошмары, и он метался во сне. Патрик гладил его по голове. Это помогало. Дэвиду часто снились кошмары – он рассказывал об этом. Один из них был довольно навязчивым и повторялся с пугающей периодичностью. В нём Дэвид видел свою мать. Она пыталась что-то сказать, но вдруг начинала гореть и с жуткими криками сгорала заживо. Как сгорела в своё время восьмилетняя сестра Дэвида Эстер. Дэвид видел этот сон снова и снова и не мог от него избавиться. Может быть, сейчас он видел как раз тот сон, а может быть, и нет.
Когда уже рассвело, Патрик, наконец, тоже уснул, крепко обнимая Дэвида. И ему тоже приснился кошмар.
Ему снился Сэм Райхман. И какая-то ремонтная мастерская.
Из тех, что занимаются мотоциклами.
Патрик не запомнил всех деталей этого сна. Но он запомнил ощущения.
Этот сон был из тех, что вызывают желание закричать. Но не получается. Голосовые связки как будто парализует. И ты мечешься, словно в бреду, отчаянно пытаясь проснуться.
Патрик вскочил на кровати.
Когда его рассудок окончательно проснулся, он огляделся по сторонам.
Было уже совсем светло, но город ещё не пробудился.
Суббота.
Дэвид спокойно спал рядом. В его ногах, свернувшись клубочком, таким же безмятежным сном почивал Мозес.
Патрик смахнул со лба холодный липкий пот и осторожно, словно боясь чего-то, опустил голову на подушку.
Денвер постепенно пробуждался.
========== Секреты Сэма Райхмана ==========
Сэм Райхман знал много секретов.
И умел их хранить.
В своей адвокатской практике Сэм специализировался преимущественно на домашнем насилии. Обладающий потрясающим чутьём на всё, что может приносить прибыль, он довольно быстро понял: в наше время в Соединённых Штатах домашнее насилие – прибыльная ниша для адвоката. Времена, когда мужчина имел полное право избить отказывающуюся повиноваться ему жену или же от души выпороть розгами непослушного ребёнка, канули в Лету. Гуманизм и права человека – эти понятия въелись в сознание современных людей, разъедая его, словно раковая опухоль, с усмешкой думал Сэм. Будучи убеждённым циником, Сэм считал, что никаких прав человека не существует, это выдуманное понятие используется для создания иллюзии, что личность действительно что-то значит. Используется же это понятие по большей части несколькими категориями лиц. Например, политиками.
Или юристами.
Будучи прекрасным юристом, Сэм горячо защищал те самые несуществующие права человека, тем самым создавая себе репутацию борца за неприкосновенность личности.
И зарабатывая на этом хорошие деньги.
Почти все дела, за которые брался Сэм, он выигрывал с той лёгкостью, с какой шеф-повар элитного ресторана приготовил бы яичницу или сэндвич с тунцом. Помимо врождённого ума ему помогало в этом блестящее красноречие и редкое умение преподнести события именно так, как выгодно ему.
«Беспроигрышный Сэм» – так окрестили его коллеги и противники, и это было более чем справедливо.
Сэм действительно почти никогда не проигрывал.
И умел хранить тайны.
Ему одному было известно, что бывший муж его клиентки миссис Питерсон, якобы жестоко избивавший последнюю и заплативший за это по решению суда огромную сумму, на деле и пальцем её не трогал. Никто так и не узнал о том, что его клиент мистер МакКензи неоднократно избивал своего семилетнего сына. Тайну миссис Фишер, которую муж застукал в постели со своей родной сестрой, он тоже никому не открыл.
Секреты могут быть полезны – такой вывод Сэм сделал уже давно. И продолжал придерживаться этого принципа столь же строго, как правила посещать синагогу по субботам.
Но никто из его клиентов не знал одного.
У Сэма Райхмана были и свои секреты.
Одним из которых была смерть восьмилетней Эстер.
Одним из. Но не единственным.
Сэм знал: на его руках кровь не только дочери, но и жены.
Нет, он не убивал Рейчел в том самом общепринятом смысле. Не подсыпал снотворное в бутылку с виски и не топил её в ванне.
Но он подтолкнул её.
И не просто подтолкнул к самоубийству (а гибель Рейчел была именно самоубийством).
Было кое-что ещё.
В тот самый злополучный вечер он сидел в своём кабинете (надо сказать, новый кабинет в новом доме нравился Сэму гораздо больше старого) и упорно пытался углубиться в чтение Торы. После гибели Эстер он стал читать Тору чаще, чем обычно.



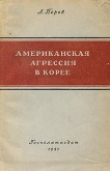


![Книга Праздник живота [СИ] автора Борис Хантаев](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-prazdnik-zhivota-si-145240.jpg)