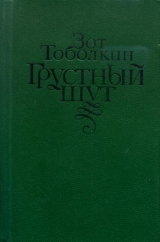
Текст книги "Грустный шут"
Автор книги: Зот Тоболкин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 21 страниц)
Как легко и прекрасно!
27
– Как же ты, братко? – огорченно цыкнул через зубы Барма, едва появившись.
Беспомощность трех взрослых и неглупых людей его раздражала. Стоило доверить их самим себе, и заблудились в людном городе, точно дети. Без поводыря не могут. Карты и той лишились. Ну ладно, Кирша, он ничего, кроме лошадей, не видывал. Лишиться коней – для него, пожалуй, пострашней, чем сестры лишиться, хоть и любима им Маша.
Пинелли тоже не в счет. Слишком прост для этого мира. Живет в мечтах, в выдуманном городе. Эти мечты, этот город помогают одолевать все невзгоды.
Но Митя-то, Митя весь свет обошел! И порода пикановская… В пикановском роду лопоухих не было… Мореход!.. Впрочем, с морем, наверно, проще ладить, чем с людьми. Море честное, намерений своих не скрывает.
И все же не так уж трудно разыскать хотя бы Верку, разузнать у нее о Маше.
– Искали. Как сквозь землю провалилась. А потом с картежником с тем связались…
– Ты играл в карты?!
– Играл Леня. Я рядом стоял.
– Продулись, конечно? – Пинелли толкнул Митю в бок: мол, не выдавай, но от Бармы это не скроешь. – Ладно, – сказал, посмеявшись над картежниками. – Горевать на пеньке и зайцы умеют. Надо Машу искать.
Снова торкнулись в бывший дом Кирши – их не впустили. Из ограды выскочили четверо вооруженных татар, замахали кинжалами.
– Нам бы хозяина вашего, – настойчиво твердил Барма, но кроме угроз ничего от татар не услышал. Во дворе бесновались на цепях три сиплоголосых волкодава. Сюда просто так не прорвешься.
– Ладно, я им петушка подпущу, – скрипнул зубами Митя.
– Маша-то, из огня не воскреснет, – остудил его Барма. – Тебе, Леня, о красном петухе говорить грешно. Строить собирался…
– И построю, – закипятился Пинелли. – Я не такой город построю, не подлый, не бессердечный! В нем будут жить светлые, добрые люди.
– Кукушка прокуковала, а яйцо не снесла. Давайте к Веруньке наведаемся.
У Верки в доме ералаш. Пьяна тетка, бельмоватая, вся в оспинах баба, и Верка пьяна.
– Прости, Тим-мушка, – мычала она, тяжело ворочая слова. – Гуляю. Сам не захотел в жены взять…
– Что ж ты наделала, птаха, а? – пожалел неразумную девку Барма.
– Гони их отсель! – закричала старая потаскуха. – Гони, к нам хахали скоро нагрянут.
– Тим-мушка! Сердешный ты мой!
– Гони, сказано! Нищие! Мы богатых устерегем!
Барма вывел бабу в кладовку, задвинул дверь на защелку. Верку макнул головой в кадку с водой. Вытерев слезы ей, прикрикнул:
– Ну будет, будет! Сам в доле твоей повинен.
– Не повинен, не-ет, я захотела. Не пови-ине-ен! – мотая мокрою головой, опять завыла Верка. – Так судьба моя обозначена. По теткиным стопам идти, видно.
– А ты сверни, иди с нами. Где Маша, знаешь?
– Не-ету ее! Сгинула подруженька! Татарин порушил. – Верка вынула из сундука цветной, даренный Митей полушалок. – Велела тебе передать, – сказала: моряку.
Митя пятился от нее к порогу, бормоча невнятно:
– Пожгу, пожгу!
Выскочив на улицу, кинулся прочь, не разбирая пути. Барма не останавливал его, бежал следом, потом подвел его к кабаку. Надо вытряхнуть горе, поесть-попить.
День за столом просидели. Пили мало и говорили мало. Но хозяину заплатили щедро, словно гуляли напропалую.
– Спаси вас бог, – благодарил целовальник, заподозривший их в недобром. – Спаси вас бог, а я не выдам..
Висели звезды в ночи, густо, крупно. Одна, выше большого ковша, мерцала, то удаляясь, то приближаясь. Мите казалось, – глядит на него душа Машина, светлая, тихая. Неотмщенная душа.
– Скорей, скорей! – закричал он и кинулся к татарскому дому.
– Погоди ты! – едва перехватил его Барма. – Тут надо с оглядкой.
Днем, взяв Киршу, обошел все подворье, спросил, как лучше пробраться внутрь.
– В задней ограде можно плаху вынуть. Сам ночами так хаживал.
– Что ж, вынем, – кивнул Барма и велел кинуть волкодавам отравленного мяса. Сроду собак не убивал. Тут решился. Уходил – нутро выворачивало, словно убил невинного человека.
Во дворе Киршином сонно, тихо. В малухе, где обитают сторожа, тлеет огонек. Барма тенью проник в ограду, припер дверь колом.
Кирше наказал:
– Когда разгорится – этих выпустишь. Люди подневольные.
– Ага, я их выпущу. – Нырнув через лаз, Кирша сунул в пробой малухи занозу, стал добывать огонь. С трех других сторон поджигали Пинелли и братья. Дом был добротный, из ядреного смолья и хоть взялся не сразу, но пылал с треском.
– Ну, теперь ноги в руки, – сказал Барма. За оградой уж вспомнил: – Сторожей-то выпустил?
– Огонь выпустит.
– Э, нет! Греха на душу не возьму. Одно – Шакиров, другое – эти.
Он снова проник в ограду, отворил малуху, из которой ломились испуганные сторожа.
– Там бачка, бачка! – бормотал старший, едва не сбивший с ног Барму. Барма понял: в доме Шакиров.
– А, бачка! – подставил ногу сторожу, кинувшемуся к дому, пригрозил слугам: – Ступайте прочь! Живо, живо!
Ночью, посреди бушующего огня, зубастый, черный от копоти, он казался сторожам человеком с того света. Давя и толкая друг друга, они кинулись в пролом. Там их встречали в кулаки ямщик, Пинелли и Митя.
– За Машу! Это вам за Машу, – бормотал Митя, щедро рассыпая удары.
– Ну, братко, – посчитав лежавших, усмехнулся Барма. – Ты тут постарался!
– За Машу!..
28
Меншиков с двумя офицерами гнал к Дарье Борисовне.
– Он там! Он у нее, этот шут! – распаляя себя, кричал он. В гневе топнул ногою по ноге Михайлы Першина, сидевшего напротив. Тот, одолевая боль, усмехнулся:
– Глаз потерял в бою, без ноги тут могу остаться.
– Тты! Молчи! – Кулак светлейшего взметнулся над офицером – не задел, нехотя опустился на колено. – Ладно, – дрожа и отщелкивая зубами, сказал князь примирительно. – Не держи на меня сердца. Ищи, как велено было. Найдешь – озолочу!
– Нашел бы. По службе был услан, – оправдываясь, пробормотал Першин.
Стареющий князь лишь повел бровью, проворчал: «Я в твои годы две, а то и три службы зараз исполнял».
– Буду усерден! Живот положу!
Меншиков зыркнул на него налитыми кровью глазами, нахохлился и более ничего не сказал. У дома, не дожидаясь, пока станут кони, выскочил первым. Офицеры последовали за ним: один справа, другой слева, два пса, два верных служаки, не уступавшие в стати все еще видному собой светлейшему. Статен князь, но могучее здоровье его ослабло. Очень уж щедро тратил себя: пиры, войны, женщины… Волос из головы полез клочьями, заиндевел. Видно, подступил предел, у которого следует оглянуться, поберечь себя. Для последней и, может, главной битвы. Не оступиться бы – все потеряешь. И голову тоже. Позором покроется светлейшее имя. А сколько сил, сколько ума и времени было отдано исполнению честолюбивых замыслов! Какая нужна была изобретательность, чтобы простому безграмотному парнишке взобраться на головокружительную вершину. Не упасть с нее – вот что важно. Качалась вершина, из-под ног ускользала, но чуткая нога вновь находила опору, князь балансировал, но не падал. Подчас и женщины помогали, царица сама, много обязанная ловкому царедворцу. Ее жизнь, ее честь тоже на волоске висели. Монс, немец проклятый, оказался болтливым. Александр Данилович подсказал государю: «Руби любодею голову!» Царицу ж упредил: «Матушка, претерпеть тебе много придется. Не урони слезу случайно – с головой упадет!» Катерина поняла с полуслова. За долгие годы мно-огому подле царя научилась, хотя ведь тоже на трон поднялась из грязи. Умна, хитра, осторожна! Поняла и глазом не повела, когда голова любовника покатилась к ее ногам. Это и обмануло царя. Монс, осознавший перед гибелью, как дорого обойдется каждое его слово, вел себя достойно. Умер без воплей, но в глазах был кроткий упрек… и – улыбка: «А все-таки она была моей!» Только царица поняла ее смысл. Петр мог лишь догадываться. Меншиков молчал. Чуял он в ту минуту, что дни самодержца сочтены. Думал, раньше помрет Петр Алексеевич, а тот жил и все чаще бросал на своего фаворита недобрые взгляды. Проживи царь еще полгода – несдобровать бы светлейшему. Да только ли ему! Многие, очень многие, вознесенные Петром люди молили ему скорой смерти. Когда пришла она – облегченно перекрестились, вздохнули во всю грудь.
Ах, Катерина, Катерина! Как хороша, как беспокойна была наша молодость! Ты многих переменила. Я тоже знал многих. Прошлое отболело, новая боль оцарапала сердце – княжна Юшкова. Разум от нее помутился. «Моя! Возьму!» – через три ступеньки прыгая на резное крыльцо, сквозь зубы твердил светлейший. Сердце то замирало, то колотилось все вбок и вниз почему-то. Князь удерживал сердце рукою, поднимал его выше. Оно снова опускалось и пухло.
– Вот они где, голуби! – прокричал князь с порога, сбив ставшего на пути дворецкого. – Взять! – от ткнул пальцем в Пиканов, в Киршу, в Пинелли. Эти ничем перед ним не провинились, да не все ли равно: одним больше, одним меньше.
Офицеры кинулись к братьям.
– Беги! – сказала Барме Дарья Борисовна. – Беги, Тима! Не давайся!
– Уколются, хоть и не еж я, – ухмыльнулся Барма и, обежав стол, кинулся навстречу Меншикову, но перед самым носом его нырнул под руку, ударив головой в живот. Князь переломился в поясе, лицом наткнулся на жесткий кулак Бармы. Кирша с Митей сломали офицера. Пинелли упал от удара Першина, и тот, навалившись на него, душил итальянца за горло. Барма кинулся на выручку, но Дарья Борисовна опередила его: сбила Першина подсвечником.
– Вяжите их! Ишь расшумелись! – сказала, всего лишь четырьмя словами подведя черту под своим прошлым. Да что заживо-то оплакивать себя: голова пока на плечах.
Светлейший был в беспамятстве, рвано дышал, всхлипывал, изо рта, из носа хлестала кровь. Барма и Кирша связывали офицеров. Рядом, не зная, чем заняться, топтался Пинелли. Ему не приходилось у себя на родине видывать такие сцены. В России надо ко всему привыкать. «Драться надо, ежели нет выхода», – запоздало решил Пинелли и, подступив к Першину, потребовал:
– Отпустите его! Бить буду!
– Что, – рассмеялся Барма, – и тебя разобрало?
– Что ж будет-то, а? – потирая разгоревшиеся щеки, говорила Дарья Борисовна. – Что будет теперь, Тима?
Не за себя – за Барму и отца испугалась. Сейчас им не только в столице, во всей России места не сыщется.
– Уходить надо. Этих оставим, – отрывисто бросил Барма, все уже про себя решив. – Я бы на твоем месте взял с собой, что подороже.
Дарья Борисовна ткнулась влево, вправо, убежала в дальний угол комнаты и скоро вернулась оттуда с резной, даренной Бармою фигуркой.
– Вот безголовая, – пытаясь отнять у княжны крохотного костяного зайчонка, с ласковой укоризной молвил он. – Брось! Нам не до игрушек.
– Не дам! Не дам! – вскричала княжна и, спрятав зайчонка на груди, поманила Барму за собой. Скрывшись в опочивальне, прильнула к парню, и оба забылись. Долго ждали их Митя, Пинелли и Кирша. Светлейший пришел в себя, грозно повел вокруг обсиненными глазами.
– Вы скоро? – набравшись смелости, постучался в опочивальню Митя.
– Весь свет затмила, – шепнул Барма, обнимая напоследок княжну.
– И ты, и ты… – не выпуская его из объятий, говорила Дарья Борисовна.
– Осудят: с простолюдином связалась.
– Плюю на их суд! – гордо вскинула княжна голову. Вытряхнув драгоценности из ларчика, отдала Барме. – Не поминай лихом, Александр Данилыч, – церемонно поклонилась Меншикову, – и прости, что неласково обошлись.
– К Дуне, – сказал Барма, отвязывая вожжи. – Потом к Верке.
Добры соловые у светлейшего! Летят, как ласточки! Знай только вожжи натягивай.
– Коней-то после куда? – спросил Кирша, в душе надеясь, что хоть одна из этих холеных лошадей достанется ему.
– Считай, опять тебе повезло, – усмехнулся Барма, угадывая его мысли. – Смотри, не теряй боле!
– Теперь уж не потеряю! Ой-я! – счастливо вскричал ямщик.
Верку искали по многим кабакам – не нашли.
– Верно, сгинула, – жалея девку, вздохнул Барма. – Обошла ее судьба.
А Дуня упрямилась: «Поезжайте, – сказала. – Я Бориса Петровича ждать стану».
Барма сердился, еще больше морща и без того изрубленный складками лоб. Митя помалкивал, вздыхал. Дарья Борисовна торопила.
– Ехать надо, пока Меншиков не хватился.
Так вышло, что время и случай свели и породнили всех этих очень разных людей. И враг бывший, князь Юшков, стал вдруг предметом общей заботы. Он же был и причиною недовольства Бармы. Дарья Борисовна доказывала княгине, что оставаться здесь опасно и бессмысленно, но в душе одобряла решение Дуняши, восхищалась ее спокойным бесстрашием.
– Мне без Бориса Петровича неможно. Муж он мне, – на все их доводы отвечала Дуняша.
– Вызволим его после, ежели жив, – пообещал Барма, но Дуня только головой покачала. – Что ж, прости, Дунюшка, и – прощай, – печально вздохнул он. Сердце сжалось: «Опять беда над нами нависла. Что за поветрие? Опять беда».
– Прощайте. – Дуня обняла каждого, расцеловала. Дарье Борисовне шепнула: «Люби Тиму-то, он славный!»
Та вспыхнула и благодарно поклонилась ей до земли.
– Я с княгиней останусь, – решил Пинелли и, как ни уговаривали его, отвечал лишь одно: – Это решено, остаюсь.
– Прощай и ты, Леня, – развел руками Барма. – Храни сестрицу. Тебя ж храни бог.
Они уехали. Пинелли, почитав княгине Петраркины сонеты, отправился выяснять судьбу Бориса Петровича. Мимо него в полицейском возке пролетел освободившийся от пут Меншиков.
Итальянец кинулся обратно, но запоздал.
Ворвавшись к Юшковым, светлейший пробежал по всем хоромам. Дуню отыскал в тереме. Глядела в окно, думала о братьях. Обернувшись, улыбнулась спокойно, приветливо сказав:
– Добро пожаловать, Александр Данилыч. Хоть и без хозяина – задержался где-то, а приму тебя с почетом.
– Где братья твои? – грубо спросил князь, облизывая кровоточащую губу.
– Братьев давно не видала. Не ладят они с Борисом Петровичем.
– Вре-ешь! – Меншиков больно схватил ее за руки, но, словно бы устыдившись этого жеста, хватку ослабил: в него смотрели огромные, вобравшие в себя чуть ли не все небо глаза. – Врешь, – повторил тише.
– Гоже ли князю так вести себя? Князю светлейшему, – прожурчала Дуняша. В лице побледневшем, в тихом, спокойном голосе столько силы и столько достоинства, что Александр Данилович, привыкший к почтению и подобострастию, смутился, выпустил ее тонкие, почти детские руки. «Афродита… живет со старым сатиром», – мелькнула завистливая мысль. Ее тут же настигла другая: «Молода, не балована, возьму в полюбовницы».
– Как звать тебя? – спросил, приосанясь.
– Авдотья. Авдотья Ивановна.
– Дуня, Дуняша, – подхватил князь, улыбаясь страшным, разбитым лицом. – Не для этого дома ты создана. Дворец высокий построю! Жемчугами осыплю. Птиц райских насажу в клетки. Люби меня!
– Я жена мужняя, – сказала княгиня, разминая посиневшие, слабые пальчики. Удивилась: человек, призванный вершить законы России, сам творит беззаконие. Отчего он, словно басурман, ворвался в дом чужого человека, предлагает что-то непотребное? Стало быть, ни бог над ним не властен, ни царица. Суд человеческий презрел.
– Была мужняя, теперь свободна, – усмехнулся князь уголком рта и провел перед глазами ладошкой: не снится ль ему это тихое, синеокое чудо? Не напустил ли кто дурману? – Свободна и… моя, – прохрипел он, оглядываясь на офицеров. Те поняли все, неслышно скрылись за дверью.
– Что говоришь, князь? Я мужу верна.
– Он стар и… мертв. Сдох он, сдох твой муж!
– Ты убил его? За что? Он служил тебе верно!
– Кабы верно – жил бы! За измену и поплатился. Он и тебе изменял! Всех полюбовниц его знаю.
– Не клевещи, Александр Данилыч! Стыдно!
– Моей будешь! Аль им отдам! – пригрозил Меншиков, указав на дверь, за которой скрылись офицеры. – Кость сладкая.
– Не посмеешь, ежели крещен.
– А, не посмею? Эй вы! Ко мне! – Меншиков крикнул офицеров. Дуня, однако, выскользнула из светлицы через другую дверь, закрылась там на защелку. Вынув из шкатулки даренный братом нож, проговорила:
– Не заходи, Александр Данилыч! Живой не дамся.
Стояла у дверей, приставив к груди нож. Минуту назад еще не помышляла о смерти. Да и теперь, чувствуя на коже острое лезвие клинка, верила, что немолодой и, верно, мудрый человек этот образумится.
«Пужает», – решил князь, не поверив ее обещаниям. Моргнул офицерам.
– Не хошь со мной, с ими тешься.

Дверь от удара першинского ботфорта затрещала, резко ударила по рукоятке ножа. Нож по самую рукоять вошел в Дуняшину грудь.
– Господи, что же я натворил-то? – склонившись над молодой женщиной, прохрипел князь. Ему стало худо. Лицо вздулось и посинело. В глазах плескался красный туман. Не верилось, что это хрупкое создание так решительно и так скоро могло уйти из жизни. Все казалось игрою, и в эту игру никто не поверил.
– Себя порешила, – успев подхватить покачнувшегося князя, сказал Першин. – Не дура ли?
– М-молчи ты! Ммолчи!.. – сквозь зубы процедил светлейший и, старчески шаркая, сутулясь, выбрел на улицу. Вышел – воздуху не хватало; разодрав ворот, задышал шумно, с хрипом. – В тюрьму, – приказал перетрусившему Першину.
Не знал, зачем туда ехал. Не затем же, чтоб известить Юшкова о гибели его жены. Ехал и глушил в себе вспыхнувшее чувство вины, а оно жгло все сильней. Не раз на веку своем отправлял людей в мир загробный, отправлял в муках и смотрел на их корчи спокойно, порой испытывал от мук врага наслаждение: помирает ненавистный человек, который и сам был бы рад посадить тебя на кол. Но смерть юной княгини князя сразила. «Что же я натворил, подлец этакий? Зачем ради прихоти минутной оборвал крылья бабочке? Подлец, подлец!»
…В стылой, со вчерашнего дня нетопленной избе, кутаясь в шубу, сидел Пикан-старший, молчал, уставясь в угол скорбными глазами.
«Дуняшка! – повторял он хрипло. – Доченька…»
– Ипатыч! – звал его Тюхин. – Колодец рыть пойдем?
– Всё – колодец, – глухо отзывался Пикан. – И все мы в колодце том.
…Меншиков, неузнаваемо постаревший, вошел в темницу.
– Выбирай, князь, – сказал без предисловий. – Сибирь или плаха?
– Мне все едино, – равнодушно отозвался Борис Петрович, еще не зная, что стал вдовцом.
– Поповна твоя… себя порешила… Любила тебя поповна, – завидуя князю даже в несчастье, сказал Меншиков. Ждал: Борис Петрович расплачется, начнет рвать на себе волосы. Юшков принял страшную весть спокойно, перекрестился:
– Царство ей небесное!
– Ну так как же, что выберешь?
– Руби голову. Будет, попрокудил на этом свете, – приговорил сам себя.
– Не-ет, нет! В Сибирь поедешь! Заживо гнить там будешь! До скончания века, – взорвался светлейший, задумавшись: «А как бы я такой суд принял?»
– Век-то мой кончился, чужой ворую, – ответил Юшков. В голосе слышалось безразличие смертельно уставшего от жизни человека. – Чужого не жалко.
Часть вторая
1
Путь санный развезло. Поначалу все ехали, потом шел пешком Кирша, за ним – Митя, а затем и Барма. В возке осталась Дарья Борисовна. Сидела, укутавшись в теплую шубу, дремала, улыбаясь сладким своим грезам. Как странно, как неожиданно выстраивается судьба! Не думала, не гадала, что попадет в опалу вместе с отцом. О Тиме только мечтала, себе не смея в том признаться. Отец собирался выдать замуж за князя Черкасского. Род именитый, знатный. Но случай спутал все карты. Не быть уж княгиней, не быть. Станет женою шута, скомороха. Побредет за ним, куда позовет. И обойдут они всю Россию, счастливые, вольные, сами себе владыки. Тима… Тимоша!
Барма оглянулся, как бы услыхав ее зов. Оглянулся, но не остановился: «Надо спешить. Если успеем добраться до Чаг-озера, там не задержимся долго. Клад сыщем – купим корабль, и по морю. Митя не о голове своей тревожится, морем бредит. На море ему ничто не страшно. Если Никитка не обманул – все сбудется. А коль обманул…» Об этом и думать не хочется. Барма сомневался, что клад уцелел, но спутников своих не тревожил. Хлюпая по намокшему снегу, чему-то рассеянно улыбался.
– Как там Дунюшка наша? – Митя шагал за братом след в след. Шагал размашисто – брызги во все стороны: моряк он и есть моряк.
– Не боле тебя знаю, – насупился Барма. Сердце было неспокойно. Юшков в узилище, Пинелли не только ее – себя защитить не сможет. Куда легче и спокойней было бы, если б Дуня сидела в санях рядом с Дашей. Что теперь с нею? На воле или в темницу брошена?
– Быстрее! Быстрее! – заторопил Барма спутников. Пропустив вперед брата, махнул в сторону и выше пояса провалился в снег. Под снегом – полна воды – канава.
– Вот и купель… окрестился, – зуб на зуб не попадая, смеялся Барма.
Даша тревожилась:
– Испростынешь! Лезь ко мне, грейся.
Барма, ни перед кем не робевший, смутился, упрямо замотал головой. Давно ли из озорства в тереме светлухинском, обозлившись на своевольную княжну, при ней, при слугах чуть не сдернул с себя порты. Теперь вот сесть рядом не смеет. Не потому ль, что тогда не любил, причислял ее к ненавистному чванному боярству? Между прошлым и настоящим – пропасть. Своя Даша стала: не княжна – товарищ.
Остановились. Натаскав сушняку, Митя занялся костром. Озябшие руки не слушались: где-то обронил перчатки.
– Эх ты, неумеха! – Даша выскочила из возка, кинув свою шубу Барме. – Сними с себя все, завернись. Я не гляжу.
Кирша еще и лошадей не выпряг, а костер уж потрескивал. Поставили в чугунке мясо, купленное в окраинной лавчонке, парил закаменевший хлеб. Даша, укутав Барму шубой, развешивала на ветках его порты, исподнее. Митя грел за пазухой пузырек с чернилами, вострил перо.
«На пути к Чаг-озеру, – записал по въевшейся с давних пор привычке, – Тима по самый пупок вымок. Разбили бивуак».
Больше писать было не о чем. Сунув тетрадку за пояс, аккуратно заткнул чернильницу, попытался определить место нахождения. Что определять-то: в двух днях от столицы. Ель, под которой устроились, задымила, уронив в костер ком смешанного с хвоей снега. Снег зашипел, растаял, поднялся синим облачком.
– Чо хоть записываешь? – любопытствовал Барма, отодвигаясь от Даши, которая «нечаянно» прижималась к нему.
– Разное, – нехотя отозвался моряк, потуже затягивая пояс.
– Почитал бы, ежели не крамола, – донимал брат. – Поди, на царицу замышляешь?
– Нужна она мне, твоя царица! – пробурчал Митя, не выносивший насмешек.
– Может, на нас донос пишешь? За фискальство ноне платят щедро.
Митя не вытерпел, съездил брата по уху. Тот выпал из шубы.
– Охо-хо-хо! – затряслась от хохота Дарья Борисовна, прикрыв неплотно сжатыми пальцами глаза: «На каменных голых мужиков смотрю, что ж на живого не поглядеть? Мой ведь…»
– Я те, вот я те щас, – обозлился Барма на брата, догадываясь, что Даша за ним подсматривает. Запахнув шубу, кинулся на Митю, но шуба вновь спала.
– Стыд-то какой! Ох, стыдобушка-а! – изображала смущение Дарья Борисовна, руки ж от глаз убрала.
– Стыдно, дак отвернись, – сердито посоветовал Барма, натягивая недосохшие порты. – Чо уставилась?
– Мое же, потому и смотрю. Привыкаю, – ответила княжна с улыбкой.
– Не твое пока, – проворчал Барма и тут же пожалел о сказанном.
– Чье же? Ну, сказывай! – топнув ногою, потребовала Даша.
Барма молчал. Глядел на клочковатое сизое облачко. Над тем облаком гуляло бледное солнце; дымилась разопревшая от огня ель; ломая гнев свой, примирительно улыбалась Даша, и нетерпеливо покусывал ус моряк. К морю, к морю!
Кирша, отвязав коренника, надевал на него хомут. Жеребец сам подставлял морду, нырял в него, как рыбина в попрошайку. «Ми-илый ты мой! Работничек!» – растроганно хлопал его Кирша по тугой холке.
– Поспешай, Кирша! – Не утерпев, Барма сам стал запрягать левую пристяжную. – Скоро совсем развезет.
Ветерок, дремавший в ложбинке, вылез оттуда, воровато огляделся, свистнул. Скрипнула, зашелестела хвоей старая елка, сбросила с веток последний снег. Огонь рассерчал, плеснул по обочине кострища, но скоро сник. Задымились, затлели черные головни. Коренник гремнул удилами, скосил глаз на погасший костер: похоже, раньше не видывал. В лесу-то не бывал: городской житель, все больше по питерским улицам рысил, офыркивал каменные мрачные здания. А тут просторно, боязно: пахнет так незнакомо и чудно зверьем, лесом, сырым и чистым снегом. Под копытами не камень, не дерево – мало наезженная хлябь.
– Трогай! – Барма огрел его плетью. Ударил и застыдился: «Что это я? Никогда ведь не бил живых тварей. Суетлив, жесток стал. Вот что значит потереться при дворе. Да, чего-то недостает мне», – выхватив рассеянным взглядом клок леса, показавшегося вдали, думал Барма, испытывая неясное беспокойство. Лесишко был тощ, робко жался к деревне, напоминая толпу нищих, просящих пристанища. Он мерз посреди земли, заживо гнил, умирая.
– Деревеньку-то лучше объехать, – перебивая мысли Бармы, поопасился Кирша.
– Не тут нас ищут.
Конечно, их ищут не здесь. Пусть ищут. Русь велика. Непросто затравить таких зайцев.
«Зайцев? Вот кого не хватает мне! Дружка моего косоглазого! Добрая, шаловливая животинка! Другой ушастик сможет ли тебя заменить? Человек человека заменить не может, Зая, это я знаю точно. Тоже вроде одинаково двуноги, на деле – разные все… Деревни ж следует остеречься. Кто знает, что там говорится и что думается за толстыми бревенчатыми стенами. Какие добрые и недобрые замыслы вынашиваются».
– Сверни в сторонку, – сказал Барма вслух. – Я в деревню сбегаю.
Дом крайний, почти развалившийся, ставнями доставал завалины. Окна забиты старыми досками, заткнуты тряпьем. У иструхлого, без ступенек крылечка лежала облезлая пегая собака. Увидав чужого, сипло гайкнула и снова положила голову на лапы. «Что мешаешь? – понял ее Барма. – Я помираю».
«Тут и жилым не пахнет», – подумал он, ежась и вздрагивая. Избная дверь была открыта. В доме выстужено. На нижнем голбчике, закутавшись в драный армячишко, корчился парнишка лет десяти – двенадцати. Увидав Барму, промычал что-то, слабо дернул губами.
– Что ж ты мерзнешь тут в одиночку? Чей ты? – тормоша ребенка, допытывался Барма. Ему казалось, мальчугана, обидев, прогнали откуда-то.
Мальчик был нем. Он показал язык, не исполнявший своего назначения, потом сложил крест. Барма понял: в доме все померли.
– Ты один? Ох ты голубь! – вздыхал Барма над мальчишкой. – Что ж, дружок, собирайся, – обойдя пустую, закуржавевшую в углах избу, велел он. Напялив на мальчика шапчонку, увел с собой. В другие дома и заходить не стал. Сев в сани, долго молчал. Только вздрагивали тревожно веки да медленно перекатывались желваки. Над землею слонялись растрепанные серые облака, сталкивались, текли куда-то.
Голубел пропитанный водою снег. Блажила взбалмошная сорока. Чего-то испугалась она в этом мире, отчего-то встревожилась. Птичья тревога передалась людям. Они хмуро молчали. Лишь мальчик немой улыбался этому дикому и жестокому миру.
2
Звучит дорога, тревожит. То хлюп, то топ. Из-под талого снега в низинках бурлят шальные потоки, синеют наледи, и, сколь ни гляди вперед и по сторонам – лес да лес, да синее небо над головой. Оно не то чтоб уж очень синее, чуть-чуть сбуса, а по-над лесом – в легком туманце. И потому едешь, словно в норе, и не знаешь, где она кончится, и что встретится в конце ее – тоже не знаешь. Но что-то встретится, что-то обязательно встретится. На земле без встреч не обходится. Вертится земля так и эдак и человека на себе вертит. То солнышко ему окажет, то в сумрак закатится: коротай в том сумраке ночь, жди рассвета. А ночи бывают разные: где пол суток, а где и до полугода.
Борису Петровичу не до рассуждений. Сидит, скрючась, в шубу прячется. Сбоку возится окоченевший Пинелли. Сзади, в такой же повозке – в пошевнях, дремлет казачий конвой. Судьбе было угодно распорядиться, чтоб в этом конвое старшим опять-таки оказался Малафей, когда-то сопровождавший Пиканов. Теперь и князь ехал по их следам. Так решил светлейший, еще не подозревавший о том, что это и его дорога. Жертвы и палачи еще не раз окажутся вместе, и хотя бы уж по одному этому до́лжно остерегаться того зверя, которого выкармливаешь любовно в себе, холишь его и прячешь от посторонних. Другой зверь, более ловкий и сильный, сидящий в ином, более удачливом человеке, рано или поздно расправится с тобою. Стыд, горечь, позднее раскаяние за все содеянное – или хотя бы жалость к себе – займут твое время, заполнят все твои помыслы. Время, одно лишь время останется тебе, чтобы вспоминать и оценивать стремительно пролетевшее прошлое. Его не повернешь вспять, не исправишь извилин, обозначивших твой путь. Разве что потомки, которые, став умнее и совестливей, учтя горький опыт предшественников, будут оглядчивей и человечней со своими братьями.
Минутная прихоть сильного, стоящего у власти, каприз или несдержанность, случается, в один миг ломают так трудно и так долго строившееся счастье людей… Дите не может все годы своего детства забавляться одной и той же игрушкой. Если не купят новую, он украдет ее или сделает сам. Но старую перед тем разрушит.
Так рассуждал сам с собою Пинелли. Князь думать не мог. Узнав о гибели жены, за несколько дней превратился в развалину. И вот эту развалину зачем-то везли в Сибирь. А в подземелье, которое князь оставил, по мокрой стене стекал сказочный город Пинелли. Крысы, посещавшие нового узника, брезгливо обегали грязные лужицы на полу, отряхивали когтистые лапки.
Неунывающий итальянец сидел бок о бок с князем и думал о том, что в далекой Сибири, о которой рассказывают столько ужасов, он все же построит свой город. Нужно только захотеть (он хочет!), найти честных и богатых крезов (он найдет!) и заинтересовать их своими замыслами. Бедный мечтатель не учел одну мелочь: честность и богатство очень редко уживаются вместе. Но иллюзии скрашивали мрачную действительность.
И ехали рядом два человека: лишенный всяких надежд и надеющийся. Первый заживо умер, перестал во что-либо верить, даже в себя самого; второй, вечно бездомный, гонимый, радовался жизни, полной мытарств.
Казаки полдничали. Пинелли соскочил с пошевней и, подождав их упряжку, зарысил рядом.
– Что, мученик, промялся? – уставился на него Малафей. Поджарый, худой Пинелли простодушно кивнул и продолжал бег. – Лови, – Малафей бросил ему початый калач. – Поймаешь – твой.
– Не поймал, – сказал второй казак, рыжий, с колючими глазами. – Отдавай назад.
– Пущай питается, человек же, – строго осадил товарища Малафей. Он досыта насмотрелся на ссыльных, перед кем мог, заступался за них, но всех разве защитишь?
– Бог спасет, – подхватив хлеб, белозубо улыбнулся итальянец и, обогнав казачий возок, запрыгнул на ходу в свои сани.
– На, князь, угощайся, – отломив кусочек мерзлого хлеба, Пинелли вложил его в руку Юшкова. Тот недоуменно глядел на хлеб, словно забыл, для чего хлеб создан. – Кушай, пожалуйста, князь. Кушай, а то умрешь.
– Умер я, давно умер, – хрипло отозвался Борис Петрович. Хлеб надкусил, однако, но жевал его без аппетита.
– Вот и прекрасно. Кушай!
Туман над лесом сдувало. Небо очищалось от буси. Кончался лес. Дорога степью пошла и вскоре вывела к большой реке, к Волге. Поперек России текла Волга, вдоль России ехали князь и Пинелли. В разные стороны ехали, с разными целями, а пути их пересеклись.








