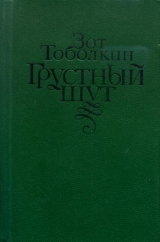
Текст книги "Грустный шут"
Автор книги: Зот Тоболкин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 21 страниц)
– Соловушка моя!!! Зорька незакатная!
Женщина, поймав руку его, приложила к чреву.
Мычали коровы, ржал мерин в пригоне. Пикан не слышал его. Не слышал и шагов воровато заглянувшего во двор Красноперова.
– Ишь устроились! – укоризненно качал головой таможенник. Сорвавшись на визг, потребовал: – Отдавай мою бабу, вор!
Соловей на черемухе замолк. В избе вскрикнул сидевший на цепочке орлан.
– Ты, Семен, двором обознался, – спустившись наземь, одернула незваного гостя Феша. – Я ему жена венчанная.
– Под каким забором вас венчали?
– В святой абалакской церкви. Вон свидетели, – из дому вышли князь и Пинелли.
– Вор! Греховодник! Нашла мужа себе, потаскуха!
– Эй, ты тут не разоряйся! – Пикан, рассердившись, вытолкнул таможенника за ворота.
Петух загоготал. Сдержанно заквохтали куры.
– Ничего, – прижав к себе Фешу, сказал Пикан. – Ничего, переживем.
Потом мелькнуло: «А каша-то заварилась густая! Семен так просто не спустит».
Соловей больше не пел.
19
– Марью видел, – смущенно похохатывая, сказал Тюхин. Они выводили на кремлевской стене мозаику.
– Что ж не позвал ее?
– Звал – не пошла. Сказала, тут скучно.
– Дда, – Пикан размолол между пальцев зеленую плитку, которой должен был завершить образ губернатора, волей владыки помещенного в ад. – Скучно, значит?
– Ага. Не поминай лихом, сказала. За что поминать-то? Худого об ей не думаю. Сам грешен.
– Вот приступлю к службе – покаешься, – усмехнулся Пикан, толкнув соседа плечом. – Владыка с Троицы велел служить в кладбищенской церкви. Как служить-то: все каноны перезабыл. Зубрить начал – слова святые души не бередят. Сознаться в том преосвященству?
– Что, верно за поповство возьмешься?
– Человек должен за что-то браться. Я не у дел пока.
– Будешь кадить на меня ладаном.
– Ага. Дьявола изгонять.
– Не удастся, однако, – рассмеялся Гаврила, любовно оглаживая мозаику. Страшный суд был почти завершен. – Все одно там кипеть буду.
– Не боишься?
– Дак я перед смертью покаюсь.
– Легко судишь. Одно покаяние не спасет.
– А я и там им Страшный суд нарисую. Кто супротив меня станет – того в ад запру, – беспечно отмахнулся Гаврила.
Из архиерейских покоев вышел владыка. Был он суров и мрачен.
Подле художников остановился, сперва на них взгляд кинул, пронзительный, быстрый, потом – на галок, оравших на колокольне, и только после этого принялся рассматривать почти исполненный заказ. Воздерживался, чтоб не углядели злорадства: в аду кипел губернатор. «Опять тобольским глупцам потеха. Людям нечем умы занять. Ежели нечем – мы с губернатором вас распотешим. Думайте, будто мы вас глупей и не понимаем, сколь недостойны и смешны наши показные ссоры, нелепое соперничество. Думайте, а мы приглядимся и возьмем на заметку: кто из вас каков. Одни – Кобылин тоже – приезжают и наговаривают на губернатора, желая поживиться от владыки, другие – тех меньше – на владыку. А мы втайне сойдемся, посоветуемся. И – на виду – снова враждуем. Делить нам нечего. Губернатор в своем деле первый, я – в своем. Он, правда, простоват немножко, у супруги своей под пяткой, но мужик честный… по здешним понятиям. Здесь кто не грешит? Без страха живут сибирячки́, на бога вприщурку смотрят, на власть предержащую лаются».
– Ладно ль, владыко? – с тревогой спросил Гаврила, тоже греховодник известный. «Неспокоен, тревожится. Пусть потревожится чуток. Выскажу легкое неудовольствие. Но мастер, отменный мастер! Не отнять, не прибавить. Ишь как властителя-то вывел! При жизни в геенну попал. Весь город хохотать будет. А кто-то задумается: «Жизнь – разве не ад?»
– Ладно-то ладно, – преосвященный прикинулся недовольным, пристукнул посохом и строго уставился на Пикана. – Ладно-то ладно и даже лепо. Но вы, однако, подумайте! – для вящей убедительности погрозил тонким перстом. Тем же перстом поманил к себе Пикана, легонько дернул за бороду.
– Ну ты это… рук-то не надо! Не люблю, – буркнул Пикан, оторопев от архиерейской выходки. Всего ждал: гнева, епитимьи, только не таски. Сроду за бороду никто не дергал.
– Не любишь? – тоненько вскрикнул владыка. – А грешить любишь? Любишь грешить, окаянный? – дернув посильней, вопрошал владыка. И – вдруг всем телом подался вперед. Святую владычную бороду ожгло: Пикан дерзко вобрал ее всю в ладошку, рванул на себя. Даже Гаврила опешил. Это ж надо: самого преосвященного треплет за бороду! Ну, будет ему теперь! Тут уж ничем не спастись.
– Пусти бороду-то, пусти… – с тихим отчаянием молил владыка, на глазах выступили бессильные слезы: вдруг кто позор его видел? Оглянулся – кроме Гаврилы на подворье никого. Да и тот деликатно отвернулся, постукивает молоточком.
Пикан выпустил владычную бороду, до земли склонился:
– Прости, владыко! Хошь – в землю зарой заживо, а бить не моги. Без сдачи не бивали, ежели руки были свободны. На дыбе увечили, дак то в державе нашей привычно. Прости, отец святой, непорочный! Не то жизни себя лишу! Сроду на старших не подымалась рука. Сам не знаю, как вышло. Чту тебя, как отца родного…
– И потому руку на меня поднял? – смахнув обидные слезы, дрожащим голосом пытал владыка. – На родителя своего кто замахивается? – Преосвященный, забывшись, толкнул Пикана посохом.
– Каюсь, отче святой. Наложи епитимью, в тюрьму кинь, – снова суровея, насупился Пикан. – Посохом – не моги! Изломаю посох.
Куда-то и слезы девались, и раскаяние, склонившее его перед тонким разгневанным стариком, облеченным высочайшей духовной властью. Напоминал страшного неприрученного зверя.
«Возьмет в лапы, и – пополам, как прутик!» – без страха усмехнулся владыка. Несвойствен ему страх. Привык, чтоб самого боялись. А более всего почитали. «Мужик, да еще грешный, отважился дерзить? Много ль вокруг таких сыщется? Согнули, притоптали народ! Безгласен он и безволен. Молчит народ…»
– Ишь ты! – грозил владыка, косясь на Тюхина, который, не выдержав, все-таки фыркнул. – Ишь… посох… Вот я тебе!
Сам дал кружок подле Пикана, поворчал что-то в бороду и, ткнув в Страшный суд пальцем, выронил:
– Там, там будешь! Все там будем!
Зайдя в покои свои, снял хмурь с лица, рассмеялся:
– Посох, говорит, поломаю! По-сох! Ну мужи-ик!
Гаврила, одобрительно хлопнув Пикана, расхохотался.
– Как видно, отслужил я, Степаныч. Опять тюрьма либо ссылка. А Феоктиста тяжелая, – вздохнул Пикан, браня себя за несдержанность. Знал, однако: случись, ударит кто по левой щеке – получит сдачи по правой. А то и по двум сразу. Владыку сан высокий хранит. Хотя родитель покойный говаривал: «Перед господом нашим, вседержителем, все одинаковы. Все голенькими родились».
– Ничо, обойдется. Владыка любит отчаянных. Сам не робкого десятка. Ну ежели что – я сюда его пририсую, – Гаврила указал на картине место, вновь рассмеялся.
– Тебе смех, а мне горе, – Пикан сокрушенно качал головой, готовился к худшему.
20
Не сгинет род Пиканов, пока жив на земле хоть один из них. Живы трое, а еще двое просятся жить. В них чудно перемешалась кровь простых и работящих поморов с татарской и княжеской кровью.
Даша корчится на корме дощаника, кусает губы: боль ломает.
На реке морщь от бокового слабого ветра, а ей мнится: весь мир сморщился. Закричать бы, криком всех оглушить. О-ох!
Барма не слышит ее, песню горланит. Гонька пишет. Бондарь, орудуя жигалом, возится с кувшином. Неутомимы, вечно в делах братья Гусельниковы. Четверо скоблят лошадиную шкуру, еще четверо моют палубу. Полтора-Петра и Степша вместе с кормчим несут вахту. Митя, стоявший всю ночь у руля, отдыхает.
Живут, плывут.
Барма сон видел: отец снова женился. На радостях, что ль, запел одну из стихир, в которой были сплошь кощунственные слова. Ему подтягивала невеста, тоненькая, славная, нерусского обличья. Барма подарил родителю две костяные фигурки.
– А у меня есть, – похвастался старый Пикан, одну возвращая.
– Блудень старый! – усмехнулся Барма.
Пикан разгневался, сняв опояску, ожег Барму. Через многие версты перелетела отцовская опояска. Барма ухватился за нее, потянул, удержать не смог, крикнул Митю, Гоньку, Гусельниковых. Ветер гнал дощаник на север, растягивал опояску.
– Держись, Тимка! Все держитесь! – кричал старый Пикан. И все, кроме Даши, взялись за опояску.
«То, верно, дорога наша, – подумал Барма, оглянувшись на жену. – Даша-то почему не взялась?» Та, скрывая боль от него, улыбнулась.
– Тима, – похвастался Бондарь, – я вот пузатиков изладил. Чем бы наполнить их, а?
– Зачерпни водички. – Взяв один из кувшинов, Барма залюбовался. Нехитрое издельице, а попробуй изладить его, когда инструмент – нож да жигало. – Добр, добр кувшинчик! Узор сам наведешь?
– Делай ты. Ты в резьбе искусней.
С берега раздался конский топот.
– Не наши ли это кони? – вслушался Барма. Лошадей, кроме одной, прирезанной на мясо, отпустили. Увидев всадников, мчавшихся вдоль реки, сердито проворчал: – Как есть, наши.
– Першин, – узнал одного Митя. – До чего живуч, собака!
Суденышко выскочило за излучину. Всадник с черной повязкой на лбу обернулся, что-то прокричал плывущим.
– Собака и есть. Укусить может.
Степша Гусельников выстрелил. Пуля угодила в лошадь. Не расседлывая коня, поручик спешился, пересел на другого, и скоро оба всадника скрылись за деревьями.
Гонька записал:
«А за нами гнался офицер одноглазый. Много раз попадался, да все на свою беду. Шло бы и дальше так. Плыть-то нам надобно. Я тут живу лентяем, палец о палец не ударил».
Но едва мальчик поставил точку, его подозвал к себе Митя:
– Есть поручение, юнга. Будешь вести судовой журнал. Тебя, Борисовна, назначаю коком.
– Это чего такое? – не поняла Даша, которой не хотелось, чтобы ее кем-то назначали. Лучше самой дело выбрать.
– Будешь кокать меня башкой о стенку, – Барма сильно стукнулся о мачту, напугав Дашу. – Вот так.
Даша шлепнула его за глупую шутку, не заметив, что перед тем Барма подставил под затылок ладонь.
– Не кокать, а кашеварить, – строго поправил Митя.
– А, то можно. Дашь мне Тиму в помощники.
– Я согласен: из чашки ложкой, – подмигнул ей Барма. Приметив селенье вдали, сказал: – Сулея, братцы!
Городок был неблизко, но река здесь бежала прямо, и потому он виделся издали. Митя остерегся плыть к городу, боясь, что их может встретить Першин.
– Заходи в протоку, – скомандовал Егору.
Приставая, слышали: в городе поднялась какая-то кутерьма.
– Колокольным звоном кого-то встречают, – вслушиваясь, сказал Бондарь. – Нас аль Першина?
– Может, празднуют, – возразил Барма. – Ты, святая душа, часом не знаешь, какой день сегодня?
– День-то? – почесал переносицу Бондарь. – Погожий.
Митя внимательно всматривался в берег, искал, где лучше пристать.
– Проточка-то к острову ведет, – сказал Гусельников-старший. – Веди прямо – попадешь на остров. Там нас никто не сыщет.
Завилась, закрутилась проточка, будто нитка в узоре: ни конца, ни начала. То петлю выпишет, то восьмерку. Убрали парус. Дощаник ткнулся с разбегу в тихий, заросший тальником затончик. Братья, нарубив веток, забросали суденышко – в двух шагах дощаника не заметишь.
Весь берег затянут кустами, осокой, хлябающими кочками. Сквозь ближний лесок видится закатное солнце. Оно уж накинуло на себя темное одеяло. Лишь верхняя четверть выступает из туч.
– Я там вон ланись взял росомаху, – сказал Степша. – Притомился, заснул. Она, злыдня, котомку мне порвала.
– Красота-то какая! Бла-алепие! – гудел Бондарь, не боясь, что может быть услышан. Из лесу, путаясь с перепугу в собственных крыльях, выфуркал табунок куропаток. Круша кусты и молодую поросль, кинулся напролом не то медведь, не то сохатый.
– Тише! – цыкнул Егор, хотя вряд ли кто мог здесь их слышать: глушь и безлюдье.
Барма, раздевшись, с разбега сиганул в реку и пропал. Подождав минуту-другую, Даша забеспокоилась: «Не утонул ли?»
Барма не всплывал, но вот на середине реки забелело что-то – не голова. Голова оставалась под водою.
– Ти-има-а! – Забыв, что не умеет плавать, Даша кинулась в воду, попала в воронку. «Утопленник» щукой ринулся к ней и – вовремя. Даша, нахлебавшись воды, уж пошла на дно. На берегу, придя в себя, разрыдалась.
– Ну полно, Даня! Полно тебе! Утонуть мне не суждено – под одеялом твоим помру, – утешал ее виновато Барма. С шуткой, пожалуй, пересолил. Да уж так скроен: всегда проказил. – Ежели реветь любишь – иди в монастырь. С шутом надо смеяться. Выбирай: смеяться аль реветь?
– Смеяться, Тима. До последнего издыхания смеяться.
– Вот истинная жена скомороха! Смейся, пока живешь? Помрешь – другие смеяться будут.
21
Ни комара тут, ни грязи. Тишина, которую по утрам ломают проснувшиеся птицы. Нет-нет да и зверь подкрадется. Его не трогают. И он никого не задевает. Зверь здесь никого не задевает. Мир на острове, согласие.
Полтора-Петра наловил окуней. Гонька чистит теперь рыбу. Даша варит уху. Бондарь с тоскою заглядывает в неосвященные кувшины. В них пусто.
– Сотвори новое чудо, Кеша: преврати водичку в вино, – советует Барма, напоминая о «чуде» с цепями.
– Час не грянул, – вяло отзывается Бондарь. – Вино после полуночи добываю, когда сатана ходит на промысел. Чтоб господь не видал.
– От бога не прячься. В меру-то и Христос принимал.
– Не сходить ли нам в город? – с надеждой поглядывая на Митю, спросил Бондарь.
– Надо бы, да боюсь, Першину в лапы попадете.
– Ну, братко, не скоморох я, что ли? – Барма выворотил мехом наружу шубу, забрал волос под монашескую скуфейку, вывернул веки и, взяв сухарик в рот, перекосил хитрое скуластое лицо.
Дашу передернуло от омерзения:
– Уй, с кем я жила!
Перед ней стоял бесноватый с морщеным пучеглазым лицом, с одутловатыми щеками; на скошенный безвольный подбородок стекала слюна.
– Сосуд, сосуд, сосуд скудельный! – гнусаво и хрипло кричал Барма. Кинувшись к ней, облапил, забормотал невнятно: – Дьяволица! Исчадие ада!
И не знай Даша, что это муж ее, упала бы в обморок.
Бондаря одели в костюм Терехи. Вынув из мешка своего усы и бороду, Барма наклеил их, а сверх того подрисовал на щеке Бондаря шрам.
– Мать родная теперь не узнает, – похвалил Митя старания брата.
– Я тоже с вами, – запросился Гонька. Его взяли: малец – не обуза.
– А вериги-то? – хватился Бондарь, вспомнив о кувшинах своих. Связав их, повесил на плечи Барме. – Вот теперь ты почти что святой. Не тяжело? – спросил заботливо. Тут же успокоил: – Носи, пока пустые. Полные – сам носить буду.
22
На лицо Фешино упала искра. Она открыла глаза, ахнула: через окна ползли три красных змея, брызгали жаром.
– Ва-аня! Ваню-юшааа! Гори-им! – затрясла она мужа.
Пикан улыбнулся во сне и, перевернувшись на другой бок, подложил под щеку ладошку. Снились ему радостные, давно забытые сны. Будто собралась семья в Светлухе. Потаповна с Дуней закрылись в горенке, шепчутся там о чем-то. Пикан с сыновьями сидит за столом, разглядывает смуглую и будто знакомую женщину. Видел ее когда-то, но где – вспомнить не может. И имя запамятовал. Но вот вспомнил, пробасил ласково: «Татарочка моя…» – и проснулся от крика.
Вскочив, кинул на окно одеяло. Огонь рвался через одеяло, жег руки, клубился и рокотал в соседних двух окнах. Верно, и в других комнатах было то же. Второпях натянув на себя штаны, схватил Фешу на руки, вынес на улицу. Вспомнив про князя и Пинелли, вернулся в дом и выволок их прямо в исподнем. Сбежались с ведрами и баграми соседи, но было поздно: дом занялся со всех сторон.
– Проспали… – сказал Пикан. – Давай, сосед, твои хоромы спасать.
Разворотили заплот, соединявший дома соседей, стали поливать водой. И хоть неблизко дома стояли, но искры с пожарища долетали и к Тюхину. Одна из стен его амбара зашаяла, но ее скоро залили.
Крыша пикановского дома между тем рухнула. Пламя дожевывало стены. Внизу оно ярилось, металось от стены к стене, вышибало тучи золотых мух. Облизав нижние венцы и превратив в угли пол, успокоилось.
Легко и споро огонь расправился с надежным жилищем. Но горький дым еще долго вился над местом, которое недавно называлось Пикановым домом.
Лица соседей были добры и сочувственны. Кто-то ахал, кто-то зябко подергивал плечами, кто-то бормотал теперь ненужные сочувственные слова: «Не повезло бедняге!» Безучастно топорщился князь; завернувшись в толстый ковер, философствовал Пинелли:
– Не огорчайтесь, сеньоры! На этом месте мы выстроим новый город! В нем все решительно будут счастливы.
– Скоро выстроишь-то? – хмыкнул Тюхин.
– Это зависит от нас.
– Силен человек, огонь сильнее, – бормотал князь. В нем просыпалось чуть слышное самому любопытство к жизни. Был дом – и нет дома. Был человек – и нет человека. Что между этим?
Между этим выходила – жизнь. Ведь в доме менялись люди, менялись судьбы, и время терло их на своей терке, то высветляя день или год счастьем, то вымарывая его черным горем. Горе ли, что Пикан остался без крова? По князю выходило, – не горе. Потому что жизнь сожалений не стоит. И стало быть, все блага, все ее беды тоже того не стоят. И все же, все же в том, что живет человек, мучаясь и радуясь, есть какой-то пока непонятный князю смысл. А этот глупец долдонит о сказочном городе. Можно ли выстроить его? Наверно, можно. Но зачем? Пускай все идет своим чередом.
– Вот ты построишь, – прервал князь свои размышления, – огонь возьмет и твой город слизнет. Пепел останется.
Пинелли рот разинул: предусмотрел все – и как выстроен будет город, и сколько понадобится сил и средств, и как станут жить в нем граждане, – о стихиях не подумал.
– А кроме того, – продолжал безжалостно князь, и слова его после долгого молчания были особенно значимы; услыхав их, Пинелли вжался в себя, стал меньше ростом, – кроме того, Луиджи, будут ли в твоем городе счастливы все? Счастье у каждого свое. Оставь этот бред глупцам и займись своим ремеслом. Ты искусный ваятель.
– Не мешай человеку! Пущай грезит, – заступился Тюхин за итальянца. – Может, просит душа. Душе претить надо ли?
Феша вслушивалась в дальний крик петухов, прокарауливших нынче солнце. Оно уж выплыло, огромное, красное, напоминая людям, что каждый день начинается заново. Надо радоваться всякому дню: он неповторим.
Петухи замолкли, и на обгоревшей черемухе обидчиво свистнула пташка. Опал цвет пьянящий, пенный, наметились первые вздутыши ягод. Огонь излюбил черемуху дочерна, а соловей остался ей верен: он так самозабвенно изливался в песне, словно состоял из одного только поющего горлышка.
– Слышишь? – Пикан обнял Фешу и кивнул в сторону палисадника. – Соловушка-то не забыл нас.
Однако и соловей скоро смолк. Соседи, наговорив ободряющих слов, надавав столько же советов, разошлись. На пепелище остались хозяева да Тюхин.
– И все же мы выстроим его! – больной мечтою своей, с вызовом заявил Пинелли. Но в душе его уже шевелилось сомнение. Не раз и не два стучался к богатеям Тобольска, к владыке и губернатору. Губернатор отечески погладил чудака по голове, губернаторша попросила спеть «Баркаролу», угостила вином. Купец Кобылин велел подать милостыню, даже не пустив итальянца на крыльцо.
Владыка посоветовал:
– В монастырь иди, душа чистая. – Он больше других понимал Пинелли и не сердился на него, хотя итальянец признался, что в бога не верует.
– Верь не верь – куда денешься? – ответил ему на это Антоний. – Безбожников тоже господь сотворил.
В конце беседы предложил итальянцу изваять Моисея.
– Видывал я фигуры у мастеров латинских – весьма искусно сделаны. Я так себе это мыслю… – Преосвященный довольно бойко и со вкусом набросал рисунок: каменная скала. Моисей высекает из нее источник. – Не токмо тело – душа утоляет жажду, – пояснил он свой замысел.
Пинелли поделился с Юшковым.
– Владыка – разумный человек. Слушай его, – завидуя итальянцу, который везде оказывается к месту, вздохнул князь. Его руки, единого зерна в землю не бросившие, были никчемны. Хоть сейчас отруби – не жалко. «Так вот и сижу век на чужой шее. Ни умения во мне, ни таланта», – от этой горькой мысли стало страшно и безысходно. Но в то же время проснулась злость, та злость, которая либо разгибает человека, либо окончательно его губит. Князь оказался среди простых, но деятельных и талантливых людей, понял, в чем их сила, по-хорошему завидовал, сам желая уподобиться им.
«Но что я умею? За что могу взяться?» – размышлял он, сознавая, что упустил свое время, теперь уж и смерть не за горами. Умереть бы, как недавно каменщик в кремле, – упал с лесов, или, как рыбаку, утонуть в море. Словом, за делом умереть. А подходящих дел для себя князь не видел.
Мимо пожарища прозвенели цепями колодники, собиравшие у горожан милостыню. За ними бодро протопала полурота. Впереди шагал солдат с дудкой. И ожил князь, и заулыбался. На той неделе познакомился с пленным шведом. Швед трубачом был отменным. И сам князь, когда-то державший крепостных музыкантов, учился у одного из них, у Савоськи, играть на трубе. Потом возомнил о себе слишком, устроил среди подневольных трубачей состязание. Играл и сам, да, как выразился Савоська, видно, медведь ему на ухо наступил. Савоську за неуважение к игре князя пороли. Борис Петрович музыкальные забавы бросил. Сейчас вот вспомнил.
Трубач шведский, вместе с петухами будивший город, просился домой. Его не отпускали, пока не подыщет замену. Тоскливо глядя вдаль, стоял он на угловой башне и трубил, выжидая, когда смолкнут колокола. Смолкнут они – трубач вступает. Так повелел губернатор в пику владыке, желая оставить за собой последнее слово. В великие праздники, когда звон колокольный бесконечен, трубач изнемогал, с тоской думал о родине, где бьется о берег волна морская, где в домике у сосновой рощи ждет его Клара. А может, забыла и нашла себе другого Кнеса…
Князь взобрался к шведу на башню. И с тех пор они дули в трубу по очереди.
– …И возьмусь. И изваяю, – дошел до князя голос Пинелли. – Продам Моисея владыке, товаров накуплю. Сбуду их с выгодой, разбогатею. Чем я хуже Кобылина?
– Ты, может, и лучше его, Леня, – болезненно морщась, вздохнул Пикан, зная, как непросто жить неискушенным людям в этом мире мены и торговли. – Да разум твой иначе устроен.
– Разум человеку принадлежит, – задиристо возразил итальянец. Готов был спорить с кем угодно. – Человек может направить его как пожелает.
– Что ж, пожелай, и пущай все сбудется.
С этого дня пути князя и Пинелли разошлись. Оба ушли искать себе жилище.
Трое остались на пепелище. Четвертый, бившийся в Фешином чреве, еще не подозревал о том, что сулит ему грядущее. Он просто ждал своего часа. Мать и отец нетерпеливо ждали его появления.
– Айда ко мне, сосед, – пригласил Гаврила, когда убрели квартиранты.
– А ненадолго же, Степаныч, – отозвался Пикан и, словно прощаясь, обошел пепелище. – Нам с Фешей снова мытарства выпали. Вечор был я у владыки…
23
Преосвященный грех совершил великий. Преддверием греха было назначение расстриги-попа в кладбищенскую церковь. Прослышав об этом, многие обиженные владыкой и Пиканом недоброжелатели били, челом губернатору.
Вечером поздним, когда дремала на часах кремлевская стража, владыка и правитель, предварительно сговорившись, «случайно» вышли на прогулку. Встретились у Шведских палат. Тут и побеседовали. Губернатор выразил недовольство решением владыки.
– Из Абалакского монастыря челобитная, – сказал, поддерживая за локоть преосвященного. – Ваш подопечный избил монаха.
– Не знаю того. И стало быть, того не было. Слыхал лишь, что кляузник лжив и нрава сварливого. Он будет наказан, – намекая: мол, не в свое дело лезешь, сердито огрызнулся преосвященный.
– Еще пишут, что старовер женат на татарке.
– Татарка крещеная. Греха в том не вижу, – отбивался владыка, дивясь осведомленности губернатора.
– Крещена, да у таможенника уворована, – потирая толстую грудь, в которой булькал смешок, щурился в темноте губернатор.
– Таможенник жил с ней не венчан. Пиканов в церкви Христовой венчался.
Все правильно вроде, и в каждом месте уязвимо. Сочини донос пограмотней, и владыке несдобровать. Выходит, друг-губернатор затеял разговор неспроста. Может, из-за Страшного суда обозлился?
– Колодец больно у вас глубок. А как в нем водица? – ехидненько пытал он, прослышав, что вода в колодце пропала.
– Водица вкусна, свежа. Утре пришлю бочку на пробу, – обещал владыка. Скрывал, что водицы нет. Медведь, которого обучили, ворот впустую крутит.
«Погоди, Моисея высекут – из скалы родник забьет!» – усмехнулся владыка, предвкушая, как удивит губернатора очередной своей выдумкой. Любил удивлять. И удивлял часто.
– Старовера своего уберите. Обиды на него многие. – Губернатор остановился, махнул ручкой в сторону далеких Уральских гор. Там, за рекою, верст за триста, начиналась Европа. – Как бы туда не донеслось.
– Уберу, – уступил владыка и приказал позвать к себе Пикана.
– Бить тебя стану, – предупредил сразу же. – Этим вот посохом. Гневаться не смей!
– Когда бьют, и я бить должен. О том упреждал, – угрюмо насупился Пикап.
– Эй, Феодосий! – позвал владыка монаха, который писал донос. Пикан узнал в нем буяна, дравшегося на площади с медведем. При виде Пикана монах оробел, попятился. От него дурно запахло.
– Боится твоей лютости. Вон, вон! – прогнал владыка черноризника. – Я не боюсь…
«Убоялся бы, ежели бы не сан твой», – хмуро усмехнулся Пикан, не поддержав владычной шутки.
– Руки просят – вот этот статуй бей, – посоветовал владыка, примеряясь к Пикану посохом. – Тоже Антонием зовут.
«Статуй» был куплен в Риме за большие деньги. Кто отлил его из бронзы, владыка не знал, но, увидав святого, проникся трепетом. К тому же святой оказался тезкой.
– Вот бич, стегай его, – совершая святотатство, велел владыка. – Думай, что стегаешь меня.
Почувствовав посох на спине, Пикан забыл про бич и, схватив десятипудового католического святого, замахнулся им на преосвященного. Владыка в ужасе присел, однако удар миновал его. Грохнувшись о камин, статуя развалилась. Отпала голова, отломилась рука.
Увидев неслыханное глумление над святым, владыка оскорбленно всхлипнул, стал приставлять отпавшие руку и голову.
– Прости, отче, забей до смерти – не пикну, – покаянно просил Пикан, пристыженный горем преосвященного, потерявшего дорогую игрушку. Ни одну из икон, стоивших целое состояние, архиерей не ценил так высоко.
– Голову-то не ему – мне оторвал. И руку мне из плеча вывернул. Потому как я и есть Антоний, – пожаловался владыка.
– Твою голову к плечам не приставить. И рука не прирастет. А этого я живо сращу. Никто не углядит, что был сломан.
– Сможешь? – не поверил владыка.
– К утру все излажу.
Радости преосвященного не было предела, когда увидал в прежнем виде скульптуру святого. Ни на шее, ни на плече следов шва не обнаружил. Сунув Пикану деньги, счастливо пробормотал:
– Чародей! Как смог такое?
– Руки-то у меня живые, – усмехнулся Пикан, возвращая деньги. – Не за деньги старался. Наказание какое будет?
– Милости, милости заслуживаешь, – замахал руками владыка. – И от службы в церкви освобождаю. Бери женку свою, бери помощников и плыви на Север. Неси туда слово божие. Будь справедлив с тамошними людьми. Грабят их купцы и служилые. Стон стоит, Иване. А церковь Христова добром и правдой сильна. Где сам не справишься – пиши мне. На всякого управу найдем.
Благословив Пикана, выдал ему подорожные, книг и крестов для новообращенных, провожая, шепнул:
– Про грех-то мой никому не сказывай. Святого… ох, ох! Так-то мыслимо ли? Он хоть и латинский, а все же святой! – Владыка в почтительном ужасе щурился. Глаза через узкие щелочки смеялись.
Пикан, вспоминая о добром и мудром старике, улыбался: «Везет мне в последнее время на хороших людей».
…– Далеко ли? – допытывался юродивый Спиря, часто бывавший в доме Пиканов.
– Отсюда не видать, – буркнул Пикан, усаживая Фешу в лодку. Перешагивая через борт, поскользнулся: рассерженный орлан клюнул в руку.
– Стало быть, по пути, так-эдак, – прыгая следом, решил Спиря. Потом потребовал: – Пташку дай. Кормить ее буду.
24
По случаю вступления в должность нового воеводы в Сулее был праздник. Оттого и звонили с утра до ночи колокола, дымили кабаки, гомонили гуляки. Фон Хербст, сосланный Петром за мздоимство, был обласкан Катериной и из бедного изгнанника превратился во всесильного властителя. Напомнил царице о дружбе с Монсом и сразу возвысился. Имя воеводы выговаривалось с трудом, и потому жители Сулеи предельно сократили его на две, иные – даже на три буквы. В город впускали всех. Выпускали – по особому разрешению воеводы. Фишер, бежавший на своей шхуне в Сибирь, оказался пленником. Судно заполонила толпа гулящих женщин, которых расхватали матросы. Самого Фишера привели к воеводе.
– О, Иоганн! Дорогой мой друг! – Фон Хербст заключил его в объятия, и вот уже третий день бражничали вместе. Больше того, растроганный воевода решил выдать за Фишера сестру, засидевшуюся в девках. Нежная, изрядно перезрелая Гретхен то и дело напоминала брату о его обещании, повергая Фишера в дрожь.
«Я, кажется, основательно влип, – смеясь над обстоятельствами, думал Фишер, но ссориться со своим давним приятелем не смел. – В конце концов можно стать супругом даже этой дебелой коровушки, не слишком искусно вылепленной из куска сливочного масла. Лишь бы не жалась влюбленно жирным горячим боком». Фишер уж пополнил на шхуне запасы продовольствия и поджидал случай, когда сможет незаметно улизнуть из Сулеи.
– Майн либен Иоганн, – ворковала разомлевшая невеста и тащила искателя приключений полюбоваться нарядами. А наедине требовала поцелуев и прочих знаков внимания. Фишер возвращался к приятелю помятый и разозленный. «Чтоб ты сдохла, чертова курица!» – нежно желал он своей возлюбленной. Фон Хербст заговорщически подмигивал, усаживал его рядом. Между попойками ходили в баню, охотились, слушали певцов и сказителей. Теперь вот смотрели долгое действо веселых скоморохов. Фишер видывал это все в Петербурге и потому невыносимо скучал. Разыгрывалась какая-то глупая, очень похожая на жизнь пиеса.
Юродивый, с идиотским лицом скоморох, возвышаясь на помосте, судил людишек, которых приводили к нему, миловал или отправлял в «подземелье» вбивать голыми руками колышек. Подождав, когда вобьют, велел вытаскивать его зубами. На плече у него сидел прирученный заяц. Другой скоморох, рослый, с длинной бородой и со шрамом через всю щеку рассаживал осужденных кружком, следил за порядком.
Среди узников был пьяный солдат, который, не умея отрешиться от строевых привычек, вбивал колышек и присчитывал «ать-два». Кулак у него был дюж, а вот зубы начальство выбило. И потому вытянуть им же забитый колышек было нечем.
Был и Политик, придумавший царю семьдесят два налога.
– Мало! – сердился судья. – До сотни дотягивай!
Политик тужился, предлагал один налог глупей другого, за что получал по уху деревянными «веригами». Наконец он додумался отрезать подданным по уху и за этот недостаток взимать налог. Судья смиловался.








