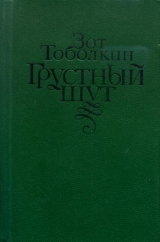
Текст книги "Грустный шут"
Автор книги: Зот Тоболкин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 21 страниц)
Река, ворочаясь под истончившимся льдом, наверно, жалела людей, храня воспоминания о тех, кого видела «Не унывайте, – как бы говорила она людям, не отчаивайтесь. Я тоже много бед пережила на своем веку А вот теку, вас утешаю. У реки тяжкая доля, женская. Все вобрать в себя надо, все отдать морю и людям. Через годы теку, через горы, через пустыни и степи. Когда засуха – водою пою, когда голодно – кормлю рыбой. Теките и вы со Христом, теки-ите! И пусть русло ваше будет полней и чище!»
Из проруби – видно, замор начинался – выпрыгнула щука, за ней другая. Казаки пробили еще несколько лунок и стали подбирать выбрасывавшуюся на лед рыбу.
– Манна небесная, – наблюдая за рыбой, рвущейся на волю из духоты вод, покачивал головой Малафей, радуясь даровой пище. Без воздуха рыбе жить невозможно. Это люди, смрадом дыша, живут. – Ну, айдате, робятушки. Реки-то скоро тронутся.
И потек путь через Волгу, через синеющие рыхлые сугробы, через Россию к горам каменным, куда рвался Пинелли, куда в последний раз ехал Малафей.
3
– Ну вот и озеро, – молвил Митя, первым коснувшись по-весеннему мутных озерных вод. – Где тут клад твой?
– Искать надобно, – Барма подмигнул своему найденышу, придавил пальцем его нос. Мальчик счастливо заулыбался. Видно, ласки-то испытал немного. Закивал радостно, что-то гулькнул и потянулся к своему старшему товарищу. Привязался парнишка к этим бродячим людям, ходил за ними по пятам, ловя каждое слово, а вот сам ничего рассказать не мог. Да и к чему им его горькое прошлое? Не царь, не боярин, у которых родословная, как большая река, из глубин незапамятных вытекает.
– Будем искать, а, Гонька?
– Го-го-го, – загоготал мальчик глухо. За то и окрещен был Гонькой. Барма с Дашей стали его крестными. Княжне все было в диковину. Жила, не зная, что есть иная, увлекательная жизнь, ради которой можно оставить дворец, отринуть богатства и почести и брести по Руси с самым дорогим человеком, с друзьями его, горевать и радоваться с ними.
«Какой-нибудь скит старинный найдем – обвенчаемся, – думала тихо. – Детки пойдут от… от княжны и скомороха».
И не шут почитает с княжной породниться. Она сама желает свадьбы, нетерпеливо считает минуты, когда это свершится.
– Тима, – нежно шепчет она и тайком целует его жилистую жесткую руку. – Тимо-оша…
– Ну, – цедит Барма задумчиво и вдруг оживляется и шепчет в ее порозовевшее ухо: – К приемышу-то ишо бы своего, кровного…
– Будет! – Даша сказала об этом без смущения, как о давно решенном.
– Тут где-то остров есть. И пещера, – оглядывая озеро, вспомнил Барма.
– Веди, – согласился Митя.
Остров обнаружили версты через четыре.
Киршу с мальчиком хотели оставить при лошадях. Но Гонька упрямо замотал головой, потянулся за Бармой. И Даша не пожелала остаться и торопливо семенила за спутниками. Томило ее предчувствие: вот сейчас, именно сейчас свершится то необходимое, желанное. Идти! Или – не свершится, ежели тут остаться.
Пошла.
– Давай-ка, Дарьюшка, на руках тебя понесу, – предложил Митя, косясь на брата.
Барма не слышал или делал вид, что не слышит. Постукивая палочкой, прижимал к себе Гоньку, пел во все горло:
Ой, да наш царь, ох, царь,
Был богат он встарь,
У него, шел слух,
Было мно-ого слуг.
А в лесу студено,
А в лесу темно.
Там разбойнички
Ветром греются.
Наша ночь студена.
Чья же в том вина?
Не пройтись ли нам
Погостить к царю?
Кистенем его
По тугой башке.
Ну-ко, брат, пошарь
Ты в его сундуке…
– Эй, братко! – оттолкнув прилипшего мальчонку, вскричал, не выдержав, Барма. – Не тяжко тебе?
Княжна на Митиных руках сжалась, сползла наземь. В веселых глазах Бармы ей почудилась гневинка. «Ага, ревнует!»
Барма нарочно отвернулся, снова обнял Гоньку и громче прежнего заблажил:
Соколу жениться не впервой.
Где б найти невесту с головой?
Стрекает сорока у куста —
Голова Сорокина пуста.
Каркает ворона: кар да кар.
Бедную певунью хватил удар.
А синиц-то, батюшки, сколь синиц!
Сокол, на синицах не женись…
«Что это он? – схватившись за сердце, задохнулась от обиды княжна. – За что эдак-то?»
Всем стало неловко. Барма ж, как ни в чем не бывало, голосил:
Во лесочке воля, за лесочком дым.
Оставайся, сокол, холостым…
– Ну-ка стой, Тимофей Иванович! – взвилась княжна. Догнав Барму, ткнула кулачком в спину. – Пошто холостым-то? Разлюбил разве?
– Дак ведь из песни слова не выкинешь, – усмехнулся Барма, поводя лопатками. Зло бьет, видно, шибко задел.
– Ой, гляди, душа пропащая! За такие песни глаза выцарапаю! – грозила княжна, кусая кривящиеся от обиды румяные губы. Час какой-то назад радовалась, вся душа была высвечена солнцем, и вдруг прокралось туда черное, страшное сомнение: ведь может, может бросить ее этот вертопрах! Может поменять на какую-нибудь случайную сороку!
«Да нет, не-ет, не будь я Дарья Юшкова, ежели отдам его кому! Себя, его и ту, которая дорожку мне перебежит, порешу в одночасье!»
– Обижаешь меня, Тима, – сдерживая злые, нечаянные слезы, попрекнула княжна. – Меня ль обижать, из-за тебя все презревшую? Я раба твоя верная.
– Жена Бармы – не раба, Бармиха! Будешь скоморошину петь со мной, ерничать будешь. А ну сочиняй песню да дурь из головы выбрось! – Барма схватил ее, закружил, кинул в снег и, прижавшись губами к маленькому ушку, жарко зашептал: «Зо́ря моя! Зо́ря-а-а-а!»
– Ой! – счастливо взвизгнула Дарья Борисовна и, прикрыв глаза, заулыбалась уплаканным светлым лицом. – Ой, не верю-у-у-у!
– Пой, говорю! Да складно! Не то побью!
Встав и отряхнувшись, Дарья Борисовна глянула на небо, в котором рассосались все тучки, встряхнулась и вывела изначальную озорную фразу:
Барма водку пьет…
– Не пью, не пью! – замахал руками Барма, но вспомнил, что из песни слова не выкинешь, рассмеялся и подхватил: – А Бармиха пиво.
Напьются – лежат,
Оба-два в крапиве…
Барма притопнул с вывертом, прошелся вприсядочку, подпрыгнул, перевернувшись, и повел дальше:
Зимой изо льда
Сырчики лепят.
Им не жарко зимой,
Не холодно летом…
– Вот теперь ты истая Бармиха. – Он снова поднял Дашу на руки, закружил, пообещав: – Встретим кикимору в лесу – обвенчаемся.
Митя и немой, наблюдая за ними, хохотали.
– Ежели кикимора молода – не уйдешь с ней?
– От тебя-то? Не отстану, пока не надоем!
– За век не надоешь, за два! За веки веков! – прижимаясь к груди его, в глухом, в неизбывном забвении ворковала, быть может, самая счастливая на свете княжна.
– Аминь, – молитвенно заключил Барма и понес ее. Нес, пока не уткнулся не то в берлогу медвежью, не то в землянушку. Из творила, прикрывшего лаз в эту нору, валил пар, доносилось утробное пение. Казалось, земля сама зев разверзла и жалуется или бранится, и потому с лиственниц рушится тяжелый волглый снег, роняет перья шелушащаяся кора. Ветки, освобождаясь от зимнего груза, взмывают вверх, качаются, осыпая отжившие свои, но все еще зеленые иголки. Вверху работал дятел, усыпляя себя однообразным: тук-тук, тук-тук… И ничего более.
Пение оборвалось вдруг, грохот раздался, яростный выкрик:
– Кто первый бондарь в деревне? Ты или я?
– Я-я-я-я, – глухо отозвался кто-то.
– Не ты, чучело! Я, я, я! – заорал человек в землянке дурным голосом.
Другой кто-то глухо и спокойно возражал ему:
– Я, я, я…
– У, скважина! – взвился первый. – А это видал? Кто обручем бочонок перепоясал? Ты или я?
– Я-я… – настырно твердил его собеседник.
Барма, откинув творило, спустился по каменным ступеням. За двустворчатыми, неплотно прикрытыми дверьми была каменная пещера. «Может, та самая? – подумал Барма. – Никитка говорил, на острове». В глубине пещеры, посреди пней, кореньев, досок, щепы и стружек стоял на коленях громоздкий человечище и, запрокинув лагун, пил из него не то вино, не то воду. С неохотою оторвавшись, зловеще усмехнулся, фыркнул. Язычок фонаря качнулся, лизнул стекло.
– Тты, значит? На, получай, харя немытая! – пустая лагушка полетела куда-то в угол, с грохотом ударилась о камень, но не распалась.
– Тут без меня не разобраться. – Барма бесстрашно прошел внутрь. По стенам, обитым полками, стояли бочонки, сулеи, туеса, кадки. Над входом резная красовалась дуга. Хоть сейчас вешай на нее колокольчик, дугу – в гужи, и в путь. Может, колоколец болтливый расскажет про этого странного человека, про все, что с ним было?
В углу, в каменной нише, высечен идол. Пасть раззявлена.
– Ты кто? – обернулся к Барме угрюмый хозяин. На руках, на ногах лязгнули цепи. Касаясь пола и стен, они высекали искры. Те искры пронизывали Барму – жгли или холодили, он не понял, но пронизывали насквозь, цепи терли, словно висели на нем самом.

– Я-то? – Барма ужал руки, словно желал скинуть с себя невидимые цепи, потер места, на которых они должны были висеть. – Не узнал разе? Барма я, человек в этом мире известный.
– Чо-то не признаю, – кандальник задумался, поскреб ногтями свалявшиеся кудлатые волосы и, словно пробуя слово на вес, повторил: – Бар-ма… Нет, не упомню. Да то не суть, – мужик снял с полки маленький в узорах бочонок, протянул Барме. – Смочи губы!
– Чем? Тут пусто, – Барма опрокинул бочонок – из него не текло, хоть, судя по весу, он был полон. Не пригубив, передал хозяину.
– У, сатанинское семя! – проворчал тот, когда в бочонке, а потом и в горле забулькало. – Чо делать умеешь? – спросил он, утолив жажду.
– Была бы дочь у тебя – внука бы сделал.
– Была… упокоилась, – гулко вздохнул мужик. Изо рта несло застарелым перегаром, но широкое лицо не обрюзгло, все еще было свежо и упруго. – Воевода наш ссильничал ее. Я его… – Он положил на горло толстые, как канат, пальцы, вздохнул снова.
– Святой человек, – стараясь развеять горе его, засмеялся Барма и снова подал хозяину бочонок, – прими крови Христовой.
Тот вскинул бочонок и огромными глотками принялся глотать.
– В цепи-то кто тебя заковал?
– Братья… Сами куда-то в леса утекли. Я пьян был, остался.
– Как же они бросили одного? Братья своих не бросают.
– Солдаты нагрянули. Клад искали, который разбойником спрятан.
– Нашли?!
– Дак его братья давно сыскали. С им и утекли. Меня здесь грехи отмаливать оставили.
– От души молишься, – расхохотался Барма, проникаясь к отшельнику все бо́льшим расположением. «Весел человек русский. Вот и в цепях не унывает. Да сколько плакать-то можно? Пора и посмеяться. Я вот смеюсь, хоть душа иной раз плачет». – А споришь с кем?
– С чертом каменным. Внушаю ему: мол, бочки-то я всех лучше лажу. Первым бондарем был у себя. Он успоряет.
«Клад-то наш улыбнулся!» – без особого сожаления подумал Барма. Он и верил в тот клад не слишком. Человек – вот клад. Человек все может. Заставь его только мозгами раскинуть. Ведь вот сидит в пещере темной этот чудак – бочки делает, дуги узорами украшает… Мне ли отчаиваться, когда есть Митя, Даша, Гонька, Кирша? И этого с собою возьму. Человек он веселый.
– А ты, случаем, не тот, который с хвостом, с копытами? – опорожнив почти полбочонка, запоздало испугался отшельник. – Винишка не было и вдруг потекло.
– Загустело, потому и не текло.
– В бога веруешь? – не отступал отшельник, украдкой обмахнув лоб.
– У меня свой бог, то сразу не поймешь. Но ежели страх берет – могу перекреститься. – Теперь и Барма осенил себя крестом в угоду отшельнику. – Отмачивай душу-то! Я той порою раскую цепи.
– На мне епитимья. Пока идол не скажет, что я лучший бондарь, воли мне не видать. Худым бондарем быть не желаю. Первым был, первым и останусь.
– Мастерство не от безделья приходит, от труда. На пустые споры тратишься.
– Все одно не уйду, пока черт не отпустит, – с мрачным упрямством заявил бондарь, отставив в сторону пустой бочонок.
– Ну так спроси его снова, кто лучший бондарь: ты или он? – посоветовал Барма, умышленно изменив порядок слов.
Отшельник послушался:
– Эй, кто лучший бондарь: я или ты?
– Ты-ы, – нехотя уступило чудовище.
– Я! Я! Я! – завопил отшельник, взмахнул руками – цепи спали.
– Вот чудо-то! – изумился Барма, поднимая цепь. Она была распилена. – Чудо-то рукотворное!
– Давно уж перетер их о камень. Гласа идолова ждал. Дождался, слава Христу.
– Молитвы помнишь какие, человек божий?
– Была охота! У меня свои молитвы.
– Думал, обвенчать меня сможешь. Невеста томится.
– Это по силам. – Человек снял с полки другой бочонок и, заявив, что вино святое, предложил глотнуть. – Сил прибавляет.
– А я не ослаб.
Барма позвал своих спутников в пещеру, и обряд венчания был закончен в два мига.
– Ну вот, любитеся, плодитеся, – напутствовал новобрачных отшельник.
Митя в своем журнале записал:
«На берегу озера нашли каменную яму. Клада в той яме не оказалось. Зато был мужик черный, страшный и в цепях. Иноком назвался, Иннокентием. Он и венчал Тиму с Дашей».
– Возьмите меня в товарищи, сгожусь, – сказал после венчания Иннокентий.
Его приняли. Забрав с собой два последних полных бочонка, припер батиком дверь, перекрестил ее, сплюнул и впервые за много месяцев вышел на волю. День весел был, брызгало солнце. Душа, дремавшая долгую зиму, проснулась и удивленно распахнула глаза.
4
Муж Феши, Красноперов, перетряхивал на таможне тюки, князь Римский и Русский – всю Россию.
Вернувшись из Березова, в котором было уготовано место князю двух империй, таможенник не встретил у жены ласки и теперь выслеживал своего соперника. По Москве, по Петербургу рыскали ищейки светлейшего, искали Пиканов и Дашу. Меншикову было уже тем легче, что он знал, кого ищет. Красноперов не знал. И потому, сказавшись, что уезжает по делам службы, в ту же ночь постучался к старой ворожее Агафье, жившей напротив. Дав ей гривенный, устроился у окна и до самого утра выжидал, не подъедет ли кто к дому. Старуха, не единожды гадавшая Феше, раскатывала по тарелке бобы, щеря частые, еще несъеденные зубы, ворчала под нос: «Ушлый больно! Так и выложь ему: кто да кто! А сам гривенничком пожаловал. Феша-то побольше тебя даривала. И ишо не раз одарит».
– Чо бунчишь, старая ведьма? – отгоняя дрему, вскакивал Красноперов, долгий, негнущийся, скрипел всеми частями тела. Видно, давно не смазывали. – Поди, в сговоре с ей?
– Орешь тут, ровно хозяин, – старуха стегнула таможенника черными страшными глазами, зашевелила частою паутиной морщин, бормоча: – Тут боб, там бор, чистая вода, придет из воды беда…
– Молчи, молчи, не кликай! – Красноперов, пугаясь, начал креститься, но там, где положено быть образам, сидела сорока, чистила перья. Замахав руками на птицу, таможенник сплюнул и снова уставился в окошко.
Страшна, ведьмовата с виду бабка Агафья, а сроду единой живой души не обидела. Может, потому, что сама натерпелась лиха выше трясущейся седой головы. Крохотною была, когда родителей потеряла. Гнали их в Сибирь, да не догнали: оба померли в пути. Агашка, себе на беду, выжила. И начались ее немыслимые скитания. В Нижнем Новгороде, на ярмарке, подобрал девчонку старый персианин, увез с собой. Позже ее перекупил грузин. Полюбил русскую девку кавказец, повез к себе, но в степи ее перехватили татары. Рыжий татарин продал пленницу турку, того перехватили на реке лихие русские люди. И жила Агашка с атаманом казацким, пока не затосковал он, скрываясь от недругов, не кинулся в Сибирь, к вольнице. Здесь, в одной из битв потеряв спутника, стала Агафья женою простого казака Махони, прошла с ним до самой Чукотки, а позже и на Камчатке бывала. Помирать Махоня приехал на родину, а вместе с ним – и состарившаяся Агафья. Хоть и негусто было в загашнике, а купили домок. Соседи – Пикан да Тюхин – поставили баньку, оградку поправили, нарубили дровец. Старухе много ли надо: кости погреть да чайку пошвыркать. Ну, может, иным дурочкам на бобах или на картах погадать. Карты – главная ценность старухина. Подарил ей карты покойный Махоня – три колоды купил у англичанина за пяток песцовых шкурок. Ох и нарядны были картинки! Сказал, для игры, а там же, на Камчатке, увидала Агафья старого костоправа, гадавшего на базаре, и научилась у него редкому и незнакомому искусству гадания. Измученная, усталая, но ничуть не потерявшая интереса к жизни, зацепилась бабка в Тобольске. И здесь нашлись добрые люди: та же Фелицата, частенько прибегавшая поворожить, и Антонида Потаповна. Последняя травами лечить научила. Трав-то в Сибири полным-полно. Так что врачеванье, помимо всего, еще и кормило. Народ здесь не бедный живет, да и не шибко суеверный. В России чуть что – на бога оглядываются. Здесь бога поминают от случая к случаю. Вот и гадает бабка старая всем, кто пожелает, врачует душу и тело. Феша Красноперова заходит к ней чаще других. Большеглазая, тихая татарочка. Полюбила, глупая, старого человека, голову потеряла. А человек этот, Пикан, по женке своей убивается. Тюхин и тот не может вытянуть мужика на улицу. Была и Агафья у Пикана, наговоренной водой на него брызгала, травами приворотными поила. Потом, когда подсобные средства не помогли, вывела на картах: «Спасенье его в тебе, Феоктисья!»
– Да не глядит он на меня, бабунюшка! С утра до ночи сидит филином! Не ест, не пьет, убивается, – жаловалась Феша.
– Жди, оттает. Да поласковей будь! – тут и без ворожеи ясно: скорбь мужика гнет. Одно человеческое участие может его спасти.
Знала Агафья, где сердце Фешино. Знала и помалкивала. Дай золота горсть, и две, и три горсти – не сознается таможеннику. Не по себе изловил пташку. Вот и пущай мается. А татарочку жалко: молодая, бедовая. Хоть и в богатстве живет – счастья не видит. Сестра Красноперова, Марья, тоже в сговоре против брата. Одна кровь, а друг дружку не терпят. Есть, стало быть, что-то выше голоса крови. Главное же: бабья порука. Натерпелась от мужичья старуха, вот и внушает всем бабам: мужик, он злодей, хоть и не всяк, конечно. И среди них встречаются люди с сердцем. Тот же Гаврила, тот же Пикан. И Махоня был славный. Да жаль – попался на пути, когда уж истрачена вся была. Маленький, жилистый, жесткий, как гвоздь. Бабка была его в два раза шире. Однако на любовь оказался лютый. Начнет мять да ломать – стены жалуются. Из перины – пух облаком. Махоня, Махонюшка… Жить бы тебе, соколик, да радоваться! Рано прилег на отдых.
Шмыгают воробушками по тарелке бобы. Сычом бессонным таращится в окошко Семен Красноперов. Не выглядишь, не выждешь! Пикан к женке твоей не придет. А ежели она побежит – не устережешь.
– На-ко, Семен Минеич, выпей, – опойной, сонной травы в мед плеснула.
Крякнул таможенник от удовольствия. В другой раз крякнуть уж сил не хватило: клюнул тонким утиным носом в подоконник и захрапел. Агафья неслышно выскользнула, поскреблась в калитку напротив. Ей тотчас открыли.
– У меня лихоимец ваш. Дрыхнет. Идите, грешите, блудницы, – с нарочитой строгостью отталкивая суетившихся подле нее женщин, говорила старуха. – Покараулю его.
– Ой, баушка милая! Бог тя не забудет! – запела Минеевна, всовывая в старухин кошель на поясе что-то увесистое, завернутое в саржу.
– Бог-то? Грех ему обо мне забывать, – подобрела глазами старуха, угадав в сверточке серебряный кувшинчик, на который зарилась давным-давно, называя его Христовым колокольчиком. – Бегите скореича! А его, идола долгого, ишо подпою. Ночь ваша.
Она убрела. Феша с Минеевной тем же следом побежали к Пикану. Двери избные растворены, в избе давно не топлено. Пикан, могучий, никлый, как кедр срубленный, дыбился на лавке. Глаза, бессмысленные от позднего раскаяния, были открыты, но ничего вокруг не видели.
Феша, взяв руку его, приложила к губам, молчала. Марья Минеевна принялась растапливать печку. Скоро в избе сделалось светло, тепло от человеческого присутствия. Так бы и замерз Пикан, никто бы его не хватился. Тюхин, дружок его закадычный, вторую неделю жил в Абалаке, разрисовывая монастырский придел. Звал и соседа с собой. Тот лишь качал головой в ответ, из дома не трогался. Всю неделю просидел на лавке под божницей, где упокоилась Потаповна.
– День-то ноне какой? – спросил, заговорив впервые.
– Суббота, – причесывая его, ответила Феша.
– Седьмой токо. А я уж забыл, не плачу.
Стянув рубаху, рухнул пластом на лавку, велев:
– Секите! Беса из меня выгоняйте!
– Экое тесто! А ишо мужик! – Минеевна принесла из сеней вожжи. – Сколь убиваться-то будешь?
– До последнего часу, – глухо отозвался Пикан. – Бей крепше, до крови.
– А, так? На тебе, ннна! – свирепея при виде слабости его, которую считала недостойной мужика, Марья Минеевна принялась стегать изо всей мочи. Била, била – устала. Сквозь злые слезы спросила: – Ну, помогло? Дурь-то выбила?
– Мало! – требовал Пикан. А спина уж взялась ожогами.
– Шкуру спущу! – сложив вожжи вчетверо, Минеевна огрела с протягом. – Мясо выворочу, посолю! Тюря жидкая! Размазня маковая! – Она устала и разревелась от злости.
Феша отняла у ней вожжи, стала дуть на иссеченную спину Пикана.
– Больно, Иванушка?
Пикан молчал. Заглянула в глаза его – глаза были все так же пусты, безжизненны. Горе высушило их, лишило света, которым щедро поила душа.
– Сдурела! Чисто всего исстегала!
– Пущай не киснет! Горюн какой! Кому худо не бывало? На смерти жизнь не кончается. Все помрем. Пока живы – жить надо.
– И ты бей, – приказал Пикан Феше. Та, покачав головой, принялась нацеловывать спину Пикана, потом шею, голову, лицо. Душа оттаивала, высвобождаясь из ледяного панциря горя. Впервые за много дней в этих исстрадавшихся, вымороженных бедою глазах засветились тихие слезы.
Минеевну злость душила. Опять схватив вожжи, стала полосовать его.
– Вот тебе, вот, вот! – выкрикивала с остервенением, била; Феша ослабляла удар, подставляя под него свою руку.
Не всякому так везет в жизни: мука и радость – все враз. Пикану повезло. Он ожил: боль от вожжей и Фешины поцелуи жгли равно. Слезы, однако, выдавили не они – жизнь, снова наполнившая эту могучую оболочку.
Выплеснув злость, Минеевна только теперь заметила исполосованную Фешину руку, испугалась, запричитала:
– Ой, и что ж я с тобой сотворила? Сношенька ты моя, ясынька ясная!
Пикан поднялся наконец с лавки, посидел, подул на Фешину руку, пробовал утешить Минеевну – та была неутешна, отмахивалась, казнила себя, тряся головою. Он вскинул обеих женщин на руки, плачущую Минеевну поцеловал.
– Не ее, не ее! Меня! – ревниво вскричала Феша, ударив Пикана по губам. Горячая азиатская кровь окрасила смуглые щеки. – Посмеешь – зарежу! – сверкая бешеными черными глазами, пригрозила она.
– А ты не худо живешь, сосед! – перешагнув порог, проговорил Тюхин. Вернувшись из Абалака, решил попроведать. – Уступи хоть одну.
– Которую?
– Давай Феоктисью.
Тут уж Минеевна не сдержалась, кинулась на Тюхина. Он отступал, отбивался, в конце концов отступил в горницу и там сдался. Возня сделалась глуше, а вскоре затихла совсем.
5
Кони пали. Пали лошадушки. Сначала левая, пристяжная, молодая, горячая кобылка, рванула в сторону, всхрапнула и завалилась на бок. Глаза, полные отчаяния, молили подскочившего Гоньку: «Помоги, человече! Ты мал еще! Ты не отягчен злом земным. Спаси меня от мук, от смерти. Я мало жила…»
Мальчик трясся, как в ознобе, стоял подле упавшей лошади. Маленькое, бледное лицо его было сплошным криком. Кричали глаза, распахнувшиеся в ужасе, кричали руки. Пальцы судорожно цеплялись за невидимое что-то, словно хотели удержать уходящую жизнь. Рот был распялен так широко, что в уголках его проступила кровь, окрасив ровные белые зубы.
– Гоша, маленький мой, не надо! – кинулась Даша к немому, обхватила щуплое трясущееся тельце. Прижав к себе, запричитала: – Что ж ты убиваешься так? Ну пала, ну что ж… Две других живы. Не надо, родненький! Будут еще скакать твои кони! А эта… Ну, вся вышла…
Барма, жалобно покосившись на жену, высвободил соловую из постромок. Подозвав Киршу с Бондарем, оттащил мертвую кобылу.
– Закопаем? – спросил Бондарь. Кирша и сам был убит смертью кобылы и совершенно отупел от этой потери. Конь для него был родней человека, надежней, главное ж – беззащитней. С конем ямщик делился всеми своими помыслами. Худо было – жаловался, спрятав лицо в волнистую гриву, поселялась в душе редкая радость – ликовал. С кем-то надо было делиться, а кони молчаливы и преданны, не растрезвонят.
«Кони мои, конечки! Все лучшее, что выпало мне на долю, связано с вами. Помню первого жеребенка, Орлика, от кобылы Бурылихи. Ожеребилась да в темноте нечаянно наступила на хрупкую ножку. Выкинули уродца, а я с ним нянчился, отпоил, откормил, хрупкая косточка срослась. И такой конь выматерел! Такой неукротимый был конь! Родители подарили его мне. Я ускакал на Орлике в степь, пас табуны татарские, потом ямщиком стал. Орлик состарился. Знал я, что его дни сочтены, ушел, не мог видеть смерти друга. И позже ни разу павших лошадей не видел. Соловая на глазах вот скончалась. Уж морду уронила на копыта, завалилась, не дышит. Теперь не лошадь она, труп. Митя запишет в тетрадке: «Кобыла стала трупом». Неправильно это. А что делать? Делать-то что? Сам не знаю. Куда ни пойдешь – всюду смерть, смерть. Мрут кони, мрут люди. Все мрут. Как же такое вытерпеть? Кому пожаловаться?..»
Вспоминал Кирша лучшие дни свои: их было немного. Когда грамоте учился у пьяного ярыги да когда слушал, как цокают по мостовой звонкие копыта. Дюжина копыт высекает искры. Их бы, искры те золотые, на шапку нацепить. Вся Россия от сияния ослепнуть может. Мчитесь, лошадушки! Мчитесь, быстрые!
– Дак что, будем закапывать-то? – надсадно, сипло кашляя, спросил Бондарь.
Лишь после этого Кирша встряхнулся, осмысленно посмотрел вокруг: лес да раскисшая дорога. В сторонке, в вытаявшем снегу, лежит соловая. Подле нее плачет Гонька. Как горько плачут немые! Тоже ведь бессловесные твари. Только глазами и могут выразить свою муку. Он, Кирша, счастливей немых. Он словом владеет. Что ж на судьбу жаловаться? Гоньке хуже.
Даша отвела мальчика в сторону, спрятала в своих ладонях зареванное бледное личико. Да разве от смерти спрячешь? Лезет во все щели, во всю великую жизнь, сама столь же великая, столь же могущественная.
– Ты приляг, Гошенька, подремли. Приляг, тростинка, – ласкала, баюкала мальчонку, но сон к мальцу не шел. Уже ручьи по канавам мчались, неся жухлые листья, старые ветки, коренья, травы. И запахи несли с собою ручьи. Лист или хвойная ветка умерли, а запах их еще жил и тонко-тонко, влажно, чуть ощутимо давал знать о себе людям. Листок осиновый, рыжий, с осени уцелевший, зацепился за ледяную корочку, затрепетал бабочкой. Может, последний с весною всплеск. Весна и мертвого разбудила. Гонька глядел на листок, думал. О чем-то потаенном и мудром думал немой. Только мысли его никому знать не дано.
«Писать научить его… – подумала Даша и тут же решила: – Как только осядем где-нибудь, возьмусь грамоте учить. Вот будет радости у немого!»
Какой-то великий человек для блага потомков оставил им буквы и знаки. И теперь любой звук можно выразить в буквах на бумажном листе, любой цвет передать, смысл, запах. Удивительно это и прекрасно – положить сущее на страницу!
«Непременно, непременно научу Гоньку грамоте!» – еще раз повторила про себя Даша.
Бондарь, сипя и кашляя, косился на бочонок, который давно уже не распечатывал: запрещал Митя.
– Стыло стало. Не худо бы погреться, – намекнул он.
– Грейся, чертов колодец, – разрешил Митя, тоже подавленный гибелью лошади, и сам первый глотнул бодрящего напитка. – Даша, не хошь ли?
– Я как Тима.
– Экая ты покорная! Хоть ноги вытирай.
– Попробуй, – усмехнулась Даша, крепко сжимая руку мужа. Хотелось уединиться с Бармой, ласкать его, любить. Кругом люди были, дремал, положив голову на колени, немой. Славные люди, верные! Но иногда и они мешают.
«Терпи, – подмигнул Барма, – час будет!»
Митя, отставая, чертил на снегу какие-то фигуры: дом – не дом, корыто – не корыто. Может, корабль? Пускай чертит. Он тем живет.
Тима в слове силен. Слово не горько, не кисло, а морщатся от него, языки за него рвут. Вырвут, а слово живет и снова будоражит, жжет, колет. Кипит ярость в народе. Побольше бы слов огненных, чтоб не дремал народ русский! Задубел, запаршивел в лени и косности. Любую нужду терпит, любое измывательство. А кто подымется, как Разин или Булавин, того антихристом объявляют.
– У бобра нет добра, – завел Барма песню, – только шкура. Пять бобрят да нора да баба-дура.
И вдруг новый вопль тревожный: коренник пал. Сунулся мордою о дорогу, всхрапнул и лег. Пристяжная правая и теперь единственная рванулась вперед, натащив на него сани, и замерла, опадая потными боками. Пал товарищ ее, она стояла, только глазом вела на людей, загнавших коня.
…И – третья лошадь оземь грянулась.
Бондарь, зло выругавшись, схватил лагун, но в нем было пусто.
– Ништо, – утешил он Киршу, каменевшего над лошадьми. – Мне бы глонуть чуток, сам бы впристяжку пристроился.
– Ну вот, доехали, – вздохнул Митя и, отойдя в сторону, принялся чертить. Много оставил он на снегу своих чертежей и рисунков. Лисы и зайцы, шмыгая мимо них, наверное, удивленно глазели на непонятные письмена и знаки, обнюхивали и осторожно обходили. Чем дальше продолжался путь, тем отчетливей вырисовывались очертания будущего корабля. На последнем рисунке, перенесенном в журнал, уже вздувались легкие паруса. Шхуна, изображенная Митей, напоминала красивую огромную птицу, паруса – сложенные крылья.
– Коня-то зарыть надо, – сказал Бондарь.
– Всю мертвечину, какая есть на земле, не зароешь, – усмехнулся Барма, позвав спутников за собой.
Немой отчаянно замотал головой, охватил за шею пристяжную, еще подававшую признаки жизни.
– Рано видеть тебе это, – грустно сказал Барма, погладив плечо немого. – Но гляди. От смерти, сынок, как и от жизни, не спрячешься.
Выбрав посуше полянку, развели костер. Кирша плакал Его не тревожили. Митя записывал:
«Пали еще две лошади. Теперь пешим брести. Длинна дорога».
6
Движется, дышит, бурлит Россия. Ширятся границы ее, оживают гиблые темные места, новь осваивается. И где вчера лишь зверь рыскал, рыскают люди, подозрительно шарят глазами, замирают на полушаге, услыхав треск сучьев или учуяв запах. Вот слабый костерок задымился, потом – кострище, топоры зазвенели, вырос сруб, другой, третий где нибудь на берегу реки или безымянного озера. Взвились вокруг высоченные кедры, века пережили, видали всякое и потому клонятся верхушками друг к другу: упал один – другие поддержат. Но ежели человек топором коснулся – ничто не выстоит. И сруб за срубом растут деревни. Новоселы пал пускают, очищая землю для хлебопашества. А все ж тайга беспредельна, и много лет понадобится, чтобы вывести ее под корень. Пока ж зори, человек, расхищай природу, злодействуй. Пока ж храни тебя творец. Жить всякому надо и, по возможности, жить лучше. Тебе неуютно на этой земле; поветрия, недругов, судьбы боишься. Если безоружен – зверья. Храни тебя бог, человече, от стихий яростных, от болезней, от ворогов злых. Со зверьем сам справишься. Но от судьбы не уйдешь. Она у тебя на лбу выписана. За всякое зло воздастся сторицей. Думай, думай об этом! Час грянет!








