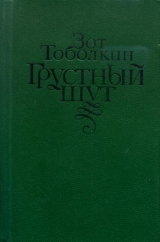
Текст книги "Грустный шут"
Автор книги: Зот Тоболкин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 21 страниц)
– Венчаться с ней буду, – отворачиваясь, глухо отозвался Пикан. Боялся: как бы не начал Тюхин смеяться.
– Они же венчаны с Семеном! Нет, постой, – вспоминал Гаврила Степанович. – Кажись, не венчаны.
– Твоя правда: не венчаны.
– Тогда легче. А то вас тут со свету сживут. Хоть и просто у нас на этот счет, а все придерживаются закона.
– Кому просто, кому не шибко. Поди, наклепал на меня Красноперов. Владыка-то не зря кличет.
– Щас узнаем. Не робей, сосед! Кто смел, тот съел!
Внизу, вверху бурлил, гулял город. У юрт своих пили бузу башкиры, на Княжем лугу начались скачки. Перед губернаторским дворцом веселые скоморохи устроили поучительное действо: змей лукавый соблазнял Еву, но, обо всем догадавшись, подоспел господь бог и, осенив ее крестом, спас прародительницу от соблазна. Ева, которую изображал медведь, чуткость бога не оценила, наоборот, рассердилась на него.
Потом начался обряд крещения. Скоморохи выбирали из толпы тех, кто был понарядней, сажали в кадку с водой. И то, что в другом городе сочли бы за святотатство, здесь именовалось всего лишь действом. Губернатор смеялся. Не отставали и гости. И каждый из скоморохов получил по гривне. Довольные, они собрали манатки и отправились на нижнюю площадь. Навстречу, сидя на быке верхом, ехал пьяный монах, гугнил:
– А где тут царствие небесное… с питием, с веселием?
– Потапыч, – шепнул скоморох медведю, – укажи скуфье, где царствие.
Медведь рявкнул, перепугав быка, сдернул монаха наземь.
– Теперь лозою его, лозой! – подсказал Пикан, слыхавший монашье глумление. – Мало, всякая немчура веру православную давит, дак и монахи туда же.
Медведь мял, катал монаха. Тот, запутавшись в рясе, визжал, потом рассердился, запрокинул медведя на спину. Косолапый струхнул, взревел дико и, вырвавшись, кинулся наутек.
– Ох-хо-хо! – басисто хохотал монах.
Скоморохи сгрудились. Монах был злобен, славился дикой, нечеловеческой силой: – А теперь вас чуток поваляю.
– Не тронь сирых, – заступился Пикан. – Ступай лучше, грехи отмаливай.
– Кто таков? – подался к нему черноризник, дохнув пьяным смрадом. – Пошто на пути стал?
– Сказал, не тронь. Ступай молиться.
– А поди ты в … сам молись за меня там, – посоветовал монах, выбадриваясь перед Пиканом. И вдруг осел, стал короче, словно его обрубили. Кулаки Пикановы опустились ему на плечи, вогнали в землю. Позвонки хрустнули, подогнулись колени, глаза, только что метавшие искры, выкатились и закрылись. Монах безмолвно рухнул наземь.
– Уби-ил! – крикнул кто-то.
– Очухается! – рассмеялся повеселевший скоморох, вожак медведя. – Рылом его в бочку. Скорей воротится из царствия божия.
Пикан с Тюхиным, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания, отправились к владыке. Он освящал кремлевский колодец. К вороту на цепи привязана огромная бадья. Крутить ворот одному человеку не по силам. Крутили двое.
Загремела цепь. Ударилась о воду бадья. И ворот закрутился в обратную сторону. Долго наматывалась на валок цепь. Когда ж бадья показалась над срубом – владыка дал знак, и на звоннице ликующе ударили малые колокола. Владыка наполнил серебряный черпак, перекрестил его, глотнул: вкусна, свежа водица, добытая с неведомых глубин. Может, еще и оттого казалась особенно сладкой, что у губернатора такого колодца не было. Помрет с зависти снегирь синегрудый!
Совершив водосвятие, владыка пригласил гостей и копальщиков к столу. Стол был общий: не по чину, не по званию. Садились запросто – кто куда.
И у губернатора сели за стол. Как всегда, с мыса под первую чарку ударила пушка. Владыка поморщился ревниво, но, услыхав свои колокола, довольно крякнул и огладил бороду.
Замолкла пушка. Колокол главный укоризненно гудел, роняя наземь и вокруг себя – в пространство – густые тягучие звуки. После него вступала труба.
Город, по свету разбуженный колокольным звоном, кипел. Колокол был душою Тобольска. Что бы ни говорил, что бы ни думал каждый человек в отдельности, о чем бы ни лепетало дерево, ни шептала река – колокол говорил за всех, выражая главную мысль:
«Быть, бы-ыть России! России всегда быть!» Ту мысль понимали все.
…Посреди улицы стоял на коленях юродивый Спиря. Увидев уныло бредущих князя и Пинелли, пригнул их к земле, поставил на колени рядом с собой.
– А я атеист, сеньор. Понимаете? – внушал юродивому Пинелли, но тщетно. – Нет бога, кроме человека. Человек – самое разумное существо на земле.
– Есть, есть бог, – тыкал его носом в землю Спиря.
Князь что-то шептал беззвучно, но вряд ли это была молитва.
– Нет бога! Есть человек. Че-ло-век! – горячился Пинелли, споря с дураком. – Он выстроит себе город Счастья.
– Гы-гы-гы… – закончив молиться, расхохотался Спиря, еще раз ткнув их в землю носами.
По улицам в нарядных сбруях летели тройки. Под дугами звенели жаворонками знаменитые тюменские бубенцы.
17
Любит солнышко край этот суровый скрытной любовью. Зиму таит любовь до поры, потом как явит ее, как примется греть, ласкать, нежить – полгода сияет земле, улыбается, кохает ее в неутомимых своих лучах. А пока сдержанно светило, холодновато даже и блестит не шибко. На черной скале, над озером, чайки греются. И на дальней скале, серой и щелеватой, но четко видимой в дневной прозрачности, – тоже чайки. Встрепенут крыльями – замрут, и глазки болоночкой затянет. Вода так же прозрачна, словно выморозило за зиму ее теплые голубовато-зеленые тона. По дну рыбица ходит, большая и малая. Вон щука, ленивая, древняя, высунула острый свой клюв, мелкий оскал показала и, чем-то недовольная, снова ушла на дно, в камни. Из камышей лебеди выплыли, аккуратный ровняют строй. Спереди двое, наверно, родоначальники семьи. И стары уж, а как дружно – плечом к плечу – плывут! Пережили годы вместе, пропустили под крылом десятки морей и народов; внуков, правнуков на крыло подняли, а нежности не растратили. Слава постоянству твоему, великая, вещая птица! Слава твоей верности земле отчей! Угревай ее, солнце, храни, как совесть, без которой человек в скота превращается.
Ближе к берегу, у темного, в серебряных жилках камня – быстерок играет. На камне, опустив хвост в струйку, рыбачит выдра. Вот хохот пьяный раздался – выдра юркнула с камня и пошла, пошла в глубину, словно сказочный водяной. А зря пугалась: гагары блажили. Зевласто, дико орали. Откуда в них столько звука? Хоть бы птица была путевая, а то ведь ноги и те не так растут, как у прочих птиц.
Светло, углядисто в небесах и на озере. За каменным угором, в замшелых елях, темно. Рябчик упал с одной на журавину, поклевал, поклевал – кисла старая ягода! – и снова на дерево. С этой елки видна черная часовенка с восьмиконечным крестом. Рядом – выше роста человечьего травы. Взросли на пепле подле огромной кокорины. Когда-то, в добрые времена, здесь стояла раскольничья церковь. Сожгли ее, а вместе с ней три сотни верующих сгорели заживо. И потому травам на пепле из костей человечьих сытно, над травами чайки летают – не души ли это сгоревших? По другую сторону часовни приткнулась избушка, тоже черная, вросла в землю по уши. Над ней дымок курится, у дверей лодка-долбленка, тонкое, легкое весло. Вокруг все прибрано, под окном – кружок вскопанной земли, чисто выметен огороженный пряслом дворик, а в загородке – копна сена, подле которой старая лосиха и олень. Вольно, уверенно чувствуют себя звери возле этого дома. Кто ж в нем?
Даша и Гонька, сгоряча убежавшие в лес, забрели далеко и заблудились, потом столкнулись с солдатами, но счастливо ускользнули от них. И вот уж третий день толкут мох ногами, обходят гремы, давят валежник, не чая выбраться из затянувшего их урмана.
Вот жилье увидали – кто б ни был в нем, все едино душа живая.
– Зайдем? – спросила Даша немого. Он закивал, заулыбался обветренными губами. Не жалуется парнишка, а ведь как от солдат удрали, не было во рту ни крошки. Прошлогодней клюквой да саранками только и питались. В одном месте взяли прошлогодних орешков и снова кинулись искать своих. Гонька с любопытством по сторонам таращился, потом начал терять силы.
Подобрав топор, стоявший у порожка, Даша отважно стукнула в окно.
– Входи, входи, человек добрый! – тихий, ласковый позвал голос.
Тепло, чисто было в избушке. На лежаке, устланном полстью, лежал белый, как лебедь, старик. Был он большой и сильный, светлый лицом. Огненные блики из камелька играли на складчатых щеках. Лицо без единой лишней морщинки. Глаза в седых длинных ресницах глядели весело и бесстрашно. Брови при всей прочей седине остались черны, не заволосели, как бывает у слишком старых людей.
Пораженная светлым величием старика, Дарья Борисовна оробела, стала искать икону, чтоб перекреститься. Хозяин зашелестел смешком:
– Не ищи, деушка. Иконы в часовенке держу. Здесь сам живу, зверяток прикармливаю. Оголодали, поди?
– Три дня не емши, – призналась Даша, словно оправдание, выставив перед собой немого. – От своих отбились.
– А я хвораю… дохварываю уж, – просто сказал старик и, собрав силы, поднялся. – Вон там, в чугуне, суп сварен. Наливай. Щас хлебушка принесу, – и вышел, волоча ногу.
Гонька присел на лежак, с которого только что встал хозяин, расслабил усталые ноги и вдруг рухнул на бочок и засопел, подложив под щеку ладошку. Даша хотела разбудить мальчика, но пожалела.
– Уснул? Видать, долгонько шли. Без нужды по лесам не ходят, – вернувшись с калачом, вздохнул старик. Не о себе вздыхал: жалел путников. – А ты покушай. Хлебушко сыроват, да уж какой есть, – хозяин дробно, со старческим дребезгом рассмеялся. Смеялся разно: то тихо, с камышиным шелестом, то с глухим звоном, словно ветерок бился в сухое, расщепленное дерево, то раскатисто, а то глухо. В беседе голос был чистый, отчетливый и текучий. Неспешно тек, как мед из сотов, и усыплял. Такому голосу против воли доверишься без опаски. И Даша доверилась.
– Имечко твое как?
– Даша… Дарья Борисовна, – принимаясь за суп, невнятно ответила Даша.
– Не из простых, значит, – вывел старик. С ним удивительно легко было. Все понимая, многое без слов угадывая, он мало о чем спрашивал.
– Княжна я… Вышла за простого человека. Он потерялся… тревожусь, – повествовала Дарья Борисовна.
– Не тревожься. Выведу. Тут без меня оставаться рисково.
– Далеко ли собрался, дедушка? Прости, имя твое не знаю.
– Зови дедом Корнишей. А собрался – туда, – старик показал пальцем вверх, и Даша поняла, что он имел в виду, сказав, что дохварывает. – И пожил бы, да злыдень один… окаянный… порубил саблей. – Старик заголил на плече рубаху. Под ней зияла страшная рана, уже заросшая толстой коростой, но, видимо, доставлявшая невыносимую боль.
– Ой! Как же ты терпишь? – ужаснулась Даша.
– Я к боли привык. Вот, гляди, – старик сунул в камелек руку и держал ее, пока Даша, подскочив к нему, не выдернула. – Да ты не бойся. Боль тому досаждает, кто думает о ней. Я думаю о боге.
Рука тем не менее подгорела и – сильно: в избушке пахло паленым. Старик достал из шкафа чашку с каким-то снадобьем, приложил к ожогу.
– Пока ешь – боль снимет.
– Злыдню-то этому что тут понадобилось? – все больше проникаясь к старику теплым доверием, спросила Даша. Удивительно было: незнакомый человек, а вот подкупил тотчас же высокой своей отрешенностью, простотой и отзывчивостью на чужую боль.

– Золото выманивает. Тут в стары времена обитель была, – заглядывая в спокойное Гонькино лицо, говорил старик. Гонькина улыбка во сне отражалась и на его лице. – Лебеденок милый! Рано ты в лихо окунулся!.. Я и зачинал ту обитель, – обернулся он к Даше. – Христос мне явился. Иди, говорит, Корнилий, селись в лесу. Люди к тебе потекут. Я и ушел. И верно: потекли люди. Ладно мы зажили, богато. Все молодые были, все трудились. С Волгой, с Сибирью вели торговлю. Были суда свои – лес и рухлядь на них возили. Был скот, амбары и погреба полны всякой всячины. Свои кузницы имели, свою смолокурню. Водились портные и кузнецы. Был даже рудознатец один. Меня, как старшего, большаком выбрали. Потом другой большак стал, Никитка, лукавый человечишка. Все подвига искал, тем и хотел себя прославить. Стал звать людей к самосожжению. Тут солдаты нагрянули. Я в ту пору в горячке лежал. Подступили к стенам – Никитка в храме с народом закрылся. Там уж хворост был заготовлен… Не дались солдатам. Все до единого золою стали. А я выздоровел. И явился мне бог над храмом горелым. Спросил я: «Принял ли ты, Исусе, жертву людскую?» – «Нет, – он молвил, – то сделано по наущению диавола». И возроптал я на бога. Пошто отдал сатане глупых? Не за людей ли ты сам страдал? Изумился господь, губкою вот эдак дернул и молчком вознесся. Я все пытаю его: «Пошто истину не откроешь людям? Ночь великая пала на землю. Доколе будут в ночи блуждать?» Молчит он, гневается. И я молчу, поклонов ему не кладу. Токмо пытаю: «Пошто? Пошто?» Знаю: то грех великий. Знаю: за грех ждут муки. А недостоин он своей славы, – старик упрямо сжал тонкие губы, потом осторожно спросил: – Тебе не страшно со мной, деушка? На бога восстал…
– Нет, дед Корниша, не страшно, – только что зубами от страха не стуча, отвечала Даша. – Да и не на бога ты восстал – на зло сущее.
– Зло-то откуль идет, детка? Вложи доброе в разум человеческий – добрым и мир вокруг станет. Нет, голубка, господь на доброту поскупился. Я, глупой, лишь под закат жизни своей понял. Будь моложе, пошел бы по земле и стал толковать великую человеческую правду: не в боге, люди, в себе добро ищите!
Поцеловав его холодную исхудалую руку, Даша убрала со стола.
– А ты ласкова, молодица. Не скажешь, что из княжон.
– Отец крепостным был. Уж потом в князья выбился.
Старик кивнул, посоветовав:
– С мужем ласковей будь. Деток ему здоровых рожай. И верь в доброе. Детьми да верой силен человек. Поняла ли?
– Все поняла, дед Корниша, – тихо, истово молвила Даша. Хотелось ей пасть на колени перед старым бунтарем, отринувшим бога. И если есть он, господь, за то спросится с деда. Но старик не страшится, отрезвел от слепой веры, стал веровать разумно, истинно. Господь – отец человеков. Богородица – мать. Отец и мать любят и оберегают детей своих, в любви, в почитании их растят… Разве допустят они, чтоб дети сами себя сжигали? Любовь ответной любви требует, любви, а не изуверства. Сгорев, род свой прервешь… завет бога самого не исполнишь: «Плодитесь, размножайтесь!» Дедушка, дедушка! До чего ж ты отчаянный! А я страшусь… Вот ежели не грянет сейчас гром, стрела огненная не упадет…»
Даша от ужаса зажала уши: «Сама себе беду кличу!»
Гром не грянул. Стрела не ожгла.
Все так же рядом улыбался старик. Все так же посапывал на лежаке Гонька.
За окном раздался конский топ.
– Ну вот, опять этот притащился! – сказал старик и, выйдя в сени, припер дверь колом.
– Сказал бы, что нет у тебя золота.
– Есть оно, девонька. Токмо он его не получит.
Под окнами спешились, стали колотить в двери. Не подалась дверь – высадили окно.
– Лезь в подпол – лаз там. Прикрой его. – С улицы выстрелили. Старик упал, заслонив телом своим окно.
Даша схватила мальчонку за руку, отыскала творило. На твориле стоял лежак. Сдвинув его, толкнула немного вниз, надвинула кое-как лежак, потом и сама упала в темную нору. По избе уже грохотали чужие сапоги.
– А девка где? – спросил кто-то и принялся искать Дашу. – Не ведьма ль она? Не через ли трубу улетела?
Вскоре обнаружили подземный лаз под лежаком. Однако творило изнутри было заперто. Попробовали взломать, но плахи не поддались.
– Выкурим! – гудел утробный голос. – Не выкурим, так изжарим!
Огонь изнутри скоро выкинулся через окно. Налетчики выскочили на улицу. Но Даша с Гонькой не выходили.
– Все, спеклась! – решили они, когда крыша обрушилась и погребла под собой мертвого старика.
И тут выяснилось, что кони, на которых они сюда прискакали, куда-то исчезли…
Налетчики загалдели, принялись шарить вокруг, браниться.
Потух костер, разожженный налетчиками. Гасло солнце. Огромный бледный шар все больше краснел снаружи, на глазах остывая, прятал тепло в себя, но лучи изредка еще вспыхивали, не желая гаснуть, еще играли на черных холодных скалах. Казалось, стынет светило – жизнь остынет, и все вокруг – птицы, лес, озеро – станет единым мертвым пространством, как однажды выплеснувшаяся и навеки застывшая вулканическая лава. И уж никто никогда не пробудит вновь умершую землю. Или – должен явиться небывалого ума, силы и мужества богатырь с факелом, которым осветит этот черный лес, расплавит мертвую лаву. Лава стечет в озеро и растопит лед; из земли выплеснутся все живые ее соки, взметнется трава молодая, взыграют рыбы; из теплых и вечно молодых стран прилетят на брошенные гнездовья птицы, и снова вспыхнет оскобленное от древней окалины солнце и вместе с великим и мужественным тем человеком начнет творить новую, более разумную и человечную жизнь.
Богатыря нет. Спит солнце. И все в природе полно тревоги и ожидания: придет ли? Дерзнет ли? Если же – нет, тогда одно остается: томиться и ждать, медленно умирая.
Белый человек с косматой бородою пал в пепел. Он оказался березовой чуркой, у которой едва намечены топором жесткие человеческие черты, а губы нарисованы углем, вместо волос и бороды был приклеен сухой мох.
– Ишь как сиганули! – гулко расхохотался Бондарь. Это он да Барма увели разбойничьих коней, а Замотохины люди переловили мародеров и, узнав в них своих старых обидчиков, вздернули на осинах.
– Нет на земле мира, поедом люди едят друг дружку, – вздохнул Бондарь, оглядывая пожарище. Впилась в сердце боль за неведомого ему человека, лишенного крова, а может, и жизни. Не знал Бондарь Иннокентий Корнильевич, что здесь только что сожгли его родного отца. Давно расстались: ушел отец в лесной скит. Потом, был слух, скит сгорел, и все, кто был в нем, тоже. Так и жили отец с сыном неподалеку, ничего не зная друг о друге. Могли бы встретиться, могли бы поселиться в этой избушке и вместе пытать бога: «Пошто?» Одному бог не ответил – ответит двоим. Двоим не ответит, еще кто-то подаст голос. И множество голосов будет услышано. А если не будет, то и бога, стало быть, нет. Люди сами его придумали.
– Нету, – опустив голову, повторил Бондарь.
Солнце с шапки светлело. Небо, согретое его первыми лучами, поднялось. Бондарь пытливо уставился на Барму, спросил:
– А может, все-таки есть?
– Слыхал я, – заглянув в вымытые тихой надеждой Бондаревы глаза, слукавил Барма из благих намерений, – есть где-то в странах полуночных такая земля. Там люди ни войн, ни царей не знают. Живут, охотятся, детей рожают. Того, где та земля, Кеша, точно не знаю.
– Искать буду, – сказал Бондарь, сразу поверив ему, потому что должен человек во что-то верить. – Хотел с Замотохой остаться. Теперь с вами пойду. Авось набредем случайно?
– Всякое может статься, – уклончиво отозвался Барма, посмотрев на друга с доброй улыбкой. – Новые земли по пути не раз встретятся. Может, среди тех земель окажется и твоя земля, Кеша. А щас Дарью давай поищем. Боюсь, не под пеплом ли?
– Нет, Тима, – возразил Бондарь, – чует сердце, живы они. Не тревожься: вам век долгий выпал. Долгий, Тима, и радостный.
– Гляди не соври! – свел было к шутке Барма, но вдруг склонился над палой березой. На изрытой коре чернильное пятнышко, земля у ствола исслежена. – Тут они были, Кеша, – сказал хриплым шепотом. – Вот след.
– Может, и были, – с видимым спокойствием отвечал Бондарь. В его душе зародилось страшное сомнение, но он прогнал его тотчас. – Живы они! Давай искать.
Сев в седла, других лошадей – каждый по две – взяли в поводья и поскакали вдоль озера, едва не столкнувшись с прапорщиком и Першиным.
– Ишь рыскают! – проворчал прапорщик, тащивший Першина на себе.
– Что за нора тут? – слабым голосом спросил Першин, увидав лаз, ведущий от озера к избушке.
– Наверно, барсуки вырыли.
Не везет поручику: то в плен попадет, то увязнет в болоте, теперь вот ранили глупо. Солдат в ищейки не годится. В судьбе прапорщика тоже веселого мало: велено разбойников в лесу извести, а вышло так, что сам в битых оказался. Как теперь начальству докладывать?
Рябое, широкое лицо прапорщика сине и уныло, на шишкастом лбу царапина: съезжал с косогора – опрокинулся и лбом о камень.
Проклятая служба, проклятая жизнь! Ни денег не нажил, ни почестей. А как рвался, как рвался из нищеты, из убогого однодворного поместья! Имел крепостного – отцовского денщика. Оставил дома его: стар, хром, глух. Пускай стережет добро хозяйское. Добра-то: крыша да стены. Забор и ворота сожгли. Небогато, а все ж домок. Ежели придется уйти в отставку – все же не на улицу.
В норе, над берегом, послышалась возня. Чуть ли не на голову Першину свалился камень. Поручик вскрикнул, но прапорщик зажал ему рот: «Тсс!» Из норы высунулась хорошенькая женская головка, но тотчас скрылась.
– Барсуки, говоришь? – довольно рассмеялся Першин. – Надо изловить их, Алексей Петрович. Поймаем – все вины простятся.
– Простятся, считаешь? – Унылое лицо прапорщика повеселело. – Тогда лежи тут. Я вдогонку ударюсь.
Цепляясь за ветки, полез по обрыву к норе и вскоре скрылся в ней.
«Не ушла бы, токо бы не ушла!» – думал Першин, карабкаясь вслед за прапорщиком. Рана в плече болела, мешала. Он лез, срывался, бередя боль, и снова лез.
«Перекрою с этого конца лаз – вернутся, поди?» – взобравшись наверх, обессиленно упал возле выхода.
Даша, не чуя ног под собой, торопилась обратно. Под сгоревшей часовенкой ее поджидал Гонька.
– Там эти, Гоня… – торопливо проговорила женщина.
Сзади уж слышались чьи-то тяжелые шаги. Даша втиснулась в нишу под дуплом старой, глубоко пустившей корни сосны, прижала к себе мальчонку. Сердце его под рукой женщины билось часто, как у пойманной птицы. Шаги слышались почти рядом. Сверху, из-под корней сосны, подсвечивало. Даша заткнула отверстие платком. А тот ломится, грохочут шаги в тишине, о камни бьется сабля. Еще пяток шагов, и поравняется. Только бы не задел!
Задел… Сабля ударила ножнами немого, чиркнула по стене. Сапоги угрохотали дальше.
«Второй-то где же?» – Даша вслушалась, но шагов второго преследователя не различила. Думала, оба следом бегут. Они хитрей оказались. Второй ждет у выхода. Но все равно нужно уходить. Нащупав камень, подняла его и потянула за собой Гоньку:
– Скорей, Гоня! Скорей, милый!
Прапорщик, верно, уперся в тупик, попытался взломать входную дверь в избушку… Если откроет – выйдет на пепелище.
Убрав дыхание, Даша прокралась к выходу. В нос ударило тяжелым запахом засохшей крови. Человек, ждавший их у выхода, был недвижим. Даша тихонько перебралась через него. Рука Першина вскинулась, схватила женщину за косу.
– А-а! – закричала от неожиданности Даша, выронив камень, который приготовила.
– Попалась? Давненько за тобой гоняюсь! – торжествующе проговорил Першин, подтягивая женщину за косу. Даша упиралась в него руками, отбивалась. Оба незаметно придвигались к обрыву. Оба враз сорвались и, кувыркаясь, покатились вниз. Гонька, схватив камень, съехал за ними. Першин опять потерял сознание. Рука по-прежнему сжимала Дашину косу.
– Не тро-онь! – вдруг изо всей мочи взверещал парнишка, ударив поручика по затылку. – Не тронь! – прокричал снова, в первом произнесенном им слове выплескивая страх, радость, проснувшуюся от жестокого, но все же истинно мужского поступка. – Бежим! – еще не осознав, что говорит, но уже чувствуя обретение речи, без которой жил многие годы, торопил Гонька. Язык его непослушный ожил, обрел дивную возможность произносить прекрасные человеческие слова. – Бежи-им! – во все легкие восторженно выкрикивал Гонька самый обыкновенный глагол. Но ведь это был глаго-ол!
– Что ж ты молчал-то? Почему молчал? – охнула Даша. – Не хотел говорить?
– Хотел – не мог. Почему – не знаю.
Они бежали берегом в ту сторону, куда только что проскакали Барма с Бондарем.
Кричали проснувшиеся чайки, блажили гагары. Дно озера, светлого и студеного, просматривалось насквозь. По легкой ряби, собранной утренником, играли красные блики. Скалы покрылись позолотой, и мох зеленый, изрисовавший их причудливыми узорами, казался драгоценным вкраплением в черно-золотой оправе.
На песке, забросанном мелкой рыбешкой, выплеснувшейся в ветреную погоду, дремал лебединый табунок. Гонька при виде царственных птиц восхищенно замер: «Красота-то какая! Бог мой, какая красотища!..»
– Кеша! Вот они, бегунки-то! – Барма, стегнув лошадь, перемахнул через ерик, подхватил Дашу на руки. Бондарь усадил впереди себя мальчонку.
– Лебедей испужали, – укоризненно молвил мальчик. Барма от неожиданности крякнул. Бондарь свалился с лошади.
– Чудо, чудо свершилось! – бормотал он, отряхиваясь от налипшей мокрой хвои. – Язык, что ль, вырос?
– Сам я вырос, а не язык, – огрызнулся Гонька.
– Так и заикой стать можно!
Они поскакали туда, где назначили встречу с Митей. Бондарь пришпоривал лошадь, разнеженно думая: «Вот, теперь все как надо. Гонька заговорил… Поплывем с ним открывать землю незнаемую. Найде-ом!»
В том, что земля эта существует, Бондарь не сомневался. С такими-то людьми не найти! Ох, до чего славно, когда рядом Барма, Даша, Гонька!
– Дядя Кеша, а тятька твой где?
– Не знаю. Помер, наверно.
– И мой помер. Будь тятькой мне. Ладно?
– Ладно, сынок. Буду, коль ты желаешь.
Барма расспрашивал Дашу, что было с ней в эти дни. Узнав о погибшем старике, Барма начал сопоставлять с тем, что знал от Бондаря о его отце.
– Там золото спрятано, – сказала Даша. – Нам дед Корниша сказал.
– Дед Корниша? – встрепенулся Бондарь. – А каков он из себя?
– Большой такой, добрый. Он и мертвый нас заслонил, – вступил в разговор Гонька.
– Дед Корниша… Дед Корниша… – бормотал Бондарь, заглядывая в глаза Гоньке. – Он ногу левую не волочил? Нога у тяти была прострелена.
– Вроде прихрамывал, но не шибко. Всяк час бога спрашивал: «Пошто людям жить тяжко?»
– Может, и он это, братцы. Хочу побывать на пепелище. – И все отправились к бывшей часовенке, чтобы поклониться праху человека, сгоревшего за людей русских.
Пепелище выстыло. Лишь в самой глубине, над подпольем, еще потрескивали уголья. Неподалеку лежал человеческий череп, но стоило коснуться его – череп распался.
– Тятя, тятенька! – шептал Иннокентий. – Вот как свиделись…
Взяв горстку пепла, привязал к гайтану.
– Зачем он пепел-то взял? – спросил шепотком Гонька.
– Чтоб помнить, – ответила Даша, тоже захватив щепотку пепла. – И ты возьми.
Гонька взял и завернул священный пепел. И Барма взял, и все отправились на судно.
– А клад? – вспомнила Даша. – Давайте поищем.
Запалив факелы, обыскали каждую щель в подземелье, каждую выбоину, но ничего не нашли.
– Значит, не для нас был спрятан, – усмехнулся Барма.
Даша, вспомнив, что оставила здесь платок, кинулась в нишу, в которой таились от прапорщика. В щель хлынул сверху дневной свет. В углу ниши увидали впадинку. Барма на всякий случай стукнул палкой – раздался гулкий звук.
– Может, здесь? – выворотив камень, извлек из-под него черный, изъеденный ржавчиной ящик.
Открыли – Даша заглянула внутрь, вынула черное паникадило, три измятых оклада и небольшую шкатулку.
– Больше нет ничего.
– А больше ничего и не надо, – пожал плечами Барма: оклады и паникадило были из золота, в шкатулке – жемчуг и драгоценные камни.
…«А под землею клад нашли драгоценный, – записал Гонька. – Пятеро лесных людей пошли с нами. Теперь нас много. И говорить я умею…»
18
Стояла черемушка, мерзла и обмирала. И черный ствол ее сломанный и голые заледеневшие ветки еще в конце марта, даже в апреле не подавали признаков жизни. «Померла, – заглядывая в палисадник, вздыхал Пикан. Свалив на веку своем несчетно деревьев, черемуху жалел почему-то. А видно, и ее срубить придется: стара. – Жалко!»
Пожалел, забыл о горюхе. Не до черемухи было: сначала свадьба, потом мучитель явился бывший, князь Юшков. Полдня стоял у ворот. Пикан, счастливый и великодушный, поминать старое не стал, принял в дом и его, и Пинелли. С тех пор живут под одной крышей – чета Пиканов, князь и Пинелли.
Квартиранты утрами спят подолгу. С Пикана семь потов сойдет, они все еще в постели. Простая сытная пища, воздух вольный пошли им на пользу: оба округлели, у итальянца брюшко наметилось.
Тоболом утро приплыло. Засинело окно в спаленке. Пикан осторожно высвободил из-под Фешиной головы руку, босой вышел на крылечко. Уж солнце лукавый глаз приоткрыло. Пикан усмехнулся: «С гостями совсем разленился! Завсегда до солнышка вставал».
Голубые ели, точно их вымыли, посвежели. На молодых сосенках кто-то наставил свечки. Чиркни огнивом – загорятся. Да нет, и чиркать не нужно: вон солнце лучом их зажгло.
«Хорошо-то как, господи! Неужто и я по-человечески зажил? Смиловалась судьба, послала мне татарочку. Забыл уж в бедах своих, что небо синим бывает».
На охлупень села какая-то пташка, неказистая, серенькая. На воробья вроде не похожа, поаккуратней. Оправила крылышки, клюв почистила, присвистнула.
«Это же соловушка! Ну что ж ты примолк?»
С седала крикнул петух, горделиво размахнул багряные крылья, закукарекал.
– Тьфу, пропастина! – кинув в него палкой, рассердился Пикан.
Петух заклокотал гневно, вызвал кур и затряс перед ними гребнем, должно быть рассказывая о простофиле, не понявшем его песен. Хохлушки угодливо поддакивали и между делом клевали зерно, с вечера насыпанное Фешей в корытце.
Соловей, сраженный наглостью горлопана, куда-то исчез.
«Видно, отпели мои соловушки!» – вздохнул Пикан, подумав о времени.
Вдруг за воротами как защелкало, как засвистало! Пикан кинулся к палисаднику. Там словно молоко вскипело. Черемуха старая и две соседние, помоложе, сплошь залиты были белой пеной. В той пене душистой потерялся крохотный певец. И в соседних садах соловьи взвинтили, подхватив его песню.
Город замер. Распахнулись окна, распахнулись души. Соловьи, баяны тобольские, славили наступающее лето.
И Феша проснулась. Увидав вмятину на подушке, погладила ее ладонью, словно Пикана самого гладила, улыбнулась и, услыхав звон соловьиный, толкнула створку в сад. Как сильно, как сладко несло черемухой! Как беззаветно отдавал свою душу людям соловей!
Замерла. Думала, сердце толкнулось… Не-ет, толчок был ниже. Вот оно, во-от… дите бьется! Неосторожно оно, боль причиняет. Но ведь и отец его, матерый и неистовый, не раз причинял сладкую боль.
В соседней комнате проснулся Пинелли. Подняв палец, восторженно проговорил:
– Божественная, чудная песнь! Страна божественная! Здесь, верю я, исполнятся мои замыслы.
Солнце, перестав жмуриться, глянуло во все глаза, сыпануло на землю золотою пыльцой. Черемухи парили, кружили головы соловьям. Босой, взлохмаченный Пикан стоял в мураве прохладной, слившись с землею. Земля перекачивала в негр свои соки. Ширилась грудь, ярой силой наливались плечи. Сила сотрясала огромное, полное соков земных тело. Увидав жену в створке, перемахнул через плетень, вынул ее из окна, словно в хмелю, забормотал:








