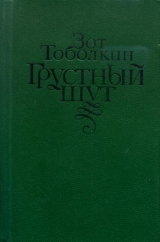
Текст книги "Грустный шут"
Автор книги: Зот Тоболкин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 21 страниц)
– Благодарствую, – поклонился Фишер. – Есть еще одно небольшое условие…
«А, сволочь!» – чуть не выругался князь. Этот бродяга наглеет день ото дня. Уже смеет ставить условия.
– Ну? – спросил нетерпеливо, скрывая вспыхнувшую в голосе злобу.
– Я бы хотел быть представленным вашему государю.
– Успеется. Государь занят сейчас. И не любит он пришлых, – сказал князь первое, что пришло в голову.
– Я слышал, наоборот, – усмехнулся Фишер. – И Монс мне говорил то же. У вас ценят людей смышленых.
«Монс?!» – едва не задохнулся от ненависти князь. Жизнь его из-за секретаря царицына висела на волоске. Да и теперь государь холоден с князем. После того разговора с царем Борис Петрович внес в казну полтораста тысяч. Пришлось немало потрясти соотечественников. Да и в мошне своей пошариться. Отощала она, а дочь на выданье. Но главный убыток – нелюбовь государя.
– Давай перстень сюда. И письмо, – сказал грубо, без лишних слов.
Фишер словно невзначай положил руку на шпагу. Этот жест незамеченным не остался.
– Мой друг Виллим обещал представить меня царице, – сказал он многозначительно. – Письмо и перстень остались на шхуне.
– А, ты так… – злобно скривился князь и позвал в кабинет братьев.
– Сила на вашей стороне, сударь, – Фишер бесстрашно выхватил шпагу, взмахнул ею со свистом. – Но живым я не дамся.
– У него письмо, Тима, – сказал князь. – Письмо и перстень. Не отдает.
– Отдаст, – подмигнул Барма князю, поманив к себе Фишера.
– Только вместе с жизнью, – пригрозил Фишер и, выставив шпагу перед собой, стал приближаться к Барме.
– Давай перстенек-то… давай, – негромко требовал Барма.
Фишер шагал к нему, бормоча: «Вместе с жизнью… вместе с жизнью». В одной руке держал шпагу, другой шарил в кармане то, что требовал Барма.
– Зачем мне твоя жизнь? – ласково возражал Барма, принимая перстень царицын, а затем и письмо. – Твоя жизнь мне совсем не нужна. Дай бог со своей управиться. Ступай теперь, ступай, ступай! – прогнал Фишера и, избавившись от соглядатая, начал читать письмо.
– Крупно играешь, Борис Петрович! Вот уж и царица тебе задолжала, – покачал головой, вдумываясь, какую выгоду будет иметь от этого послания князь. Сама царица дарит перстни какому-то Монсу. А ведь царь из грязи ее вытащил… Вот женская благодарность!
– Этот Монс сватался к дочери, – пробормотал Борис Петрович. – Я его выгнал.
– Если я посватаюсь – тоже выгонишь? – усмехнулся Барма, не спеша возвращать добытое у Фишера.
– Она княжна, Тима, – не стал изворачиваться князь. – Ей нужна ровня.
– Ровня… – Барма до боли закусил губу, потом встряхнул головою, сверкнул бесшабашной улыбкой. – Ладно, пользуйся… но помни: не вернешь родителей – доведу до царицы.
– Верну, Тима, – клятвенно обещал князь, торопливо пряча письмо и перстень. – Теперь уж точно верну.
12
Шестой день праздновали годовщину Ништадтского мира. Все утомились, скучали, забавляясь кто чем мог. Сам царь удалился и ненадолго прилег. Стал уставать в последнее время. Все чаще стискивали голову железные обручи. Разламывалась головушка, и не было мочи выносить эту нестерпимую боль. Слабость свою оказывать царедворцам не хотел. Уходил, лежал, сложив на груди тяжелые, натруженные, совсем нецарские руки, вперив в потолок налитые кровью и горечью глаза. Думал…
Вышел из спальни, не отдохнув. На пути его перехватил Борис Петрович, что-то шепнул и замер, поедая преданными глазами.
Петр дернул узким костлявым плечом, раздраженно буркнул:
– Зови.
– Вместо одного двоих привел, – подталкивая Митю, прятавшегося за младшего брата, говорил Борис Петрович. – Этот чудодей, а тот, прячется, мореход.
– Ежели мореход, что ж он прячется? – сердито спросил Петр.
– Оттого что не по вину, а по морю ходит, – ввернул Барма, забавляясь с зайцем.
Петр хмуро покосился на него, скривил щеку. Велел подать себе трубку, закурил и сел за шахматный столик.
– Где ж плавал, мореход славный? – спросил, затягиваясь. В зале громко захохотали. Меж взрывами смеха послышался чей-то визгливый голос…
– Весь свет обошел, – врезался в разговор Юшков, выдвигаясь вперед. – У него и карта есть, и записи…
Дарья Борисовна, беседовавшая неподалеку с каким-то придворным хлыщом, невежливо прервала его на полуслове, приблизилась к столику. Однообразные танцы, мятые от многодневного пира лица, заученные комплименты утомили ее. Увидав отца и братьев, с мороза свежих и броско красивых, тотчас воспрянула, незаметно тронув Барму за локоть.
Кто-то вновь рассмеялся громко. Петр шикнул. Его не расслышали.
– Уйми их, – велел Юшкову, притопнув ногою. Взглянув мельком на Барму и на его зайца, сердито спросил: – Ты шут?
– Шуты – вон, все разряжены. Мне не ровня, – насмешливо ухмыльнулся Барма.
Петр всхлипнул трубкой, вздохнул и отослал:
– Ступай туда… оба ступайте!
Дарья Борисовна подхватила Барму за руку, повела к царице.
– Ваше величество, – присела она перед Катериной, – мой протеже, Тимофей Пиканов. Он много в чем преуспел…
Царица погрозила ей пальчиком, лукаво улыбнулась. Но Дарья Борисовна, словно бы не поняв уж слишком очевидного ее намека, бойко закончила:
– Но более всего в фокусах. Он также режет по дереву, рисует, складно поет…
Петр, оглянувшись на них, усердно засосал погасшую трубку, принялся листать Митины записи. Отложив их, задумался, постучал костяшками пальцев.
– Теперь карту кажи. И объясняй по ходу толково.
– Чертеж тех мест, где бывал, – одолев робость перед царем, начал Митя. – Вот нос Камчатский. Тут Атласов бывал когда-то. Отсюда плавал я к мысу Лопатка, а с мыса по всей Курильской гряде, вплоть до острова Матмая. Там японцы живут. На других островах – курилы. Кожу нерпичью носят, промышляют охотой и рыбалкой. Много там птицы разной, рыбы много. Я писал о том коменданту Камчатки. Он, верно, переслал вам мои записи?..
– Не было такого, не помню. Надо будет спросить у Соймонова, – Петр, светлея глазами, ласково кивнул: – Сказывай дале.
– Ходили байдарами с острова на остров. Очертания островов и проливов я наносил на карту. Брал для показу тамошние одежды, рухлядь, посуду разную. Тоже высылал на Камчатку. Потом второй был поход, и третий… Я во все три ходил и карту подробную сделал. Одну Козыревский забрал – судьбы ее не знаю. Две – на случай – вычертил для себя. Товарищи мои сгинули. Сам выжить не чаял. Добрые люди – жители тамошние – помогли. Без малого год у них прожил… – просто закончил Митя. Отдав карту, не знал, чем занять руки, и потому неловко переминался, краснел.

– Спасибо, малый, за бескорыстную службу! Скажи, чем жаловать тебя за твои заслуги? – обняв его, ласково спросил Петр.
– Хотел я снова туда сплавать. Теперь иным путем, северным. Мне бы суденышко да команду… – высказал скромную просьбу Митя.
– Только-то? – удивился Петр. Простота и бескорыстие землепроходца радовали. Выколотив трубку о колено, заговорил с теплотою, редко звучавшей в его голосе последнее время. – То труд твой нелегкий, а не награда. Доволен я крепко, что дело свое превыше всего ставишь. Такие люди мне надобны. Можешь ли сам повести судно?
– Во втором и в третьем походе, ваше величество, я был за штурмана.
– Вот и ладно, сынок, – Петр притянул к себе Митю, снова обнял. – Жалую тебя лейтенантом русского флота. Макаров!
Секретарь, только что шептавшийся с князем Юшковым, мгновенно подлетел к царю, изогнулся, касаясь париком пола:
– Слушаю, ваше величество.
– Составь грамоту на представление в лейтенанты флота, – приказал Петр и поднес Мите чарку. – Теперь и выпить не грех. Ну вот, – подписав грамоту, принесенную Макаровым, поднял чарку сам, – благословляю тебя, лейтенант. Пробивайся на восток северным окоемом. Пойдешь туда с экспедицией Беринга.
– Сколь хватит сил моих, государь, буду служить тебе верой-правдой, – рвущимся от волнения голосом обещал Митя.
– В то крепко верю, – кивнул Петр. Тут офицер дежурный подал ему пакет. – От кого? – взглянув на конверт без подписи, спросил Петр.
– Какой-то человек передал. Себя не назвал. Сказал, царю от любящей женщины.
– О, – захохотал Меншиков, приблизившийся к столу, но тут же осекся.
Петр бешено топнул, смял пакет в горсти: в ладонь уперлось что-то твердое. Царица, беседуя с Бармою, из-под прищуренных век следила за царственным супругом. Но вот тревожно вскинула бровь: в зал почти ворвался ее секретарь, волоча за собою Фишера. Забыв поклониться царице, кинулся к Юшкову.
13
Сославшись на недомогание, царь снова удалился. Полежав час-другой, велел позвать к себе Монса. Испуганный этим приглашением, царицын секретарь шел к нему ни жив ни мертв. Следом толкнулась сама Катерина. Петр с грозной ласкою удалил ее; у дверей поставил своего денщика, приказав никого не впускать.
– Сядь, Виллим, – сказал тихо. Худой кулак судорожно сжимался и разжимался. На потном виске дрожала синяя жила. – Как ты на Анну похож… – зорко вглядываясь в Монса, ужавшего круглые, начинающие полнеть плечи, задумчиво проговорил Петр. – Красив и… так же предан.
– Государь, я за сестру не ответчик, – избегая пронизывающего взгляда царя, чуть слышно выдавил из себя Монс. – Я вам предан душой и телом. Вам и Катерине Алексеевне.
– Что Катерине предан – знаю… – глухо молвил царь, рванув пакет, из которого выпал похищенный Фишером перстень. – А мне так же верен, как и сестра твоя…
Монс все понял и молча рухнул на колени.
Его увели.
Лицо Петра посерело. Глаза дико выкатились. Тряслись непослушные, много умевшие руки. Он что-то хотел крикнуть, но свалился со стула. К нему вызвали доктора.
В зале Барма забавлял фрейлин и царицу. Митю увел к себе царский токарь Нартов, стал расспрашивать новоиспеченного лейтенанта о житье-бытье, сам показывал ему токарный станок, мастерскую.
Поняв, кто перед ним, вздохнул сочувственно:
– Не ко двору ты здесь, парень. Уплывай скорее. И брата с собой бери…
Юшков и светлейший играли в шахматы.
– Худо играешь ноне, Александр Данилыч, – снимая фигуру за фигурой, посмеивался Борис Петрович. Причину рассеянности светлейшего знал.
Меншиков, взяв по чарке себе и князю, вполголоса спросил:
– Того немца, – кивнул он на Фишера, занимавшего разговорами его сестру, – ты подослал к Монсу?
– Сами снюхались. Для чего я немцев сводить стану? Меня и с русскими мир не берет, – усмешливо-спокойно ответил Юшков.
– А ты не ссорься со мной… Не ссорься, Борис Петрович, – погрозил пальцем светлейший. – И с государыней не ссорься…
– Да смею ли я, Александр Данилыч! – Юшков поискал глазами Монса. Того не было. «Видно, пакетик-то не зря передан», – подумал. Объявив мат, сказал почтительно: – Государыню чтить надо. Да и тебя тоже. – Помолчав, с усмешкой, повергнувшей светлейшего в ужас, добавил: – Тебя и в Лондоне чтут… Сдавайся, Александр Данилыч!
Меншиков, рассыпав фигуры, бросился к выходу, расталкивая встречавшихся на пути придворных.
Оркестр, перестав пиликать какой-то унылый менуэт, бодро грянул русскую плясовую. Дарья Борисовна, по знаку царицы, тотчас впорхнула в круг, позвав за собой Барму. Тот пронзительно свистнул, метнулся ей навстречу и, выдав коленце, махнул вприсядку. То прыгая выше головы, то приседая и хлопая себя по подошвам, Барма носился и требовал:
– Жару! Жару!
Легко порхала вокруг Дарья Борисовна, дробила, вертелась на носочках, а когда музыка кончилась, нарочно поскользнулась и, подхваченная Бармой, шепнула ему:
– Мой!..
Танцмейстер немец вновь велел играть менуэт, но царев врач что-то шепнул царице.
– Государь болен, – сказала она.
Пир на этом закончился.
14
Недели с две проболев, Петр почувствовал себя лучше. С утра вызвал к себе Беринга и Пиканова, чтобы обсудить с ними план Северной экспедиции.
– Затосковал, лейтенант? – спросил в конце беседы, хлопнув по плечу Митю.
– Уж паруса снятся, – признался Митя.
– Ну скоро, скоро. Теперь скоро, – успокоил Беринг, которому царь поручил возглавлять экспедицию.
– А ты поспешай, командор, – строго нахмурился Петр. – Вот-вот и лед на Неве тронется. – Поймав укоризненный Митин взгляд, тепло улыбнулся. – Чокнемся, лейтенант, за удачу! Попутного вам ветра!
– Не пейте, ваше величество, – тихо сказал Митя. – Нельзя вам пить.
Беринг крякнул недовольно и поставил свою чарку.
– Отчего же нельзя-то? Всем можно – царю нельзя? – полушутливо, полугрозно спросил Петр. Рюмку, однако, отставил.
– Век себе укорачиваете. Ум ослабляете.
«Верно, ох, верно, парень! Год за десять проживаю… Износился…»
– Ну, помру, – сказал ласково, усадив Митю рядом с собою и заглядывая ему в глаза, – жалеть будешь?
– Не помирай, государь, – взволнованно попросил моряк, словно от Петра зависело – жить или помереть. – Без тебя держава наша сгинет.
Беринг, все-таки успев опрокинуть чарку, уж хрумкал огурцом. Бесхитростная Митина фраза повергла его в смятение: огурец застрял в горле.
– После меня есть кому наследовать, – не сразу отозвался Петр, не сумев скрыть печали в голосе. – Елизавета есть, дочь… Внук подрастает… – сам понимая беспомощность доводов, отрывисто говорил царь и клонил голову, чтобы не показать выражения вдруг погрустневших глаз.
– «Лизавета – девка, что с нее взять, – возразил Митя, объявив тайные тревоги царя. – Царевич глуп, все расстроит.
– Дурак! – визгливо выкрикнул Петр, замахнулся, но не ударил. В словах моряка была горькая для него правда. – Прилюдно кто говорит такое? – закончил он с кривою усмешкой. Шлепнув Митю ладошкой по лбу, поднялся, чтоб уйти в спальню, вздремнуть часок, но, сделав два-три шага, упал. Моряки поняли: это конец… Сама Россия рухнула на пол. Звук от падения разнесся по всему миру…
15
Опять собрались у Дуни. В княжеских хоромах просторно, никто не подслушивает, но говорили с оглядкой, словно боялись, что от громких голосов обрушится на головы потолок.
– Утекать надо, братко, – говорил Барма, глядя в ночь без звезд, без месяца. Сырое, тусклое небо стиснуло мир со всех сторон, забило неспокойными тучами пространство – глаза искали в них какого-нибудь разнообразия, голубизны ласковой или теплого закатного золота. Тщетно искали – сплошь сырость и мрак. Только ветер понизу гонит старые листья, гнет ветки деревьев. Мертво, безлюдно на темных улицах. Лишь изредка слышатся тягучие выкрики сторожей да еще реже отчаянные вопли заблудившихся пьяниц. И не поймешь: то ли поют они, то ли грабят их. Потрескивают свечи в шандалах, плавится воск, пахнет жареными кедровыми орешками. Дуняша берет их из блюда по одному, угощает зайку. Звереныш привязался к ласковой княгине, не отходил от нее ни на шаг.
– Присушила его, – усмехнулся Барма, погрозив зайцу, посерьезнев, вернулся к прежнему: – Одному богу известно, когда царь оклемается.
– Он подымется, братко! Слышь? Он подымется! – себе не веря, горячо заговорил Митя. До этого сидел, опустив голову. Давно уж прискучило ему житье в столице: все балы да ассамблеи. А на экспедицию ни Соймонов, ни Беринг денег выбить не могут. Время идет, царю, по слухам, все хуже и хуже. Не выздоровеет, так все пойдет прахом.
Но Митя верил, что царь встанет. С ним связывал свои большие надежды. И Беринг надеялся на это, и славный мореход адмирал Соймонов.
Сотни раз уж обговорили, как пройдут за лето до Мангазеи, поднявшись по Иртышу к Тобольску, перезимуют и – с новыми силами – на восток.
Вошел Нартов. Ходил тихо, вперевалочку. Правой ногой загребал. И говорил громко: был глуховат. Наводя ладонь на ухо, тянулся глазами, словно хотел выследить, откуда и куда летит звук. Иной раз слух его каким-то чудом налаживался, становился тонким, потом опять пропадал. Говорили, напускает на себя Константиныч, только прикидывается глухим. Что ж, возможно: порой удобней не слышать, чем слышать. Слова Митины тем не менее услыхал и тотчас подключился к разговору:
– Плох, шибко плох государь! Вокруг воронье собралось – расклевывает зерно. Всходить будет нечему. В гору дюжина тянет. Под гору – миллион. Нет радетелей, нету, – сыпались горошком быстрые, складно выговоренные слова, словно заготовлены были загодя.
Дуняша на подносе внесла лафитничек, подала Нартову.
– Вот и ладно. – Выпив, Андрей Константинович занюхал ржаным хлебцем, взял кусочек семужки, но, не откусив, положил обратно. – Добра, добра рыбица! – улыбнувшись хозяйке, отослал: – Ну ступай, ступай, княгинюшка! Мы тут малость языки поточим. Может, неловкое слово вырвется… Мужичьё ведь! Беги!
Когда дверь за княгиней закрылась – потемнел весь, стукнул кулаком о кулак. Пальцы сплошь изъедены кислотой, изрезаны стружкой. – Худо, худо, ребятушки! Петр Алексеич жив, а там уж грызня началась.
– Она и не кончалась, дядя Андрей, – невесело усмехнулся Барма. – Слег хозяин – лакеи штаны его примеряют.
– Тебе, Тима, за язычок в первую очередь достанется! Данилыч уж спрашивал про тебя. «Где, говорит, скоморох-то этот?..» Ты, чаю, опять ему надерзил?
– Слышал, как с Остерманом они ссорились? Тот его жуликом обозвал: дескать, канал Ладожский строил – денежки в карман себе положил. Я заступился: «Какой же он жулик? Он каналья, раз на канале нажился».
Митя лишь руками всплеснул. Мыслимое ли дело – на медведя без рогатины ходить? Да уж таков он, братко. Где может съязвить – не утерпит. Многих противу себя настроил: Апраксина, Ягужинского, Остермана – все влиятельные вельможи…
Опять без стука вошла Дуняша. Оглянувшись на дверь, шепнула:
– Там этот… Фишер. Впустить аль нет?
– Я уж не там, а тут, – входя следом, сказал гость незваный и заговорщически подмигнул. – Собеседуем в темноте? Или – как это? Сумерничаем?
Всем поклонился по-русски, для вида обмахнул лоб, подумав: «С свиньями жить – свиньею быть». Волосы, тяжелые, черные, коснулись пола. Огонь на ближней свече плеснул вверх, заколебался. Дуняша добавила света. Гость, стоявший посередине комнаты, стал виден отчетливей. Все в этом человеке было крупно, ладно, везде он чувствовал себя дома, везде, только не здесь. Не зашел бы, но есть нужда.
Сверкая улыбкой, мрачно посматривал вокруг черными, неулыбчивыми глазами, ловил каждый звук, каждое движение.
– Слыхал, в экспедицию собираетесь? – спросил, проницательно посмотрев на Митю. – Я так полагаю: ваша экспедиция не состоится. То же и Беринг мне говорил.
– Состоится, когда государь встанет, – возразил нерешительно Митя.
– А он не встанет. Надежды нет.
– Не каркай! – хмуро оборвал Нартов. – Мы все надеемся.
– Надеждам вашим сбыться не суждено, – невозмутимо усмехнулся Фишер. – А те, кто государю наследуют, иными делами будут заняты. Так я понимаю.
– Много понимаешь, Иван Фишер. А знаешь ли, что Александр Данилыч и… кое-кто, кроме него, – не желая упоминать имя царицы, предупредил Нартов, – шибко сердиты на тебя?
– Александр Данилыч не в меньшей мере и на них сердит, – указал Фишер на братьев, невольно содействовавших гибели Монса. – Так что?
– То, что всем вам на глаза ему попадаться не следует.
– Я так же мыслю, – кивнул Фишер и поклонился братьям. – И потому приглашаю вас к себе в команду. Мне нужны отважные и смелые люди. Вы именно таковы. Состоится или нет ваш поход – покажет время. А моя шхуна почти готова.
– Нужны приборы, одежда, провиант… Где раздобудете на это средства? – спросил Митя, знавший, сколь дорого обходится такой нелегкий поход.
– У вас есть карта. И есть записи, – вернулся к прежнему Фишер, умолчав, однако, о своих пиратских замыслах. – Их можно продать, разумеется, сохранив себе копии.
– Можно, – простодушно согласился Барма.
Фишер, побыв еще недолго, раскланялся и, довольный уступчивостью братьев, ушел, пообещав наведаться днями за копией. Молчавший при нем Нартов с укоризной посмотрел на Барму:
– А знаешь ли, Тима, что ты запродал?
– Он сказку просил у Мити, – ухмыльнулся Барма. – Получит сказку. Сказки сказывать я с детства приучен.
– Тут не одну сказку требуют… карту тоже.
– Будет и карта. Верно, братан?
– Запродаст ее какому-нибудь иноземному королю – России обида, – задумался Митя. Еще раз взвесив, бесповоротно решил: – Нет, Тима, так не годится. Ту карту сдам в Адмиралтейство.
– Сдавай, – махнул рукою Барма. – А Фишеру всучим копию. Да нет, не ту, которую ты прячешь… иную… ложную.
– А ежели он разгадает?
– Чтоб разгадать, братко, надо в те края сплавать. А плыть – не сказки сказывать. Верно, дядя Андрей?
Барма распахнул створку – с Невы пахнуло сыростью, ветром задуло пару свечей. Тучи местами раздвинулись, в глубине между ними мелькнуло несколько блеклых звездочек. Барма подмигнул им, вдохнул всей грудью прохладный воздух:
– Ништо. Жить можно. Будем жить!
– Пойду я, – шепотом проговорил подавленный Нартов и, волоча ногу, зашаркал к выходу.
– Зайку-то зачем своровал? – пошутил над ним напоследок Барма. – Неладно, гость дорогой! Самому нужен.
– Тьфу, бес! Не к ночи будь сказано! – незлобиво выругался Нартов и вынул из-за пазухи зайца.
– Вот русские мы, – вздохнул Митя, когда Нартов ушел, – а скоро ль на земле своей хозяевами станем?
– О, братко! Многого захотел! У нас и царь – не хозяин, а ты про себя… – повесил голову Барма, помолчав, вскинулся опять: – Давай уедем, а? Я знаю клад один… Если цел – суденышко себе купим. Купим и – поминай как звали!
– А Дуня? На кого ее бросим? – напомнил Митя.
Легка на помине, впорхнула Дуняша, сунула Мите сафьяновый мешочек.
– Тебе на память, братушка! В дальних странствиях сгодится.
– О! – изумились братья. В мешочке было дареное князем бриллиантовое ожерелье.
16
Наконец-то Пиканы поселились под собственной крышей. Хоть пусто под ней было, а светло и спокойно: все-таки своя. Гаврила Степанович, сосед тороватый, поднес на новоселье плотничий инструмент. Казна выделила поселенцам мерина, корову, пару коз, десяток гусей, дюжину куриц. Пикан срубил и согнул, распарив, санные полозья. Вскоре вместе с соседом изладили сани. Сбруи, правда, пока не было. За ней-то Пикан с соседом и отправились в верхний посад. Здесь располагались торговые ряды и гостиный двор. Нижнепосадские третьего дня погорели. Пожар был великий, теперь стих, но кое-где еще шаяли черные, обугленные строения. Бухарские, калмыцкие и местные, тобольские товары уравнялись огнем – стали золой и пеплом.
Атлас, юфть, тонкие сукна, серебряная посуда, вина, воск, чай, меха сибирские – все, чисто все слизнул огонь. Купцы, несолоно хлебавши, разъезжались по домам, сетуя на собственную нерасторопность. Товары-то не залежались бы, но многие ждали конца ярмарки, приберегая лучшее к закрытию. Дождались беды. Один купчик из Верхотурья бросился в пламя. Сгореть не сгорел, но бороду и причинное место опалил. Дурачок здешний, Спиря, выдернул его из огня, присел перед погорельцем на корточки, уставился, как на заморскую диковину, и загыгыкал. «Не купес, а чистая птиса Феня», – дивился он мокрому, изрядно обгоревшему гостю, на которого сам же и выплеснул пару бадеек ледяной колодезной воды. Вокруг толпа глазела: кто сочувствовал, кто смеялся.
Купец, раздавленный свалившимся на него несчастьем, вскочил, схватил Спирю за шиворот:
– Зачем спасал? Может, мне легче сгореть было?
– Ххы! – Спиря высвободился, уставясь на него маленькими, почти без зрачков глазами. – Сердится. Лучше бы копеечку дал, так-эдак!
– А верно, – поддержал Гаврила Степанович, – человек старался, спасал… Отблагодари.
– Может, я жить не хочу боле?! – рыдая, вскричал купец, отпустив дурачка.
– Не хошь? – изумился Спиря и, подняв купца, швырнул в потрескивавший огнем прируб. – Гори тогда… ага, гори, – пробормотал он обиженно, – все горите.
Мотая кудлатою головой, пошел в гору, оставляя на грязном снегу отпечатки босых огромных ступней.
Купец взвыл от боли, опомнился и, выскочив из прируба, догнал Спирю.
– Эй, возьми чего просил. – Он сунул дурачку несколько мелких монет и пошел прочь, то и дело наклоняясь к земле, словно искал на ней свои сгоревшие богатства.
Спиря взял лишь одну монетку, обдул ее тщательно, остальные бросил себе под ноги. Их тотчас подобрали бродяги.
Огонь добрался до кабака, в который завернул Спиря. Целовальник, перепугавшись, пообещал питухам даровую выпивку, и пламя остановили.
Дальше улица была негорелая. Неизвестно, долго ли простоят эти светлые, из свежего леса хоромины. Чем ближе к горе, тем дома выше. Народ в городе жил не бедный, но досаждали пожары. И все же город, несмотря ни на что, рос вдоль и поперек. Люд беглый и местный, честный и вороватый, настырно селился вокруг любого чудом уцелевшего от огня жилища. Оно служило как бы приманкой.
На горе кремль. В кремле с утра звон колокольный. Служба кончилась, но звонарь спьяна забылся и радует слух тоболяков колокольного музыкой.
Гостиный двор невелик, всего лишь в два этажа. Внизу без малого три десятка лавок да столько же погребов для товара. В верхнем – тридцать две лавки, таможня, светлицы, в которых расположились приезжие гостинодворцы. Теперь им вольно: местные жители – погорельцы – уже не соперники. И сразу на все взлетели цены. Пикан приценился к сбруе, обложил шорника бранью, слегка повозив его за бороду.
Степанович, выручив купца, позвал соседа пройтись по рядам.
– Есть у меня плохонькая сбруешка. Пока приспособишь. Потом новой обзаведешься…
Еще раз обругав, шорника, кругами пошли по кремлю. Ряды плотно стоят, на прилавках чего только нет: сахар, чай, пестрядина, шелк, чернослив, винная ягода, рыба, мясо, битая птица… Привольно, сытно живет город! А не ровно. Где избыток всего, где почти нищета.
Обратно возвращались татарскою стороной. Домишки тесно приткнулись к берегу. Окна в них черны, слепы. Подле дворов ни единого деревца. В оградах поленницы дров; кучи навоза. На крышах сенников наметано сено. Брось спичку, и вмиг не станет этой неопрятной узкой улочки. Будет лишь течь, плескать волною невозмутимый Тобол, шуметь сосны и кедры. Природа бессмертна, бесконечна. Конечен лишь человек с его деяниями. Все, все на свете забудется: великое и малое, доброе и злое. Черный человек и белый человек, богатый и бедный станут прахом. А вот в недолгом веку своем творят неразумное, тратятся на мелочи, хотя одарены светлым разумом, но и в отношениях к близким не доросли до муравьев, которые все делают купно, живут одной дружной семьей… Об этом говорил Пикан, расчувствовавшись то ли от выпитой бражки, которой хватили в рядах, то ли от доброго внимания соседа.
– В чудеса веришь? – перебил его рассуждения Гаврила Степанович.
– В чудеса-а? – Пикан недоверчиво покачал головой. Накручивает соседушко! – Все от бога. Восхощет он чуда, и будет чудо.
– Помнишь ли, протопопец твой врал, будто курица враз снесла ему два яичка? – взявшись за кольцо калитки у большого нарядного дома, посмеивался Тюхин.
– Не порочь мученика! – рявкнул Пикан, загораясь скорым гневом. Лицо побурело, краснота началась из-под бороды, поднялась к носу, достигла лба. – Не заслужил он того.
– Не о нем речь, о курочке, – шепнул Тюхин, склоняясь к уху Пикана. – Та курочка здесь обитает. Айда! – толкнул калитку, молодо взлетел на высокое, в двенадцать ступенек, крыльцо. За ним, еще не остынув и сопя в бороду, взобрался Пикан. Взобрался и остолбенел: из сеней выплыла царь-баба в черных косах, уложенных вокруг головы, на груди янтарная цепь с золотым плетением. Глаза теплые улыбчиво разъяты. Стан узкий, как у камышинки, схвачен зеленым кушаком. На кушаке отделка – опять же золото с янтарем. При таком сложений худой быть надо, а эта, как щука, круглая, гладкая, хоть сейчас ее в реку.
– Ох, дьяволица! – пробормотал ошеломленный Пикан. Впервые увидал такое диво. Красота нездешняя, нерусская.
– Не дьяволица я, – низким гортанным голосом отозвалась красавица. – Фатьмой звали. Окрестили – теперь Феоктиста. Пожалуйте в горницы.
– Куда пришли-то? – громким, везде слышным шепотом спрашивал Пикан, все еще не успев опомниться. – Чей дом?
– Таможенного чина Семена Красноперова, – пояснил Гаврила Степанович и рассказал, как лет двадцать назад подобрал на улице замерзающую девчонку, пригрел, окрестил, потом выдал за Красноперова замуж. Тот уж в годах, а вот польстился на молодую, да мир не берет их, однако. – Меня по старой памяти привечает.
– Грешишь с ней, хрен старый? – сердито допытывался Пикан, испытывая к соседу необъяснимую ревность.
– Господь с тобой! Она мне как дочь родная. Погулять сюда захаживаю, когда хозяина дома нет. Люблю, грешный, повеселиться. Тут и без Феши есть кое-кто, – Степанович прищелкнул пальцами, маслено зажмурился и потянул себя за хрящеватый нос. Меж тем две девки, грудастые, ладные, накрыли камчатной скатертью стол, пересмеиваясь, вышли и скоро вернулись с токайским, с закусками. Степанович шлепнул одну по тугому заду, другую ущипнул за полную грудь, оттолкнул легонько, но, подумав, притянул снова и смачно поцеловал.
– Ага, вот и попался, греховодник! – В горницу вошла полная, молодая женщина. Была она белокура, курноса, с большими красивыми руками. Серые, умные глаза добры, но насмешливы. Подойдя к Тюхину, игриво схватила его за бороду, подергала из стороны в сторону. – Вот тебе, вот тебе! Вот, искуситель!
– Прости, Минеевна! Бес попутал! – шутливо каялся Гаврила Степанович и, не теряя времени даром, целовал женщину то в губы, то в щеку, крякал и лукаво подмигивал Пикану.
«Кобель! Истинно кобель!» – угрюмо осуждал его Пикан и… завидовал. Прожив полвека на свете, еще ни разу не изменил своей Потаповне. Тяги не было. Нагляделся на жизнь отца, который постоянно грешил, а потом от всех грехов очистился огнем. Порой мелькала при виде красивых женщин мыслишка: «Вон какая пава прошла! Обласкать бы…» А пав на Руси достаточно. Но Пикан гнал эту мысль прочь, изматывал себя изнурительным постом и работой.
– Вот, Марья Минеевна, соседушко мой. Недавно домок ему срубили, гуляем.
– Где ж их берут, таких могутных? – приветливо улыбнулась Минеевна и пригласила к столу.
– Помор… Они все там растут на дрожжах, – бурлил Степанович, на глазах молодея. Ядрен и крепок еще. В бороде рыжей ни единой сединки, голова лысая до самого затылка, но лысина не портит его сухого чистого лица. Такой мужик хоть кому по душе придется. «Я-то здесь вроде пятого колеса у телеги», – хмурясь, думал Пикан. Как всегда в минуты такие, вспомнились дети, но… мысли Пикановы перебив, легко, неслышно вплыла Феоктиста. Вся в серебре, в белом с черными листьями кринолине. И шаль тоже белая на черных пышных волосах. На груди крестик агатовый, на левой руке серебряный, в мелкой россыпи каких-то черных камней браслет.
– Царица! – ахнул Степанович и усадил крестницу между собой и Пиканом. Налив чаши, Феша первую подала Пикану.
– Придвигайся ближе, гость драгоценный! – Голос-то, голос-то, как у горлинки! Как не покориться ему! А если еще глаза приглашают, – господи, прости мои прегрешения! – Или сердишься на кого? – пытала Феша.
Пикан, не ответив, хлопнул чашу токая, попросил другую.








