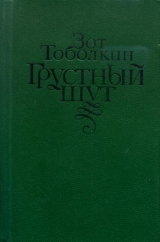
Текст книги "Грустный шут"
Автор книги: Зот Тоболкин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 21 страниц)
– Продай ты мне этого востроглазого, – просил Александр Данилович.
Хозяин заупрямился, и Меншиков уехал ни с чем; потом, при случае, рассказал о ловком дворецком самому царю.
А потом и еще случай выпал. Был самый разгар Северной войны. К Борис Петровичеву барину заехал царь – усталый, хмурый, озабоченный тем, как пополнить пустеющую казну. Ни песни красавиц крепостных, ни шутки Меншикова, ни вина не веселили государя.
– Худо, детушки, худо, – вздохнул он печально и, выпив рюмку перцовой, отправился спать. Снилась ему пустая мошна российская, голь, нищета… О том же шушукались в зале гости.
«Да вот же! Вот в чем спасение мое!» – возликовал Борис Петрович и всю ночь составлял письмо, советовал, как пополнить казну государеву. А сочинив, подбросил его царю в опочивальню.
После этого Борис Петрович и воспарил. Из самых низов крепостных чуть ли не в министры попал. Стал заправлять делами в ратуше. Князю светлейшему кланялся почтительно. Бывшего своего барина обнимал как равного. Тот отворачивался, пыхтел, а все же признавал: как-никак, а бывший его дворецкий вхож к самому царю.
Уж не одного безродного пригрел подле себя Петр Алексеевич: Посошков, Нартов, Ершов, Неплюев, тот же светлейший… А иностранцев-то, иностранцев сколько!
Высоконько взлетел Борис Петрович! Князем стал, ратманом. Вспомнив лютое, подневольное детство свое, на собственные деньги организовал в Светлухе школу. Обучались в ней грамоте и цифири сорок солдатских сирот. До слез умилялся князь, когда крохотные ребятишки читали ему в подлиннике Эразма Роттердамского и Макиавелли, бессбойно складывали и вычитали многозначные числа… Присматривался, чтобы после взять кого-нибудь из этих ребятишек себе в помощники.
…Было, было доброе в князе! Да ожесточился, глядя на сильных мира сего. Правя ратушей, вник в творящиеся в государстве беззакония – жутко стало. Неискоренимо воровство, думалось, пока существует власть. И отчаялся князь, и запросился в Светлуху.
Дочь неистовствует. А того, не мыслит, что отец судьбой ее озабочен. И, стало быть, своей судьбою. Думы цветистые, опьяняющие. Про Жар-птицу сказочка вспомнилась. Пока только перышко из жар-птицына крыла ухватил. Всю бы поймать! Вновь ко двору призывают. Понадобился Петру Алексеевичу. Там всяк час по лезвию ходишь. Зато и на виду постоянно. А на укус Борис Петрович и сам укусом ответить может: зубаст стал.
– Ну, все выговорила? – допив сбитень, дернул дочь за косу. Дернул бы посильней, если б слышал все, что наговорила. Научился пропускать мимо ушей то, что хоть сколько-нибудь роняет княжескую честь.
«А стегну-ка ее разок! Ишь распустилась!» – подумал о дочери. Снял пояс и стегнул.
Ох и визжала, ох и дергалась! Непривычна к битью-то, балована.
– Не подходи, – тихо молвила, когда князь замахнулся вдругорядь. – Себя порешу.
Струхнул Борис Петрович: своенравна, может пойти на любую крайность. Да и жалко: дочь единственная, дочь любимая. Заговорил ласково: улещать князь ловок. С младых ногтей дурачил люд православный. Кого лаской, кого подкупом, а кого и угрозой брал. Девку ли взбалмошную не обойти? Правда, и она в свете потерлась: была при дворе, в Париже и в Лондоне бывала… И тонко, издали, князь хвостом завилял, заиграл голосом сладким, и потекли чередой несбыточные обещания. Таких маслениц наобещал, словно век поста не бывает.
– Стань на колени – прощу, – потребовала бесстыдно.
– Перед дочерью-то? Перед девкой? – опешил князь.
– Я женщина, дама.
– Дамка ты, а не дама! – вскричал князь, не на шутку гневаясь. Рука непроизвольно потянулась к ремню.
– Перед дамой всяк истинный кавалер норовит упасть на колено. Честь ему.
Что на колено – князь землю лбом изъелозит, коль есть выгода. Тут выгода прямая. Для вида поломался, поворчал, посетовал: вот-де, нет почтения к родителю. И тем не менее стал перед соплюхою на колени.
– Вот, смейся над стариком… выставляй на позорище, – хлюпая носом, говорил отрывчиво князь, а уголком чуть примоченного неверной слезой глаза следил за дочерью. – Смейся… но обещай покорство.
– Сперва узника выпусти, – не уступала Дарья Борисовна. Мало, стало быть, постоять на коленях, еще и шута этого на волю? «Не отпущу!» – подумал князь, но услыхал резонную мысль, с которой не мог не согласиться:
– Царица шутов любит. Тимофей шут изрядный. Пусти – не прогадаешь.
Князь ухватился. Ведь истину молвила. Того не гляди, что ум бабий ненамного перегнал куриный. Любит государыня шутов и карлиц. Этот фокусы ей станет показывать. А может, какой из фокусов придется по вкусу. То князю непременно зачтется.
– Ладно, отпущу. А за родителей не проси. Сам их судьбу решу.
Сговорились. Княжне нет дела до Пиканов. Ее волнует судьба одного человека, Бармы. Ушла, сеченая, к себе в светелку, смочила ожоги от ремня бальзамом и, переодевшись, явилась к Барме.
Князь удалился в подземелье, велел привести туда Пиканов. В пыточной хозяйничал Никитка. Хозяйничал жестоко, с большим умением.
– Ну-ка, придвинь к ним свечку, – от дум своих отрешаясь, велел князь палачу. Свечу вторую держал в руках. Осветил ей Пикана, тот черт чертом. Потом старуху. И – вдруг… ахнул. В тени-то чудо какое! Девица-сказка! Как мимо взгляда княжеского прошла? Увидал – сердце раскачало. Откуда краса такая взялась? Отец и страшен и космат, мать вон как выгнута… хотя чем-то неуловимо девушка похожа и на мать и на отца.
«Моя, моя будет!» – решил, про себя ратман и велел увести девушку наверх.
Иван только что молитву вышептал. Хватился – дочери нет. Рванулся следом – к столбу прикован.
– Будь проклят, филин пучеглазый! – рявкнул бессильно.
Князь и впрямь глазаст слишком, телом, несмотря на годы, статен, лицом гладок.
– Разволоките его! – велел, предвкушая потеху. Ноздри дико, зверино раздувались. Еще не дождавшись, когда Пикана разденут, подскочил к жертве своей, принялся клочьями выдирать бороду.
– Ну, больно? Ну, страшно? Подай голос!
– Не тебе подам, богу, – кротко отозвался Пикан и возвел к небесам очи.
– Ему одна забота – о тебе думать, – глумился князь, не веровавший ни в ад, ни в рай. На земле един бог – сила. И жизнь скоротечная одна, а дальше – тлен, прах, небытие. А этот недоумок верит в царствие божие, в загробную справедливость. Ах, как многие в нее веровали, да поимели ли чего там, в ином, неведомом, главное же, несуществующем мире? Спросить бы их, а затем показать глупцам, мозолящим лбы перед иконами.
Князь смеялся. Пикан, однако, не обращал на него внимания.
– Я покажу тебе бога истинного – боль… – Князь не побрезговал, сам привязал к Пикановым ногам двухпудовые камни. Его же велел подтянуть на столбе повыше. Камни упали. Потаповна закрыла глаза, вскрикнула.
– Молчи, мать, молчи! Господь более нашего вынес, – внушал ей Пикан, сам люто дергался от нестерпимой боли в суставах.
– Больно? – допытывался князь, желавший услышать жалобный стон, мольбу о прощении. – Страшно?
Что больно – сам знал, что страшно – не был уверен. И потому удовольствия от мести своей не получил. Ну вырви уд – живы дети его, все равно род продлится. Ну опали волос – мужик все едино страха не ведает: был и огнем пытан, и на дыбе рван… Для Пикана это не мука. Надо душу его задеть покрепче, как рыбину нанизать на острогу.
– Погоди, взвоешь! – сатанея, вскричал князь, разозленный стойкостью непокорного помора. Сейчас и сам не осознавал своей животной ярости. – Вспомнишь, на кого руку смел поднять! Старуху сюда!
– Терпи, Потаповна! – умолял Пикан, видя, как Никитка измывается над его верной подругой. – Терпи, голубка! Не окажи супостату слабости.
– Все вытерплю, отец, – отвечала старуха, пугая князя спокойной готовностью к пыткам. – Жила в муках, помру в муках. А с него Христос спросит. – И закричала. Изо рта кровь хлынула. Так много тяжести взвалил Никитка на хилое тело слабой женщины.
Князь, смеха своего пугаясь, засмеялся, выпил вина.
– Много ль дела ему, богу, до вас? До всех других много ль дела?
Вино не в голову, в сердце ударило: «Что я творю, изувер? Ради дочери пощадить. Дочь в жены возьму, а этих…» Он еще не решил, как поступит с Пиканами, судьба которых была в его воле.
– Прости, Ипатыч, – едва слышно прошептала Потаповна.
Пикан горестно уронил тяжелую опозоренную голову. А князь требовал:
– Проси милости!
– Вразуми господь поганца этого! – харкая кровью, рычал Пикан. – Скотом, зверем бессмысленным не назову. Зверь без нужды не тронет. Ты-то нас за что ломаешь? Тьфу! – И плевок в лицо посеревшему князю. – Будь же ты проклят вовеки!
Юшков отпрянул: примстилось ему – весь мир окрасился кровью. Лица, стены, сам воздух спертый. Лишь два копьеца желтых над свечами протыкают сгустившийся мрак.
Борис Петрович провел рукою перед глазами – страшное видение исчезло. Одолевая ужас, усмехнулся криво: «Может, и впрямь есть жизнь загробная? Не могут же эти простодушные существа верить ни во что?»
Беззащитность обреченных жертв оказалась сильней его всевластия. В ней угадывалась какая-то непонятная угроза.
«Как же Ромодановский-то, – с ужасом подумал про обер-палача России, – каждый день в крови по колено?»
А Пикан, указывая глазами в небо, грозно сулил:
– Там, там встретимся!
И – странно! – князь начинал верить в возможность такой встречи. Неужто все грешники вот так же боялись расплаты? Святые много чего вытворяли – Борис Петрович прочел все доступные ему жития. Им прощалось. Неужто ему не простится? Грешил много меньше. Людей впервые пытает.
– Простите Христа ради, – князь неожиданно для себя самого рухнул на колени, взмолился. – Простите! Не Ромодановский я… Не могу! Не мо-огу! Простите! – горячечно бормотал он к великому удивлению Никитки. По лицу текли слезы.
«Вот те раз!» – подумал Никитка.
Жертвы молчали.
Измученный, выжатый, словно самого пытали, Борис Петрович тяжело поднялся, приказал палачу:
– Дай им питья, одежу… отпусти.
– Живыми? – изумился палач. – Ох, князь! Припомнят они тебе!
– Т-ты! – И кулак княжеский расплющил и без того толстые Никиткины губы. Хрустнул от бешеного удара нос. Никитка сморгнул, но стерпел молча.
– Стой! – окликнул Борис Петрович Никитку. – Выпустишь после, когда скажу. А щас сына сюда пусти.
– Матушка моя! Мученица-аа! – Это Барма вскричал, ворвавшись в узилище. Шел прощаться с покойной матерью; оказалась жива. Жива, слава богу!
Брызнул в лицо водою, склонился. Ему улыбнулись самые добрые в мире материнские глаза.
А князь за попом послал. Решил сыграть свадьбу с юной раскольницей, хотя невеста лежала в беспамятстве.
4
Пьяный поп венчал против всех церковных правил.
Дуняша очнулась княгиней. Рядом на пуховике отдувался князь. На лбу пот блестел. Глаза маслились.
– Как почивала, Авдотья Ивановна? – спросил ласково. Давно уж Феклу-княгиню схоронил. Кроме ключницы, женщин не знал. Ту звал к себе нечасто, спал с ней без удовольствия. И брезглив был: ключница сильно потела.
Тут – клад драгоценный. Нашел случайно, и стала родной, словно жил с ней весь век в любви и согласии.
– Какие сны видала?
– Стыдно, Борис Петрович! Отца с матерью насмерть замучил, Тиму забил… Надо мной за что насмеялся? – тихо спросила тотчас все понявшая Дуняша. Не плакала, не жаловалась на судьбу. Молча поднялась, стала искать свое платье. А на софе, рядом с богатым ложем, нарядное облачение, жемчуга, кокошник. Под софою – обувка, сроду такой не нашивала: цена за бесчестье. – Честь взял – вороти платье. Не телешом же мне по миру идти.
Откуда в голосе тихом такая уверенная сила? Глаза смотрят в самую душу. Князь корчится под этим невинным, немигающим взглядом.
– Пошто по миру, княгинюшка? Ты дома. Ты здесь хозяйка. На руку свою посмотри – венчана, вон и поп подтвердит.
– Могла ли я без родительского благословения?
– Не веришь? – Князь подавился обидой. Съехал с мягкой постели, велел одеть себя, затем позвал свидетелей: попа и ключницу. – Ну-ка сказывайте: по закону ли было венчание?
– По закону, батюшка, по закону! – закивала пухлая ключница, несказанно радуясь, что теперь-то уж ей не придется уходить к господину от своего мужа.
И поп полупьяный мычал врастяжку:
– Благословенна ты в женах… благословен плод чрева…
– Торопишься, поп! – прикрикнул князь. – Ступай проспись!
– Где мать с отцом? Где брат? – спросила тихо Дуняша. Теперь горюй не горюй – девичество не воротишь. Поклониться дому родительскому и укрыться где-нибудь в дальнем скиту. Отец сказывал: есть скит у Чаг-озера, где праведники от властей прячутся. Туда и уйти.
– Такой ли уж зверь я, Ивановна? – любуясь молодою женой, укоризненно качал головой князь. А знал, что зверь, и что всяк человек лютее зверя. Ему не впрок дичь и рыба, ему человечину подай… Но о пороках надо ли вслух? Порок – всегда чья-то тайна. – Не зверь… живы твои родители.
– Взял обманом – на твоей душе грех… Другой грех на душу не бери. Где тятенька с мамонькой? Похоронены?
– Живы, Ивановна! Говорю, живы! Скажу, где они, слово данное не нарушишь?
– Ежели с родительского согласия венчана – сдержу слово. Сама ничего не упомню.
– Скажу по совести, родительского согласия не было. А уговор с тобой был. Хошь – снова свидетели подтвердят. Уславливались: в дом мой входишь – родителям и брату свободу дарую. Ты согласилась: мол, три жизни, столь для тебя дорогие, девичества стоят.
– Вели привести всех сюда.
– Сперва досказать дай. А не досказано вот что: царевым указом велено выслать твоих, а теперь и моих родителей в Тобольск. Они уж в пути.
– За что… выслали? Они злое не помышляли.
– Отец твой… наш отец на царя хулу возводил… налог платить отказался… мягко еще отделался. Иным головы рубят, – вдохновенно лгал Борис Петрович, легко и просто найдя объяснение. Решил спровадить Пиканов в далекий Тобольск, наказав тамошнему знакомцу не спускать с тестя глаз. А ежели надумает в побег – догнать и заковать в кандалы.
– А Тима… он жив?
– Живой… пес! – нечаянно вырвалось у князя. Он тут же выправился. – Прости за слово крутое. Досаждал он мне много. Да я не злопамятен. В Питер беру его. Ну, довольна?
Князь перевел дух. Забыл он, когда правду говаривал. Любая правда его была полуправдой. Так и сейчас. Никто Пиканов выселять не собирался. Больше того, к этой поре вышел строгий царский указ: раскольников в Сибирь не ссылать. Они работники, умельцы. Умельцы всюду нужны. Но семья Пиканов – у князя соринка в глазу. Загнать их подальше, чтоб не мешали. Ежели в пути не сгинут, то уж знакомец живыми не выпустит. А Тимка в Питере понадобится.
Оставив Дуняшу, князь тотчас отправился на подворье. Там, в конюховке, одетые по-дорожному, его поджидали Пикан и Потаповна.
– Чем бога прогневали? – вздыхала Потаповна, более всего горевавшая, что не простилась с детьми.
– Не ропщи, мать! – Пикан перебирал лестовку, успокаивал себя молитвой. А руки так и чесались сбить у прохода холопов, прорваться к князю и… Но вот и он сам.
– Когда выезжать-то? – Иван, ко всему готовый, с тревогой покосился на Потаповну: выдержит ли? Холода лютые. После пыток она совсем ослабела.
– Не задержу. Хоть сей же час выезжайте, – с видимым расположением отозвался Юшков. – Кони запряжены – с богом!
– С дочерью-то дашь повидаться?
– Дочь позже в гости к вам приедет… Мы оба приедем, – пошутил князь, не ведая, что шутка его оказалась пророческой, что недалек день, когда и его вот так же повезут в Сибирь под конвоем.
Уехали. Лишь колокольчик долго еще подавал свой серебряный голос.
Заколотили пикановские хоромы. Не суждено им дождаться хозяев. Но перед тем Дуняша побывала в родном доме, вынула из тайника нож, костяные фигурки. Вспомнила, как сиживала вечерами с братом. Где ты, Тима? Может, и впрямь свидимся в Петербурге?..
5
Тимофея нагнали в пути. Шел за санями, вел медведицу. Увидав сестру, долго и тревожно вглядывался в грустное милое ее лицо.
– Обвенчали нас, Тима… – сказала Дуняша, когда Барма покосился на рядом сидевшего князя.
– Силой взял?
– Добром… волей.
– Со стариком жить… с козлом вонючим? Сестра, одумайся!
– Ну ты! Язык-то не распускай! Окорочу! – свирепея, одернул князь, не без сожаления подумав: «А ведь, и правда, старик. Года не вычеркнешь. Токмо что не козел, тем паче – вонючий…» Вслух уже спокойней возразил:
– Я хоть и в летах, а телом крепок.
– Так вышло, – шепнула Дуняша. – Тебя, родителей наших пожалела.
– И он не раз ишо о себе пожалеет, – пообещал Барма, играя налившимися желваками. Более ни слова не вымолвив, пошел к саням, к медведице.
– В возок сядь, к Дарье Борисовне, – милостиво дозволил князь.
Да и Даша из возка подавала знаки.
– Ворон с горлинкою не пара, – усмехнулся Барма – и ошибся: не вороном он Даше казался, соколом гордым. Но Барма позже это поймет.
– Трогай! – приказал князь, толкнув в спину кучера.
Резвая тройка понесла. За ней устремился возок Дарьи Борисовны.
– А вы ступайте… свободны, – сказал Барма провожатым. Те не двигались. – Ступайте, пока в червей не оборотил! – пригрозил он и страшно захохотал.
Челядь княжеская, охранявшая его, кинулась врассыпную. Побежал и Никитка.
– Ты постой, – удержал его Барма. – Разговор будет.
Привязав лошадей, зашел с Никиткою в чащу.
– Многих ли погубил? Сказывай!
– Многих, Ти-има! Ох, многих! – оробев, каялся Никитка. Как не бояться: один на один в лесу с этим страшным человеком. Да еще и медведица тут.
– Молили они о пощаде?
– Бывало, молили.
– А ты не слушал, живота их лишал?
– Так. Все так. Одна Милодора в ночь утекла.
– За всех убиенных, за родителей, тобой мученных, за Милодору… какую казнь себе выберешь?
– Поневоле мучил. По нужде грабил.
– Вот вожжи. Вот осина. Сам устроишься или помочь? Смерть легкая, – присудил Барма.
Никитка заскулил, пал в ноги:
– Жить хочу-уу… жи-ить!
– А для чего тебе жить? Для чего землю поганить?
– Дак разе ж один я в мире душегубец? Двадцать аль тридцать душ погубил. Царь армиями на смерть посылает…
– Не токмо двадцати – одной загубленной тобою жизни не стоишь. Привязывай веревку-то! Мне с тобой некогда.
– Смилуйся, Тима! Смилуйся, клад укажу. В пещере зарыт, у Чаг-озера.
– Пещеру ту знаю. В котором месте? Аль наврал?
– Крест целую! В левом углу, под камнем. Отвалишь камень – колышек под им увидишь. Как раз над кладом забит.
– Ежели отыщу тот клад – раздам нищим, чтоб грехи твои отмаливали.
– Сми-илуйся! Отпусти! – возопил Никитка, вдвойне отчаявшись, что и клад потерял, и жизнь.
– Ты отца моего миловал? Мать щадил? Ну и молчи, пес! Молчи, не то кол забью в глотку поганую!
– Не вольный я: велели – пытал.
– Всяк в подлости своей волен. Ну, Машка, – Тимофей толкнул в бок медведицу. – Твое слово.
Она зарычала, обнюхала Никитку и ударом лапы повалила его в снег. Разбойник обмер от страха, свернулся клубком.
– Себе просишь? Бери, пользуйся им, как знаешь.
Привязав Никитку к медведице, пустил обоих в лес и долго еще стоял в раздумье один. Из кустов заяц выскочил. Барма подхватил его, сунул за пазуху и, поглаживая холодный заячий носик, направился к саням.
– Ну вот, Зая, вдвоем мы остались, – молвил с печалью Барма. – Будешь мне братом.
6
Город, хоть и Петербург, как лес дремучий. Да если люди в нем, так Барма не заблудится. Справа кабак, слева кабак. На дорогах псы голодные бродят, валяются посиневшие от холода питухи. У печных труб галки греются, орут, что-то пророча, словно знают больше людей. А может, и вправду знают больше? Что человеку известно? Лучше всего то, что рано или поздно помрет. И потому, едва родившись, молит он изо дня в день, чтоб допустил его господь в царствие свое. Увидать бы его, это царствие. Но ежели оно такое, как на земле, то для чего туда проситься? Вон мужик бредет пьяный. Ревет дурным голосом: «Ох, бурые мои! Ох, верные!..»
Барма остановил тройку, вслушался: странная песня! На всякий случай подтянул сам. В два голоса получалось лучше. Вели песню ровно: «Ох, бурые мои! О-ох, верные!..»
Из ближнего кружала на голоса выскочил целовальник. Послушал, ворчливо кинул в толпу:
– Одного знаю, Кирьша. Коней лишился. А тот, с зайцем, кого отпевает?
Никто не отозвался. Кабатчик почесался, хотел уйти, но веселый парень чем-то привлек его внимание. «Постою, – решил, – посмотрю».
– Такое место поганое, – переговаривались в толпе с опаской. – Тут не токмо кони – люди теряются.
– Кони-то купца одного, из татар. Сживет Кирьшу со свету.
– А и сживет – эка боль! Мало сжили? Нашему брату не привыкать.
Те двое все тянут:
– О-ох, бурые мои! О-ох, верные! – Слишком похоже на песню. Особенно кудряво выводит этот молодец с зайцем. Видно, мастер петь.
Барма увлекся, вел истово. Мужик, горевавший о лошадях, вдруг смолк и – боком, боком к нему. Размахнулся сплеча, порвал песню на самом высоком взлете: «О-ох, веррр…» Барма споткнулся, заикал от ядреного тумака.
– Над бедой моей тешишься? – взревел мужик, занося кулак снова. Барма выскользнул из саней ящеркой, забежал с другой стороны.
– Ну, сват, присветил ты мне! Не любишь веселье?
– До веселья мне! Шакиров заживо в землю зароет… Лошади-то его были.
– Смейся. Так жить легче.
– Не смеется.
– Пробовал?
– Вымерз смех-то во мне до самого донышка.
– А вон в левом глазу смешинка, и в правом две вижу. Так, Зая? – Барма дернул зайца за уши. Глаза зверька заморгали, поползли в стороны. Толпа захохотала. И казалось, заяц хохочет, часто перебирая лапками. Мужик сдернул с нечесаной головы шапку, заозирался и тоже выронил, как кочет: «Хо-хо». Барма двинул его в бок кулаком, двинул в другой – щекотно! Больно, но смешно. Мужик подарил еще парочку «хо-хо» да как рванул простуженным басом – кони прянули.
– Вот колокол! А говорил, смех вымерз! Эх, дядя! Смех-то вместе с душой помирает. А душа, слышал я, бессмертна. Пойдем-ка, погреем бессмертные души наши.
– Коней искать надо. Чужие кони. Не найду – заберет татарин в неволю.
– Не спеши помирать раньше смерти.
Привязав лошадей, завел мужика в кружало. Кабатчик, выставив хрящеватое толстое ухо, ловил каждое слово Бармы. Завсегдатаи знали: это доводчик, и потому язык при нем не распускали. Таких в те черные времена многонько на Руси было.
Барма вошел смело, сел у окна, указав мужику место рядом.
– Угощай, хозяин! – крикнул кабатчику. Сам достал из печи уголек. – Не на сухом бережке сидеть, когда рядом река хмельного.
Ожидая угощения, искоса разглядывал ямщика: огнист, костляв, глаза черные, сумрачные, ровно сошел с иконы. Не таков ли Иисус был, сын плотничий?
Уголек оказался рыхлый, рассыпался в пальцах. Барма выхватил другой, подул на него, покатал на ладошке и – раз, раз! – набросал на столешнице лицо нечаянного знакомца.
– Это кто ж таков? – мужик тужился, вспоминал, но так и не вспомнил: себя-то нечасто видывал. Разве что отражение в реке или в колодце, когда лошадей поил. Да и то особо не заглядывался.
– Не узнаешь? – Барма добавил еще штришок, чуть оттенил впадины щек. Мужик морщился, щурил глаза, однако не узнавал. – А тебя как зовут?
– Киршей. В ямщиках служу… у Шакирова. Сказывал уж.
– Ну вот, Кирша Киршу не узнал, – мелко хахакнул подошедший кабатчик. – Твое обличье… гляди зорче!
– Ммо-ое? – изумился Кирша, свирепо оглядываясь на Барму. Опять этот чертогон выставил его на посмешище? Вон рожа-то какая дикая! И волос дыбом, и глаза шалые.
Однако над рисунком никто не смеялся. Лишь целовальник допытывался у Бармы:
– Богомаз? Кем учен?
– Не много ли знать хошь? – едко усмехнулся Барма и начал стирать рисунок. Кто-то придержал его за локоть. Высокий худой человек со смуглым лицом, с веселыми на нем, искрящимися глазами поднырнул Барме под руку, склонился над столом.
– О, вы замечательный талант! – похвалил он, но из дальнего угла позвали: – Одну минуту, сеньор! – отмахнулся незнакомец. Похлопав Барму по плечу, застенчиво признался: – Я тоже рисую. Но больше ваяю.
– Сеньор Пинелли! – окликнули его снова. – Вы отвлеклись.
Незнакомца звал породистый рослый человек, с брезгливою миной осматривавший кабак. Вынув усыпанную бриллиантами табакерку, сунул в широкие, хищно раздувающиеся ноздри щепоть табаку, нетерпеливо постучал пальцами:
– Это невежливо.
– Иду, – Пинелли досадливо пожал плечами, улыбкою извинился перед Бармой и сказал: – Вы мне понравились. Я мог бы дать вам несколько уроков. Не теперь, нет. Теперь я добываю деньги игрой. Завтра, в это же время.
– Можно и завтра, – равнодушно кивнул Барма. – А лучше на ту осень, лет через восемь.
Пинелли обидчиво моргнул, хотел возразить, но его снова позвали.
– Иду, иду, господин Фишер!
– Вино-то доброе? – спросил Барма, принюхиваясь. Брызнул на пальцы и начал смывать рисунок.
– Всех эдаким потчую, – целовальник блудливо увел глаза.
– Ну-ко глони!
– Не пью я, душа не принимает, – замахал кабатчик руками.
– Оно и видно, – ухмыльнулся Барма и потянул кабатчика за шишковатый сизый нос.
– Ваша ставка бита, – донесся из угла добродушный, пожалуй, даже извиняющийся голос Пинелли. – Желаете повторить? – спросил он, придвигая выигранную драгоценную табакерку.
– Мне жаль, сеньор, – развел руками Фишер. – Но я, кажется, в дым проигрался. Впрочем, могу поставить вот этот солитер, подарок курфюрста саксонского.
– Вы умеете проигрывать, господин Фишер.
– Друг мой, – Фишер хватил медовухи, отчего крепкий двойной кадык его заходил челноком. – Друг мой, случалось, за один присест я проигрывал целые состояния. Наутро отыгрывал их. Скупость, как превосходно выразился обожаемый мною Гораций, страсть низких. Но солитер я приберегу. А вот это кольцо – оно мне менее дорого, – если позволите, поставлю. Карта пойдет, я уверен.
– Не сомневаюсь, господин Фишер. От всей души желаю вам отыграться.
– Не пьешь, значит? – зловеще ухмыльнулся Барма, поднимаясь. Кулак не без намека постукивал по столешнице. Жилистый, жесткий кулак. Такой мимо скулы не ударит. – Нос-то пошто сизый?
– Дак обморозил, милок. С кем не бывает? – юлил кабатчик, соображая, как бы ему поскорей исчезнуть. – Ты пей, пей, паренек! Я хозяин тороватый.
– Не разорись смотри. Давай-ка я тебя угощу. Пей, сколь душа примет.
Пришлось покориться и пить то пойло, в которое сам же сливал опивки, добавлял мухомора, белены и всякого дурнопьяна. Чан, из которого черпал, был нечист, но, кроме кабатчика, об этом никто не ведал. И все же выпить ему пришлось. Закрыв глаза и стараясь не выказать брезгливости, опрокинул в себя всю братину. Опорожнив, радостно перекрестился: «Не стошнило, слава те осподи!»
– Пей, Кирша! – Теперь и Барма успокоился, однако сам пить не стал и велел подать себе сбитеню.
– Сам-то чего ж?
– Дух бражный не выношу… И рожа эта шибко противна, – кивнул Барма в сторону кабатчика.
– Рожа страховидная, – хрустя хрящиком стерляжьим, поддакнул Кирша, не заметив кривой хозяйской ухмылки.
«Теперь им хоть мочись в ковш – вылакают!» – злорадно думал кабатчик. Его только что вырвало. Ополоснув клюквенным соком нутро, стал снова за стойку и принялся мять живот. В животе урчало, а этих горлодеров не берет никакая отрава. Сидят, хлещут.
Однако дурная влага свое брала. С похмелья ковш да другой, и – глаза Киршины осоловели. Беда отступила в сторонку. Что будет завтра – увидим. А ноне пей на даровщинку!
– Дети-то есть? – поинтересовался Барма.
– Не. Живем двое – сеструха да я.
– Вот и пара. Двоих-то уж запрягать можно. Татарин кучером будет.
– С него станется, – тотчас загрустил Кирша. – За лошадей я не отработал. Ежели не уплачу – заберет сеструху. Такой уговор был. О-ох, разбередил ты мне душу! П-пойду, – он тяжело отклеился от лавки, с грохотом сдвинул стол, но пошатнулся.
– Куда? – подскочил к нему кабатчик. – А плата?
– Не шибко обпили. Ежели что – из пригона жижи добавишь.
– Дак он что, назьмом нас поил? – Кирша ощетинился, икнул. Все, что пил, пошло обратно.
– Может, и не назьмом. Да немногим лучше. Гляди, – Барма опрокинул чан, на дне которого в зловонной жиже кисла не то шапка, не то рукавица.
– Здесь стало несколько оживленно, – рассеянно заметил Фишер. – Вы, сеньор, ловите случай.
– Как прикажете вас понимать? – ощерился Пинелли, задетый его надменным тоном. Тем не менее выигрыш был велик. И по возможности, итальянец старался быть снисходительным к проигравшему.
– Ваши карты мечены, – жестко сказал Фишер и, щелкнув колодою итальянца, другой рукой подгреб к себе все, что проиграл.
– Вы лжец! – вскричал итальянец. Схватился за шпагу, но Фишер опередил его, ударив кулаком в нос. Забрав выигрыш – кольцо, деньги и табакерку, туда же присовокупил якобы меченые карты.
А в кабаке начинался великий шум.
– Люди-и! – дико орал Кирша. – Нас нечистью тут поят!
Кабатчик собрался было крикнуть «слово и дело», но Барма опередил его. Кивнув пьянчужкам, сказал: «Крушите тут все! Бейте!» И те с радостью, с яростью необычайной кинулись на кабатчика, принялись выбивать днища в дубовых бочках, ломали полки, высаживали окна. Кирша вынул из печи головню и, оттянув от бочки какого-то седого, с голой грудью пьяницу, рявкнул: «Гор-рим!»
Все ринулись на улицу. Барма вышел последним, неся на спине оглушенного итальянца.
– На кой он тебе сдался? – спросил Кирша, любуясь пожаром, занимавшимся над кабаком.
– Кто знает, вдруг пригодится, – усмехнулся Барма, дав подножку особо ретивому малому, порывавшемуся тушить пожар. – Не суетись, сгоришь ненароком.
Отстегнув пристяжную, уложил поперек хребта Пинелли, вскочил на вершну сам.
– А эту пару кому? – спросил Кирша, оглаживая вороного коренника.
– Тебе.
– Шутишь?
– Шутить я мастер. А щас не до шуток. Бери да помни. Авось встретимся… – подмигнув, Барма ударил лошадь пятками и тотчас же скрылся в ближнем переулке.
Растерянный Кирша, не веря в привалившее счастье, еще долго топтался подле вороных, потом отвязал их, гикнул и на скаку прыгнул в сани.
– Ж-живем, сеструха! – блажил на весь околоток, подъезжая к своему дому. Уж возле ворот вспомнил: даже имени не спросил у этого странного парня, подарившего пару чудесных вороных коней. «Господь послал мне его!» – думал Кирша. В окошко, расплющив нос о слюду, выглядывала сестра.
Двор крытый, богатый. Богатый, но не Киршин. Отец строил, свою лавку имел, да разорился, влез в долги и помер. Потом и мать померла. А долги росли, росли, и Шакиров, принявший в ямщики Киршу, время от времени напоминал о них; из дома, который принадлежал ему, пока не гнал. Да что гнать-то: Кирша с сестрою теперь собственность татарина, пока долг отцовский не выплатят. А как выплатишь, когда вот и лошадей украли… Двух чудак этот благословил, а на какие шиши купить третью?… Может, под мост с кистенем – и ждать там с толстой мошной сударика?..
7
– Россия ваша темна, глупа, – говорил итальянец, расхаживая по горнице. Он зачастил с тех пор, когда Барма привел его, избитого, жалкого, в дом Юшкова. Правда, был неназойлив, скромен, учил Дуняшу разным наукам, Барму – рисованию, а все не свой брат. Да и свой-то немногим лучше. Недавно Меншиков приходил. Будто бы посмотреть дом новый. Таким домом его не удивишь: дворцы имеет. Потому и не обиделся Борис Петрович, что дальше приемной залы светлейший никуда не пошел. Выпил чарку, поднесенную Дуней, подмигнул князю:








