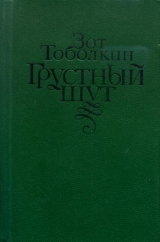
Текст книги "Грустный шут"
Автор книги: Зот Тоболкин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 21 страниц)
Пикан не скупился, разматывал свой клубок щедро и стремительно. И потому судьба преподносила ему всего с избытком.
Обосновались в Сургуте. Народу в острожке – раз-два, и обчелся. Но в иные дни людно. Народ в основном служивый. Или уже отслуживший.
Умер старый казак Порфирий. Общество выделило его полуразвалившуюся избушку Пикану. Пол в горнице сгнил, крыша покосилась, и дымила печь. Однако Пиканы и этому были рады.
Вселились, зыбку подвесили. С собой ни рубахи, ни перемывахи. И хлеб, который брали в дорогу, кончился. Тишка, перед тем как уехать, отыскал в амбаре слопцы, капканы и сети. Старика, видимо, лес да вода кормили.
– Сяс рыпка путет, – сказал остяк. Ушли со Спирей и через какой-нибудь час принесли двух нельм, щекура и трех муксунов. Пикан успел подмазать печку, наколол дров и пустил дымок.
– Хлебца-то нет, – вздохнула Феша и принялась чистить рыбу.
– Перебьемся, – сказал Пикан. – Потом у соседей взаймы возьму.
Тишка и здесь не оплошал: сунувшись в кладовку, обнаружил едва распочатый мешок с мукой.
– Чужая, – покачала головой Феша. – Не возьму.
– Пери, пери, – разрешил ее сомнения Тишка. – Я хосяину свеську поставлю.
Посмеялись, но делать нечего – взяли. Да и то правда, что хозяину, кроме молитвы и свечки, ничего не надо.
Не верилось, что жизнь потечет спокойно. И она потекла, начав иной отсчет.
Перепеленав девочку, Феша принялась за стряпню. Решила напечь блинов. Но блины вышли, как шаньги, толстые. Стряпать пока не научилась. В пути Пикан сам стряпал, а в доме Красноперова все делала кухарка.
«Ничо, пущай учится», – усмехнулся Пикан и, чтобы не смущать жену, вышел.
Улица вдоль Оби вытянулась. А еще одна – вдоль другой реки, названия которой Пикан не знал. Дома повернуты к реке задом. На задах пригоны и стаи. Селение с виду чистое, но слив банный и жижа из пригонов текут в реку. «Нехорошо как!» – осудил Пикан. Река вон какая щедрая. Тихон едва успел сетку кинуть – пол-лодки надергал. Острожек уж потерял свое значение. Частокол, которым его обнесли когда-то, во многих местах был сломан. За ним начинался лес, могучий и мрачный. Из лесу выпорхнула Тишкина ребятня, что-то неся в подолах рубах. А потом выкатился сам Тишка, размахивая тушками рябчиков.
– Есть на похлебку! – кричал он. – У сыновей под рубахами грибы.
«Вот край-то! – думал Пикан. – А я бурчу, что лес тут беден. Всего полно!»
Расставшись с Тишкой, взобрался на холм, поросший мощным кедровником. Холм, словно дозорный, глядел поверх урмана. Отсюда был виден весь Сургут. Но первой бросилась в глаза покривившаяся маковка деревянной церкви. Из-под ног с сердитым писком юркнул бурундучок. Взобравшись на кедр, казалось, стал браниться: «Чо шляешься тут, бродяга?» Однако сердиться зверьку надоело, он обмахнул себя лапами и скоро задремал.
– Смерть проспишь, соня! – крикнул Пикан, заметив мелькнувшего молнией соболя.
Бурундук опять тревожно пискнул, свалился с сука, на котором дремал, и скрылся в норке. Соболь, наткнувшись на человека, сорвавшего ему охоту, зло оскалился, выгнул спинку и скрылся.
«Какая изобильная земля! Всю Расею прошел от Светлухи – такого не видывал», – изумленно оглядывался Пикан. Теперь лес этот стал понятней. Он суров и сдержан, но вглядись, вслушайся: беспокойная, стремительная жизнь, полная страстей и борений, кипит в каждом его уголке. Не поскупилась природа-мать, отвалила здешнему краю всего вдоволь. Комарья тоже. Уже июль на исходе, а гнус бунчит, донимает. За церковью, отовсюду видной, опять лес. Его рассекла пополам река, и катит, и катит спокойные волны, облизывая ими ближние острова, песчаный обрывистый берег. Другой берег пропал в синеве дня и угадывался верст через семь, где даль была темнее.
Под взлобышем застучали колеса. Где-то совсем рядом подвода остановилась. Тюкнул топор, потом кто-то вскрикнул, и все смолкло. Лишь подала голос кедровка да снова высунулся из норки потревоженный бурундук.
«Не зверь ли кого дерет?» – Пикан вслушался, уловив еще один вскрик. Со стороны дороги донеслась глухая возня. По-прежнему напрягая слух, Пикан крадучись спустился вниз и вздрогнул. На муравьиной куче с кляпом во рту возился голый мужик, рвал сыромятные путы. Тело его было черно от муравьев. Рядом молча стояли с полдюжины остяков.
– Эй, вы чо! – Растолкав стоявших, Пикан начал распутывать ремни. Но чьи-то крепкие руки – много рук – схватили его за плечи, стиснули горло. От рук шел сильный и нечистый запах. – А, та-ак? – Пикан хватил зубами рвущие рот пальцы. Рот наполнился чужой кровью. Сплюнув ее, сорвал с горла руки и, дикий, страшный, стал молотить нападавших на него остяков. Кто мог еще двигаться, кинулись прочь от него, пали в упряжки, ждавшие неподалеку, гикнули и вмиг исчезли. Пикан, дрожа от неутоленной ярости, ничего не видя перед собой, шел следом. Стукнувшись о кедр, остановился, затряс головой и, вспомнив о связанном мужике, повернул обратно. Мужик, изловчившись, скатился с кучи, но легче ему не стало. Муравьи и гнус лезли в рот, в нос, в уши, жалили тело.
Развязав его, Пикан всхлипнул и обессиленно пал рядом, словно его, а не мужика жалили насекомые. Тот матерился, смахивал их ладонью и топтал. Лицо, руки и тело были искусаны до пузырей.
– Оплеснись водой, – хотел посоветовать Пикан, но с распухших, окровавленных губ сорвалось невнятное блекотанье.
Мужик подскочил к своему спасителю, встревоженно заглянул в его страдающие глаза.
– Не хотел ведь я, не хоте-ел! – наконец выдавил Пикан и, отстранив мужика, пополз к остякам, лежавшим без сознания. – Простите меня! Опять зарок свой нарушил. – Пикан бил лбом оземь, но остяки лежали недвижно.
– Перед кем каешься? Кого жалеешь? Звери они! Зве-ери! – сам зверея, кричал мужик и пинал лежавших. – На мурашей меня кинули! За что? У, звери!
– Не тронь! – рявкнул на него Пикан.
Мужик отступил и, путаясь в рукавах, стал одеваться. Судя по одежде, он был здешним попом.
– Эко, роща у их священна! Топором не коснись! Нехристи! Идолопоклонцы! Прррокляну! – кричал он, застегивая рясу.
– Роща-то ихняя. Пошто трогал? – сурово спросил попа.
– Хотел храм божий поправить. Они, вишь, устерегли. Священное место! Ххэ! Церква-то разе не священна? Един бог на свете, а я служитель его!
– Мог и подале отъехать. Тайга просторна, – упрекнул Пикан.
Остяки, побитые им, приходили в сознание. Тот, которому прокусил палец, стонал, морщился, но подняться не мог.
– Дале ездить страшусь. Не любят они меня за то, что к вере Христовой приучаю. Тут лиходей один был – грабил шибко. Думают, и я таков. А я не корыстен.
– Кедр священный рубил, дрался…
– Ну, было в гневе. Простите Христа ради, – попик согнулся перед инородцами, закряхтел. Красное, искусанное лицо налилось кровью. – Вставайте, губители! Я вам не враг.
Остяки не двигались, покорно ожидали своей участи. Их часто обижали. Вот и сейчас побили за то, что они охраняют священную рощу. Эти русские злы, пришли незваными и возомнили себя хозяевами. В словах лукавы, в делах жестоки. Что-то бормочут своему богу, вроде и голоса незлобивы, но души черны. Удрать бы, но нет сил. Ох как больно бьют эти русские!
– Ишь как трясутся! – покачал головой Пикан. – Напужались до смерти.
– Дак ты их вон как изгвоздал!
– Не лезли бы! А ты тоже хорош, – рассердился Пикан. – Поп, а воруешь! Из-за тебя и грех на душу взял.
Подняв двух поближе лежавших остяков за пояса, Пикан повел их в селение. Савва, так звали попа, подхватил третьего, с прокушенными пальцами.
– Не тряситесь. Никто вас не тронет, – внушал Пикан.
А из сельца бежали с дрекольем мужики. Впереди мчался рослый детина, кучерявый и голубоглазый, на ходу засучивая рукава.
– Там кобыла твоя прибежала, – забормотал он, встревоженно заглядывая в глаза Савве. – Думал, убили. – Кинув презрительный взгляд на остяков, поморщился: – Это ты им поддался?
– Их много было, Антипа. Как саранча налетели, – сказал в оправдание Савва и обернулся к Пикану. – Это брат мой меньшой. Хлебом не корми, токо дай подраться.
– С кем тут драться-то? – скучая и злобствуя оттого, уныло проговорил Антипа. Голос его был переменчив: то низок и горловат, то напряжен и высок. Слова на горловом выговоре были тягучи, на высоких нотах – сыпались, точно горох. – Вот разе с им, – прицениваясь к Пикану, оживился Антипа. Развернув плечо, подвинулся на шажок поближе.
«Он, верно, певун!» – любуясь редкой славянской статью, думал Пикан.
– Не дерусь я, – сказал, отодвинув Антипу. – Обет дал.
– А я бабочку твою видел, – с вызовом молвил Антипа, пошатнувшись от Пиканова толчка и снова выпрямившись. – Цветок баба!
– Ну, не балуй! – Савва погрозил брату пальцем.
– Дайте хоть их побить, что ли? – снова заскучал Антипа, покосившись на остяков.
– И так биты. Будет! – заступился Пикан за инородцев. С ним рядом, видимо зная, что Антипа не сдержится, стал Савва.
Мужики, бросив колья, отошли в сторону и били по рукам, чья возьмет.
– Их нельзя – вас все-таки отбузгаю, чтоб день не пропал даром, – скидавая кафтан, говорил Антипа. Под рубахой заиграли медвежьи мускулы. Плечи напружились, левая нога, выдвинутая вперед, искала перед собою опору, и все тело жаждало боя Лишь глаза, светившие сине и ясно, были незамутненно чисты и спокойны.
– Побойся бога, варнак! – взывал Савва, еще надеясь образумить брата.
– Чо мне его бояться? Не его ведь, вас бить буду.
– Брата? Священнослужителя?!
– Брата. И вот этого, – Антипа указал на Пикана.
– Ты вот что, паря, ты не кобенься, – глухо упредил Пикан. – Ни их, ни брата твоего в обиду тебе не дам.
– Сам будешь обижен, – бросаясь на него, вызывающе вскрикнул Антипа.
– Прости меня, боже, – взмолился Пикан и саданул драчуна в скулу. Антипу словно ветром сдуло.
Мужики заворчали, взялись за колья.
– Не балуйте! Пр-рокляну! – закричал Савва и толкнул Пикана в спину. – Айда, пока не обыгался. Снова привяжется.
– Долго ему теперь обыгиваться, – нехорошо щеря черные зубы, усмехнулся скуластенький мужичонка, похожий на остяка.
И верно: Пикан с Саввой уж были в селении – Антипа все еще не пришел в себя. Скуластый мужик принес в шапке воды, смочил ему губы и виски, плеснул в лицо, ставшее сплошным синяком.
– Гора, что ль, на меня рухнула? – недоумевал Антипа, щупая вывороченную скулу. Голова, точно высушенная до медовой желтизны лиственница, звенела.
– Пожалуй что, – поливая ему на загривок, посмеивался мужик. – Нашла коса на камень.
– Ну, камень, он тоже дробится, ежели есть подходящий молот.
Антипа поднялся и шагнул, но зашатался и упал бы, если б не мужики, подхватившие его с обеих сторон.
16
К Николе зимнему жизнь направилась. На помочи пришли Савва, Тишка, с десяток остяков и перекатали избенку, убрали ячменное поле. Хоть и скудный, да все-таки урожай. Позади усадьбы, на берегу речки Бардаковки, Пикан срубил кузницу.
Началось с малого: с драки в лесу. Он и забыл об этом случае. Старался забыть, но доверчивые, простодушные остяки за добро стократ платили добром. До Пикана им воспрещалось бывать в селении. Если кто-то отваживался, у него все отнимали и, люто избив, изгоняли прочь. Теперь инородцы знали: в Сургуте есть люди, которые постоят за них в любой час. И когда настала пора осеннего перелета, те же знакомые остяки запасли для Пикана птицы, свалили пару сохатых, нащипали пера, а рыбы на зиму наловил Тишка.
По зимнику Пикан съездил в Тобольск. Взяв в долг у Гаврилы, накупил столярного и кузнечного инструмента. Феше и дочери понавез подарков. Видя на улице стройную, нарядную, нерусского обличья женщину, сургутские модницы завидовали и пилили мужей: «Гли, как пришлый бабу свою наряжат!»
Но, в общем, с сургутянами жили в мире. И те были приветливы с Пиканами, дружелюбны и отзывчивы на всякую нужду. Вот только Антипа досаждал. Трезвый был добродушен, общителен. Выпив, он зверел, гонялся за остяками и не давал проходу Феше.
– Скучно мне, – жаловался, встретив ее на улице. – Всех баб здешних перелюбил. Одна ты осталась. Приголубь, а? Ноги о себя вытирать дозволю.
– У меня дома подстилка лежит – вытру, – усмешливо отвечала Феша, вслушиваясь в мелодичный звон в кузнице. Там, среди огня и угольной пыли, творил неутомимый Пикан. Сургутяне, до того не умевшие по-доброму запрячь лошадь, вдруг стали заказывать телеги на железном ходу, дроги и дрожки, на зиму – кошевки и розвальни. Появились в быту расписные дуги, плетенная Пиканом ременная сбруя, шлеи с медными и серебряными бляхами, шитые сафьяном хомуты и седла. Антипа и здесь переплюнул посельщиков, заказав Пикану роскошное верховое седло со стременами из червленого серебра. Перед Фешей иначе как верхом не появлялся. Раз по пяти на дню гарцевал перед ее окнами, меняя седла, меняя лошадей.
Антипа торговал и был купцом удачливым. Случалось, за одну ярмарку срывал до десяти тысяч. Обозы его ходили в Верхотурье, в Самарово, в Тобольск. К нему приезжали ночами богатые остяки, вогулы, самоеды, татары, зыряне и прочий промысловый люд. Товаров у Антипы было вдоволь и на все вкусы. Прежде чем начать мену, он вытаскивал из сундука, открывавшегося с малиновым звоном, золотой в красных каменьях кубок, из которого якобы пил сам Ермак Тимофеевич. Наливал особо почетным гостям до краев. Кубок был золотым, а вино с табаком и мухомором. От этого напитка гости дурели, и тогда начиналась торговля. В деле Антипа был жесток и расчетлив. Он привозил из Тобольска шубы, сапоги, пимы, сукно, ситцы, шелка, разную утварь, посуду, – все это с большой выгодой для себя сбывал.
После торгов душевно болел и подолгу пил. И тогда синие глаза его становились мутными. Он покаянно бил себя в грудь, обзывал прилюдно вором и требовал, чтобы всякий встречный плевал ему в лицо. Но когда кто-то из мужиков на это отважился, Антипа сломал ему позвоночник.
Выждав, когда Пикан уйдет в кузницу, Антипа вваливался в его дом, рассыпал у порога кольца, браслеты, меха, не зная, что все это у Феши уже было. Не было лишь счастья, пока не встретила и не полюбила Пикана, который рядом с видным Антипой был и стар, и не так красив. Одевался просто, и Феша не могла заставить его купить что-либо понарядней, хоть без денег не жили.
«Смолоду не форсил, теперь уж поздно», – отговаривался Пикан.
Феша мысленно примеряла на него Антипины наряды, мысленно же аккуратно подправляла долгую бороду, подравнивала седые, поредевшие кудри… Тот Пикан, нарядный и причесанный, ничем не уступил бы франту Антипе. Но уступал теперешнему Пикану, которого она ежедень привыкла видеть.
«Нет, нет, и этот всех лучше!»
Отдыхая после работы, Пикан осторожно играл с дочерью, потом, передав ее Феше, садился за Библию. Читал вдумчиво, медленно, иногда повторяя особенно задевшую его мысль. Феша часами любовалась его спокойным светлым лицом, на котором глубокими складками отпечаталось пережитое.
«Долюшка ты моя, до-оля!» – шептала она, смахивая счастливые слезы. Не ждала, не ведала, что встретит такого сильного и верного человека, с которым не страшно посреди страхов, надежно в сплошной безнадежности.
– Донимает он тебя? – оторвавшись от книги, спросил вдруг Пикан.
Феша, застигнутая врасплох, вздрогнула.
– Ты о ком?
– Не лукавь со мною, татарочка. Знаешь, о ком.
– Донимает. Чуть ли не кажин день подарки приносит. Нужны мне его подарки! – натужно рассмеялась: опять слукавила. Антипа бывал не по разу, если находился в Сургуте.
– Ладно, отважу.
Порог – легок на помине – перешагнул купчина, втащив за собой холод, дыхание улицы, ненужную тревогу.
– Честным хозяевам! – снял соболиную шапку, поклонился.
– Проходи, коль с добром пожаловал, – заложив пальцем страницу, кивнул Пикан.
Феша тотчас ушла в горницу, стала укачивать проснувшуюся от стука девочку. Укачивая, припевала:
Соловей кукушку подговаривал,
Подговаривал, все обманывал:
«Полетим, кукушка, во темны леса,
Там совьем гнездо, будем счастливы».
Молодец девицу подговаривал…
– Не в бровь, а в глаз песня-то, – засмеялся Антипа, без робости скидывая борчатку. Остался в синем бархатном кафтане.
Размяв плечи, сел в передний угол, поставив на стол бутылку «Токая».
– Привечай, сосед, поласковей! Не успел войти – песней огорошили. Да и ты, ровно день осенний, супишься.
– Не зван являешься, потому и привета нет. Зелье-то убери. Ежели по сердцу придешься – сам угощу, – с холодным спокойствием сказал Пикан. – Не по сердцу – не взыщи.
– Читаешь… Писание, что ли? – Убрав бутылку, Антипа осторожно прикоснулся к книге.
– Один читает, другой – деньги считает. У всякого своя страсть.
А Феша пела:
А поедем, милка, мы с тобой в Тобольск.
Тот Тобольск-город на красе стоит,
На красе стоит, на крутой горе…
Антипа слушал ее с восторженным вниманием, встряхивал кудрями и улыбался своим затаенным мыслям.
– Ну дак сказывай, с чем пожаловал? – напомнил Пикан, придвигая к себе Библию.
Антипа поглядел на него синё и удивленно: «Как можешь спрашивать, когда поет такая присуха?» – закрыл глаза и закачался в лад Фешиной песне. Хитрость ли изощренная, купеческая, подсказала, а может, душа запросила – не удержался Антипа и подтянул чистым, теплым голосом:
На красе стоит, на крутой горе;
Там Иртыш-река медова течет.
Мелки ключики – зелено вино,
По лугам-лугам травы шелковы,
По горам-горам цветы алые,
Цветы алые, сплошь лазоревы…
Голос его не заглушал тихого ручейкового голоса женщины, сливался с ним и сманивал. А уж сманивать так сманивать! Всю силу, всю страсть свою вложил Антипа в тот тихий зов.
В ответ услышал:
Не обманывай, добрый молодец,
Я сама давно про то ведаю,
Что Тобольск стоит на костях одних,
А Иртыш-река кровава течет.
Мелки ключики – горючи слезы,
По лугам-лугам там все волосы,
По горам-горам там все головы.
Там все головы молодецкие…
– Там все головы молодецкие… – на неслышном дыхании, тихо-тихо и все-таки явственно вывел повтор Антипа, Голос его еще долго шуршал, стлался, туманом наползал на потолок, на стены, наполнял смутой душу Пиканову, тревогой – Фешину.
– Эх, – грохнул кулачищем Антипа, – пади и моя голова! Ведь я за Феоктисьей пришел, – он с треском рванул себя за кудри, словно приводил в чувство, откинулся и с обезоруживающей искренностью признался: – Без ума я от твоей соловушки.
– За Феоктисьей? За мужней женой? – изумившись дерзости купца, не поверил Пикан. Кулак его лег рядом с Библией, чуть поменьше ее.
Антипа без страха, но с почтением покосился на этот кулак, на виду у всего Сургута уронивший его, когда-то гордого и непобедимого. Вот и Феша уронила. До нее никто не отказывал Антипе в любви. Не добром, так силой, не силой, так деньгами добивался своего. Много, ох много бегает по тайге ребятишек, кудрявых, голубоглазых, родившихся от зырянок, от вогулок, от русских и от татарок… Не знают они отца и, наверно, никогда не узнают. И женщины те случайные забыты. А без Феши не жить!
«Уж выроню все из себя, – решил смело. – Пущай знает Пикан, откуда беды ждать!»
– Уступи! – продолжал Антипа. Опять купеческая жилка взыграла. – Цену великую дам!
– Во сколь же ты меня оценил? – Из горницы, успев переодеться, в серебре и черном шелку выплыла Феша. Антипа ахнул, закрыл ладонью глаза, точно боялся ослепнуть.
– Да все отдам, все! – сказал не скоро и глухо, дрожащими пальцами шаря пуговицы на вороте. – Дом, богатство, волю свою… Ограду вашу сусалью выстелю! – отпихнув стол от себя, пал на колени, большой и несчастный.
– Сусалью-то маковку на церкви покрой. Брата своего порадуй, – придвигая стол на место, посоветовал Пикан, жалея в душе этого мечущегося, потерявшего разум человека. Все есть у него: богатство, сила, молодость. Нет лебедушки, и – тошно мужику, жизнь не в жизнь. Это понятно. Пикан сам места не находил, когда умерла Потаповна. Так и помер бы в тоске, если б не явилась Феша.
– Покрою, порадую! Ежели требуешь.
– Душа твоя не требует? Дело божье.
– Бог там где-то, там! Тут – богородица! – Антипа ткнулся лицом в пол и коснулся губами плахи, на которой только что стояла Феша. Зардевшись, она отпрянула. Хотела убежать, но прижалась к двери боком, через плечо глядя на поверженного, тянущего к ней руки красавца.
– Подымись теперь. И – ступай. – Выждав какое-то время, Пикан взял гостя за опояску, вытолкнул в сени. Туда же выкинул шубу и шапку соболью.
Феша метнулась в горницу. Тая шаг, тыкалась из угла в угол.
Не видя букв, Пикан молча листал Библию. Из ограды долетали глухие рыданья иссушенного неистовой страстью Антипы.
– Спиря из лесу скоро вернется, – сказал Пикан, когда жалобы купца стихли. – Велю быть ему при тебе.
Антипа, пьяно качаясь, брел по улице. Лицом к лицу столкнулся с братом:
– Савва! Саввушка! На́ те на церкву! Покроешь золотом! – сорвал с себя шапку, кафтан, расшитый жемчугом, кинул под ноги подарки, заготовленные для Феши. – Меня, сирого, у притвора схоронишь, чтоб люди топтались. Гибну я! Ги-ибнууу!
– Опять куролесишь? – спокойно одернул его Савва. Подобрав драгоценности и кафтан, сунул Антипе. – Пошто людям досаждаешь? Добрые, праведные люди!
– Праведные! А я грешник! Окаянный я человек! Огонь внутри пышет! Геенна во мне, братко!
– Пойдем – исповедаю. Легче станет.
– Веди, поп, исповедуй. Но гляди: ежели легче не станет – церкву твою спалю! – пригрозил Антипа. Слеза из голоса выветрилась.
Идя под руку с братом, оглядывался на пикановский дом, пел:
– Полетим, кукушка, во темны леса. Там совьем с тобой тепло гнездышко…
– Дак Спирю-то приставлять? – осторожно спросил Пикан, вслушиваясь в бесконечный ход жены. – «Что-то случилось с ней, – думал. – Со всеми с нами случилось…»
Сердце тревожно замерло и ворохнулось: «Неужто новые предстоят испытания?»
– Не надо, – глухо отозвалась Феша. – Сама отважу.
…Труба молчала. Князь занемог.
Но пушка с Троицкого мыса выстрелила в положенный срок.
17
Путь долгим был. И даже Митя, лучше других сознававший тяготы земных и водных странствий, с нетерпением ждал, когда он кончится. Лейтенант не терял времени попусту: занимался геодезическими съемками, каждому задавал работу и требовал безоговорочного исполнения.
«Команда не должна распускаться, – твердил он всякий раз. – Нам плыть еще!» Он верил, что поплывет, что откроет для Отечества новые земли, хотя корабля у него не было. Пока же, не тратя времени, учил матросов грамоте на каждом привале, объясняя, как пользоваться подзорной трубой лотом, квадрантом, взятыми с Фишеровой шхуны.
– Всяк должен уметь подменить всякого. Умру или ранят – Егор корабль поведет. А что с Егором случится – братья сменят.
– А я? – спросил Гонька, внимавший каждому Митиному слову.
– Будет и твой черед, юнга! Пока ж содержи в порядке наш судовой журнал. Помогай Даше.
Дел у Дарьи Борисовны было немало: уход за сыном, хлопоты у костров, стирка. Никто из знавших ее прежде не поверил бы, что избалованная, хрупкая княжна способна жить этой непривычной и суровой жизнью. Она жила и не жаловалась. Она заменила Гоньке мать, журила захандрившего Бондаря, почем зря костерила мужа, хоть иной раз и не заслуживал этого, но перебранка их веселила. Наедине спрашивала Барму:
– Ты не разгневался, Тима?
– Страх как разгневался! Вот встречу самоедку, которая по-русски не разумеет, – женюсь. Та хоть ругать не по-нашему станет, – отшучивался Барма, получал подзатыльник и целовал ударившую его руку. Рядом в корзинке сладко посапывал сын.
– Не люба, что ли? – ревниво допытывалась Даша. Вскипали сомнения: «Ну, как бросит меня? Что тогда? Часу не проживу без него. Господи, господи, не допусти!»
– Хоть и княжна ты, а дурочка, – прерывая исступленное ее бормотанье, шептал на ушко Барма.
– Повтори! Повтори! – чувствуя, как дыхание его сдувает прядь над ухом, просила Даша.
– Дурочка, – ласково капал его голос, переворачивал душу. – Свет мой!
– Колдун! – шлепала его по губам Даша. – Ничего от тебя не утаишь.
– А ты не таи! – притворно хмурился Барма, целовал ее и перекатывался к мужикам, которые вечно о чем-то спорили. … – Человек возомнил себя царем, – говорил он, сразу врезаясь в спор. Голос был еще хриповат, не остыл от потаенной страсти. Даша думала: «Для меня говорит!» – Не царь он, – без шутовства, как никогда серьезно, говорил Барма. – Царей в природе нет. Вот в тундре кто сильней всех, Ошкуй? А он разве властен над птицей? Кто в небе орла сильней? А мошкара садится ему на крыло. Всяк сам по себе живет, как ему назначено.
– А человек над всеми, – убежденно сказал Бондарь. – Над зверем, над птицей. Всем господин.
– А ты и́х вон о том спроси, – желчно усмехнулся Барма, указав на Гусельниковых. – Или Гоньку. Что скажешь, господин мой Гонька?
– Я, Тима, – залепетал мальчик, напуганный этим странным и непривычным обращением, – не господин.
– А кто ж ты? Птица или рыба?
– Человек я… Гонька.
– То-то, – хмыкнул Барма. – Человек, и не боле. А госпожа всему – правда! И человек ей подчиняться должен, а не царю и не князю.
– Кто ж державой тогда править станет? – задумался Егор. – Судном и то капитан правит. А тут держава.
– Один ромей знакомый хотел город построить, которым все будут править, – сказал Барма, вспомнив Пинелли.
– И что, – встрепенулся Бондарь, – построил?
– Вряд ли. Да и зачем он нужен? Когда все начнут править, работать некому будет.
«А как муравьи живут? – запишет об этом разговоре Гонька. – У них никто не правит. И все трудятся».
В голове его никак не укладывалось, что насекомые в чем-то превосходят людей. И потому он вымарал эти строчки.
18
Ветер плакал. И человек в нарте плакал, сжавшись в комок. Он ехал, чтобы умереть в пути. Но смерть была легка на ногу и опережала его. За ней медленно бежали собаки. «Стой! – кричал человек смерти. – Ну стой же! Если уж ты взяла жену и детей, возьми и меня. Зачем я жизни?»
Собаки изнемогали, а человек гнал их, и они плелись, свесив красные листья языков. Языки пылали, хватали на бегу снег, пасти закуржавели льдинками. Льдинки погремливали, как бисер, и в такт им мотались собачьи хвосты. И высоко в небе пылал язык, и виден был глаз огромный, словно и там бежал пес в упряжке, а в нарте сидел другой человек, бог. Бог плакал, как Ядне, потому что он не может не плакать, когда плачет на земле человек. А человека обидел другой человек, Янгурейка. Налетел ночью со своими охотниками, избил пастухов, угнал оленей, оставив Ядне худую собачью упряжку. Много дней убивался Ядне, но дети хотели есть. Жена его, теперь единственная на все стойбище женщина, хромая, помятая на охоте медведем, визгливо кричала:
– Тот не мужчина, кто не может накормить своих детей.
Ядне запряг собак и погнал их в тундру. Вернувшись с охоты, – слишком долго пропадал Ядне: добыча не давалась, – застал жену умирающей. Дети умерли раньше.
– Ты не мужчина, – едва ворочая языком, повторила жена, и душа ее улетела. Ядне остался один в огромной белой пустыне. «Пусть меня мороз убьет, пусть разорвут волки!..» – молил Ядне и звал смерть.
Но смерти он надоел, как надоел и жизни, и себе самому. Да вот и собаки совсем обессилели и остановились подле какого-то колышка. «Верно, человек его поставил», – равнодушно отметил Ядне, как привык отмечать все, на что падал его зоркий глаз. То, что показалось колышком, был полоз поставленной торчком нарты.
«Тут кто-то помер! Он счастливей меня!» – позавидовал Ядне и по-собачьи споро, всеми конечностями, стал разрывать снег. Снег еще не успел слежаться, был податлив и мягок. И скоро Ядне увидел чье-то белое, перечеркнутое черной повязкой лицо.
«Может, он и есть тот самый бог, который гоняет на небесных псах? – думал Ядне, прислушиваясь к слабому дыханию существа с черной повязкой. – Узнал обо мне, спустился на землю…»
– Эй! – Ядне нерешительно тряхнул одноглазого – не то бога, не то человека. Тот застонал и открыл воспаленный зрячий глаз, но тотчас закрыл, словно потерял к самоеду интерес.
«И богу не нужен, – огорчился Ядне, но второе, не зависящее от него сознание уже продиктовало ему: – Надо разжечь костер. Богу холодно на земле».
Он разрубил свою нарту, не посмев тронуть нарту небесного пришельца, дал круг, наломав берез-карлиц, и развел костер.
Собравшись на тот свет, Ядне предупредительно всем запасся и сейчас начал зорить свои заветные припасы. Прежде всего докрасна растер бога снегом. Обмороженные места обильно смазал медвежьим салом. Бог морщился, урчал от боли, и Ядне понял, что он всего-навсего человек, поскольку чувствует боль. У бога ничто не болит. У человека болит все.
Ядне напоил его отваром, накормил горячим мясом и сейчас, сидя у костра, ломал голову: «Откуда взялся этот одноглазый? И где собаки его? Или – олени? Нет, постромки – собачьи».
– Ну будет, погрелись, – сипло промолвил Першин, это был он, и указал пальцем: – Вези меня туда! Я по государеву делу.
Ядне запротестовал:
– Ты слаб. И собаки устали. Сиди, грейся.
Кинув собакам рыбы, поправил костер и начал рассказывать Першину свою горькую повесть. Он говорил, как несправедливо обошлась с ним судьба, как подл и жесток Янгурейка, да и весь этот мир, вероломный и алчный.
Михайла слушал его бормотанье, разминая опухшие, блестящие от жира пальцы, и недовольно косился на дерущихся псов.
«Как люди: рыбешку между собой поделить не могут. А этот чухонец все бормочет о чем-то. Наверно, везти меня не хочет. Повезешь, не отвертишься!» – натягивая рукавицы, усмехнулся зловеще Першин. Воспаленный глаз его желтел, как Полярная звезда, которую самоеды почитали.
– Запрягай! – на половине прервав рассказ Ядне, скомандовал он и бесцеремонно поднял ненца. – Дорогой выговоришься, ежели не околеем.
Усадив Першина в нарту, Ядне стал на лыжи и побежал рядом. Михайла дремал под монотонное бормотанье самоеда, разобрав из всего одно-единственное слово: «Ненец».
– А, немец! Мало вас там, дак и сюда заползли! – поручик замахнулся, но бить не стал. «Что, хоть и немец, – решил про себя, – все одно в пути пригодится».
Отдохнувшие собаки тянули дружно. Ядне, выговорившись, молчал.
«Теперь мой черед!» – решил поручик и начал рассказывать о своей службе, о том, как в Сулее оказался, как обманул матросов, удрав от них на собаках, как отстреливался от волчьей стаи, а потом замерзал.
– И замерз бы, если б не ты! – сказал он с чувством. Уж стал думать, чем отблагодарить ненца за свое спасение, да увидал вешки, оставленные Митей, а потом – чум. Из чума человек вышел, Митя, помог распрячь собак.
– Заходите, грейтесь! – позвал он приезжих и, войдя в чум, засветил жирник.
Увидав старых знакомых, Першин выпучил глаз.
– Опять он тут! – проворчал Бондарь. – Щас душонку из него вытрясу!
– Зря время потеряешь, – рассмеялся Барма. – Душонки-то у него нет. Выбили из него душонку.
19
В полете падали птицы, дрожал спрятавшийся в пещеру волк. Подмыло берег, и вода опустилась. В той промоине волк и устроился. Над ним свисали жиловатые корни, шуршала невидимая в темноте птица, тоже облюбовавшая это убежище. Через щель, пугая волка, проникал тихий наружный свет. Над пещерою лось топтался, шумно вздыхая. Обивал с себя снег о ветки, тоскливо взывал: «Студено-о-о! Студе-е-но-о-о!» Деревья с треском распахивали свои рубахи, словно бойцы в атаке, открывали грудь гибели и гибли. Жесткий, негнущийся воздух наполнялся их хвойным ароматом, ненадолго отмякал, но мороз подбавлял ярости и рвал в лоскутья обнаженный берег, терзал кедры, а кедры, теряя богатырскую мощь, никли и замирали. До предела напряглось высокое сизое небо, в куполе хмурое и неприветливое. Казалось, возьми горсть воздуха – рассыплется он с сухим оскольчатым звоном.








