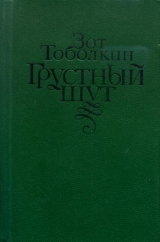
Текст книги "Грустный шут"
Автор книги: Зот Тоболкин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 21 страниц)
Пикан поймал себя на мысли, что жалеет своего мучителя. А ведь это он изломал привычное течение пикановской жизни. Текла, как Иртыш, в выверенном русле. Было и счастье, и дети были. Была Потаповна. Всех разметало. Да и сам князь загремел следом.
Пикан возвысил, развернул налившиеся усталостью плечи, проник взором в непроницаемую синь леса, чего не разглядел – домыслил. Лес-то с детства знаком. Тот же зверь здесь, та же птица. Страха перед тайгой нет. И перед далями Иртыша, перед всем белым светом, которому он хозяин, нет робости. «Это мой свет, – думал Пикан, – моя река. И держава моя».
Не за нее ли терпел от сильных мира сего? Никто не вправе делить землю – она принадлежит всем, как небо это, как Иртыш, как воздух. Ходи, плавай, летай, дыши, исполняя назначение свое. «Вот жена венчаная сына или дочь мне родит. Везу я их к лучшему, никому не мешаю».
Во всех деяниях человек должен быть добр, справедлив, неутомим и разумен. И как это славно – плыть за рекою вслед, ни от кого не завися!
«Не поп я, воин и пахарь! Иоанна Крестителя из меня не вышло. Сказать, что ль, Феше о грехе нечаянном? Нет, не скажу. Незачем расстраивать. Ее сейчас беречь надобно. А боле не отступлюсь».
– Татарочка моя! – снял Фешу с кормы, усадил на колени. – Голубушка!
– Ива-анушкааа, – шептала она.
Лодка уткнулась в берег. Пикан снял парус тряпичный, сложил и, выйдя на берег, огляделся.
Попали в заводь. Иртыш, повсюду желтый и мутный, был здесь чист. По дну рыбы играли. Песок золотой, мелкий. Выскочив из карбаса, Феша растянулась на песке и, пересыпая из руки в руку тонкую золотую струйку, смотрела на раскосмаченное солнце, нежилась в разливанном море тепла и света и что-то беззвучно, словно заклинание, шептала. Волна, синяя, с прозеленью, омывала босые ее ноги, слизывала песок и накатывала снова. Из травы безбоязненно вышла с выводком утка, крякнула и бесстрашно провела темно-желтых детенышей к воде. Где-то неподалеку высиживала. Отсидела, отмаялась, теперь одна забота – поставить утят на крыло. И скоро, уж скоро замашут они на ветру крыльями. А пока вместо крыльев смешные огузки. Ныряют утятки, восторженно пищат. Тоже ведь птицы, и каждый с судьбою своей, со своим долгим или коротким веком. То ли добычей станут чьей-то, не успев побывать в чужих и теплых краях, то ли пристроятся к стае и поплывут, поплывут над землей.
Пикан привязал карбас к дереву, вскарабкался по крутому обрыву. На ближнем кедре мелькнула белка, сердито взверещала и уставилась на людей. А кедр смотрел вниз, на корни, змеившиеся на срезе обрыва, словно прикидывал, сколько еще простоит. Белку судьба его не тревожила. Поднявшись на вершину, она перемахнула на ближнюю ель и устроилась там с добытою шишкой.
По распадку, слева, лес – волнами. Казалось, земля посылает свои волны реке. Обнимутся волны – синяя и зеленая. – и от их соития родится что-то высокое и чистое, потому что любовь земли и воды чиста и непорочна.
Дальше елань видна, на ней дымок дальний: кто-то опередил Пикана, разжег костер. А может, пал это? Зачем пал, когда даль так светла и спокойна? Лишь плеск волн да кряхтенье старой утки слышны в полуденной тишине. И все глазу доступно, вся скрытая и обнаженная суть планеты: известковый разрез обрыва, в который, петлей захлестнувшись, змеисто уходят кедровые корни, вытягивая из земных глубин соки. Соки бродят по стволу, по сучьям, дают зеленый огонь веткам, соки выплескиваются прозрачной живицей, свечками, хвоей, терпким запахом леса. Кипит жизнь в земле, под землей, над землею. И там, у далекого костра, кто-то вот так же вслушивается в ее токи, любуется родничком, свесившимся с обрыва. Возьмись за кончик его – куда приведет? Уж, поди, не в худое место! Ах, если б можно было стать маленьким гальяном и по родничку добраться до его начала! А потом приплыть сюда и рассказать Феше, где побывал, что видел.
Да что стремиться-то? У Пикана свой путь, свое слияние. А родничок влился в реку, рассказывает ей, что узнал до этого, что перечувствовал. Вслушайся лучше. Ручей не лукавит. Это человек то убавляет, то прибавляет, когда ему выгодно, а природа правдива. Пиши, ручей, свою серебряную строчку, воркуй. Человек, слушая твою бесхитростную сказку о цветах и травах, напоенных тобой, пусть завидует. Вон загорелись костры жарков, вон колокольчики названивают, смотрит пронзительным синим глазом незабудка. Все видит зоркий глаз ее, все запоминает, потому и зовется цветок тонконогий таким именем. Вон росинка на мать-и-мачехе. Накололась шариком на волосок и светит, в ней повторяется та же великая и бесконечная жизнь, и такая же Феша, и такой же Пикан любуются ладно устроенным миром, славят творца, славят солнце! Есть день, есть ночь, есть ложь, есть правда, добро и зло, красота и уродство. Но солнце единственное над всем миром. Величаво и властно, светло и детски отзывчиво оно на всякую боль. Худо душе твоей – выдь на завалинку, и ласковый луч упадет на твои влажные веки, слеза станет каплею золота и с тем же лучом высветит тайную боль твою – улыбнешься поневоле.
Одно солнце, едино! Нет равных ему.
«Да что я, – спохватился Пикан, – о боге-то не поминаю?»
Осудив себя, снова заслушался жизнью: вокруг день ликовал, трубил бессмертную песнь сотворения, которой не дано сыграть ни одному, даже самому искусному трубачу.
Феша уснула. Спала раскрыто, доверчиво. Пикан стоял над нею, закрыв глаза, и мысленно переживал то мощное мгновение дня, которое только что впилось в него всеми цветами, звуками, запахами, высветило и сделало частицей необъятной и неиссякаемой природы.
«Боже, славлю тебя! Я испытал счастье, боже!»
Набрав сухолому, развел костер. Пока кипела вода в котелке, кинул сетку, тут же вытряхнув из нее пяток язей и пару стерлядок. Язей отпустил, стерлядок бросил в кипящую воду. Накопал саранок, нарвал черемши – зеленая приправа к обеду.
– Просыпайся, люба моя! – осторожно коснулся губами спокойного светлого лица жены; она схватила его, привлекла к себе, хрипло и страстно забормотала не то молитву татарскую, не то любовный наговор.
Иртыш слушал, вздыхал тайно. Слушала тайга. А кукушка вдали отсчитывала годы счастья. Много насулила она.
Похлебали запашистой ушицы, устроились под обрывом на отдых.
А князь в Тобольске трубил…
10
И снился им сон о дне последнем.
Рушились горы, летели камни. И с самой вершины холма, на котором стояла сторожевая башня с самозабвенно трубившим на ней князем, извергалась красная лава.
Башня стояла, а князь трубил.
И – странно! – в грохоте вселенском, в черном дыму, в смраде, исходящем от страшного и раскаленного потока, среди духоты и погибели, среди всеобщего хаоса и разрушения ясно слышался звук трубы. Земля раскалывалась, улетала прочь куда то кусками и расплавленными брызгами. На каменном возвышении стоял человек, наигрывая на трубе что-то торжественное и светлое.
А двое спали, тесно прижавшись друг к другу. Их опоясал шелковистый пояс реки. Стихия разрушила и унесла все, что было вокруг – леса, холмы, дальние горы, – образовался провал. Иртыш повернул к нему и устремился вниз. На островок, где спали Пиканы, слетелись стаи лебедей, гусей, рябчиков, тетеревов, сбежалось зверье. Иртыш плеснул нагретой волною и затопил вокруг раскаленное, движущееся пространство, в котором ничего, кроме огней и камня, не было. А все, что недавно называлось землей, что казалось вечным и прекрасным, стало мертвым шипящим камнем. Камень исчез под водою, над ним бурлила, извергая дым и пар, огромная воронка, вобрав в себя кишевшую жизнь земли. Лишь маленький остров, омытый рекою, одиноко зеленел посреди парящего моря. На песке спали женщина и мужчина. Им, прощаясь, трубил трубач. Он все еще стоял на своей башне, от которой остался лишь флюгер. Но вот и флюгер скрылся. Вода сделалась князю по пояс, по плечи, выше. Исчез трубач. Одна труба блестела над водою, а вместо звуков вскипали белые пузыри. Вот и труба пропала. Везде была только вода. Пикан с Фешей встали. Их обступили птицы и звери. Из реки высунулись тысячи разных рыб: осетров, тайменей, муксунов, нельм… И тут же плавали сваренные и задохнувшиеся рыбы. Иртыш примывал их к берегу, к птицам. Но птицы не трогали мертвых рыб, поджимали лапы и отступали.
Дымилось небо, но сквозь дым и пар прорывалось солнце, и сизую рябь Иртыша торощил легкий, налетевший с юга ветерок. Он отгонял тяжелый запах извержения, трупики птиц и рыб от острова, и бесстрашно бежал дальше, к неведомому берегу.
Да полно, есть ли он, тот берег? Может, только этот осколок земли и уцелел? С него начнется новая жизнь. А эти двое, и эти птицы, и звери, и рыбы станут прародителями будущих поколений. Их уцелевший ковчежец пересечет тысячи миль в поисках новых пространств, и, может, через тысячи лет из воды покажутся острова, о которых пока еще никто не ведает.
– Одни, – зябко дрогнув плечьми, сказала Феша.
– Одни, – подтвердил Пикан.
– Стра-ашно!..
– Чего ж страшиться-то? – огромной ладонью, которой предстоит много потрудиться, Пикан огладил ее волосы. – Никого нет. Мы одни. И нам все начинать сначала.
– …Ага, вот они где! – этот голос, скрипучий, едкий, как дым, только что приснившийся, переместил их из одного времени в другое. Века и миллионы верст остались за пределами сна. К берегу причаливал дощаник, из которого первым выпрыгнул Красноперов. – Берите их, пока тепленькие, – велел он казакам из своей команды. Тут же, на дощанике, плыли Спиря и Тишкины дети. Сам Тишка, пьяный, спал в лодке, привязанной к корме дощаника.
Услыхав торжествующий вопль таможенника, поднял взлохмаченную голову.
– Ты сё, – закричал он Пикану, – лотку не всял? Купил, а не всял.
– Не понадобится ему твоя лодка, – зловеще ухмыляясь, сказал Красноперов. – Ему теперь за воровство да за лютость цепи понадобятся. Заприте в трюм его!
– Я владыкой сюда послан, – бормотал Пикан, осоловев после сна.
– Здесь я владыка!
Пикана бросили в трюм. Феша кинулась следом.
– А ты куда? Не слыхала, что ль? Свое себе возвращаю.
– Венчана я. И – тяжелая. Не видишь разве?
– Ничо, развенчаем. Родишь кого – возьму в работники. Эй, вы! Несите фляги сюда! Гулять будем!
И два дюжих казака спустили с дощаника фляги.
Таможенник запасы имел немалые, но, увидав костерок, обед запретил:
– Сперва невод киньте! Тут рыбно.
Феша стояла подле дощаника, вслушиваясь в глухие удары, доносившиеся из трюма: это бился Пикан. Силен он, а что сделает? Связан по рукам и ногам. И народу против него вон сколько. Даже Спиря, которого пригревала, не заступился. Эх, люди, люди! Пока вас кормишь – верны. Стоит отлучиться – забыли.
Рыбаки вынули невод. В мотне билось десятка два крупных рыбин.
– С почином! – Открыв флягу, таможенник налил всем по ковшику.
– Теперь я рыпачить стану, – оттеснив мокрого казака, спохватился Тишка. – Семка, котовь тля меня ковсык.
Вцепившись в водило, плюхнулся в омут и с головой ушел под воду.
– Утонет эть, – поопасился широколицый добродушный казак, стоявший на берегу с другим водилом.
– Туда ему и дорога!
Но закричала Феша, заскулили остяцкие ребятишки. Спиря, игравший с ними, оторвал от дощаника лодку, прыгнул в нее и, подплыв к Тишке, выхватил его из воды. На берегу взял за ноги, тряхнул – из ушей, изо рта и носа потекла вода. Прокашлявшись и прочихавшись, Тишка потребовал:
– Наливай ковсык, Семка!
– О-от утроба! – захохотал таможенник. Однако вина налил. – На, жри!
Лес ли дохнул мрачно, солнце ли рассердилось – с ближайшей осинки сорвался лист и полетел и пал в небо легкою тучкой. Вот и еще лист сорвался, и с мать-и-мачехи снялись две черные бабочки. Лес тень бросил. Тень застлала полнеба. Ветер рванул во всю мочь, прогнал прочь нудевшую мошкару. Дохнуло серою сыростью. Трава, только что свежо блестевшая, потускнела, погасли жарки и примолк бойко лепетавший костер. Огонь лизнул казан, спрятался, как душа Фешина, которой стало неуютно в этом мире. Душа не хотела верить, что все хорошее кончилось. «Справедливый бог русский, скажи, в чем я провинилась?»
Бог молчал. Небо супилось. И в промежутках, когда ветер переводил дух, слышалось бормотанье родничка, кряканье убравшейся в кусты утицы.
«Жрут, как свиньи! – брезгливо отворачивалась от орды Семеновой Феша. – Пыхтят, чавкают. А как аккуратно ест Ваня! В бороде ни крошечки, на скатерть пятнышка не посадит».
Из черноты запоклевывал дождик. Облака стянуло в большие тучи, тучи набухли, прижались к земле. Стало сыро и непроглядно. Красноперов, наевшись, залез в шалаш.
– Подь ко мне, – позвал Фешу. – Давно баб не имел.
– Ладно, – не споря, согласилась Феша. В шалаше, под подушкой, был нож. Подумала: «Воткну в глотку!»
Через лаз увидела золотую нить, свесившуюся до самой земли. Потом гром услышала, а следом за первой молнией воссияла другая, третья. Небо, не успевая остынуть, дымилось, грохотало, клубились и рокотали тучи, низвергая на землю тяжелый ливень. Орда, пьяная, под ливнем плясала. Таможенник из шалаша командовал:
– Эй, Кипря! Пляши шибче!
Тишка вместе со всеми пьяно перебирал ногами. Споткнувшись, рухнул в костер.
По лесу ропот прошел, все в ужасе замерло. И небо само на мгновенье затихло. Погасли молнии, да вдруг как полыхнули кровавым пламенем, и отблеск красный разошелся по Иртышу. На землю обрушился грозный удар, взметнул горы воды, взвившиеся под самые тучи. Удар следовал за ударом. Небо метало в людей молнии. Теперь, мнилось Феше, настал тот самый конец света, который недавно приснился. На кедр, свесившийся с обрыва, упал светящийся шар, скрылся в стволе. Кедр на глазах лопнул, из него выбрызнуло слепящее пламя. Дымящимся суком клюнуло высунувшегося из шалаша Красноперова, вышибло из костра угли. Несколько угольков упали на Тишку, лежавшего неподалеку от костра. Зашаяла малица. Еще одна молния ударила в дощаник, расколола, и перепуганная казачья команда, мгновенно протрезвев, опрометью кинулась в чащу.
– Молитесь, нехристи! – громовым голосом прокричал Пикан, выбираясь из трюма. Путы его распались, свисали с воздетых рук черными змеями. – То знак господень! Моли-итесь!
Гроза пролетела и бушевала теперь где-то вдали, за темным и бескрайним лесом. Здесь, над распадком, над Иртышом и над стоявшим на коленях Спирей, Тишкой и двумя ребятишками уже начинало голубеть небо. Солнце еще не показалось, но верхний край тучи уже прошило ровным золотым швом. Земля вольно, во всю грудь вздохнула. Подняли головы ребятишки, Спиря. Тишка пробормотал:
– Спаси, коспоти, Тиску! Спаси, коспоти, Тиску!
Привели в чувство таможенника. Очнувшись, он сплюнул из разодранного рта кровь, накинулся на Пикана:
– Ты, окаянный, беду накликал! Извести меня хотел?
– Поди прочь, ярыга! – брезгливо пихнул его Пикан. – Сам изведешь себя скоро.
– Взять его! – заорал таможенник. Но брать было некому. Казаки разбежались.
– Видишь? – Пикан потряс руками, с которых свисали веревки. – То божий знак. Ты кто против бога?
Взяв Фешу за руку, отправился в лес.
– Я с вами, так-эдак! – схватив ребятишек Тишкиных, затопал следом Спиря.
– Тетки мои! Эй! – заверещал Тишка, побежал за детьми, но что-то вспомнив, вернулся. Подле шалаша валялась свернутая в стручок фляга. Обнюхав ее, Тишка облизал пересохшие губы, побрел за Пиканами.
– Веревки-то как с его спали! – суеверно крестился казак Киприян, единственный из команды посмевший вернуться. – Стало быть, угоден он богу.
Красноперов с ненавистью взглянул на него, скрипнул зубами.
11
Шхуна была безнадежно изувечена. Митя ходил вокруг и убито вздыхал.
– Не горюй, братко! Как-нибудь выкрутимся, – утешал Барма.
– Плотик срубить можно, – подсказал Матвей, которого выбросило на соседний остров.
«Там люди были, – рассказывал он. – Меня увидели – убежали».
Матвей отыскал лодку, сделанную из нерпичьей кожи, оплыл на ней весь остров, но никого не обнаружил. Издалека заметил потерпевшую крушение «Светлуху». О людях, которых видел, ничего толком сказать не мог:
– В шкурах и говорят не по-нашему.
И как на острове оказался – не помнил. Из воды вылетел как пробка. Перевернувшись, ударился оземь. Очнувшись, увидал над собой волосатого, смуглого человека. Тот что-то испуганно пробормотал и, в ужасе взмахивая руками, кинулся прочь.
С возвращением брата Гусельниковы повеселели. Стаскивая плавник, Степша с ухмылкой допытывался у брата, куда тот девал косатку.
– Какую косатку? – недоуменно хлопал глазами Матвей.
– А на которой плавал…
– Я в бочке плавал… – растерянно разводил руками Матвей.
– А бочку кто толкал?
– Ну кто, ветер, наверно.
– Все бы так – ветер! – захохотал Степша, и все вдруг задумались. Играл зверь, толкая к берегу бочку, или надоумил его кто-то свыше?
– Я насоветовал, – хохотал Барма. Верили и не верили, но взирали на него с суеверным почтением.
– Может, уж хватит плавнику-то, Митрий? – спросил Егор у капитана.
– Хватит так хватит. Примемся за плот, – кивнул Митя. И застучали на острове топоры, а дня через три большой, в два слоя плот был сшит. Но спустить на воду его не успели: к острову прибило истрепанный ураганом дощаник. Первым земли коснулся Михайла Першин.
– Слово и дело! – заблажил он, уставясь на Барму единственным, безумно горящим глазом.
– Ретив! – усмехнулся Барма жалостливо: ведь сколько вытерпел человек, чтобы выкрикнуть это! – Хватил страху, мученик?
Першин безмолвно рухнул и захрапел, видимо истратив последние силы. Оставшиеся в живых матросы были не в лучшем состоянии. В трюме метался и выкрикивал бессмысленные команды Фишер. Его перенесли в землянку, но в сознание он уже не пришел.
– Ну вот, отплавался, – невесело заключил Барма. Давно ли этот баловень хвастался знакомствами с разными европейскими государями! Вот и в России при дворе был принят. Желал многого, а кончил жизнь на безымянном острове. – И ты так же кончишь, Михайла!
Труп Фишера поглотили волны. Команда, помянув его разошлась.
Першин, размазывая пьяные слезы, твердил:
– Мои вы – догнал! Мои-и!
– Твои ли, боговы ли – кто знает, – мрачно возразил Барма и налил поручику ухи. – Давно не едал, мученик?
– С неделю. Матросы забрали еду. Нас с Фишером впроголодь держали.
– Как псов перед охотой, – не выражая сочувствия, кивнул Барма и заключил: – Этот островок вам дарим. Живите тут в мире. Наскучит – вот плот. Куда-нибудь на нем доплывете. А нет, дак рыбам пожива будет. Дощаник наш, не обессудьте.
– Стойте! Стойте! – увидев, что беглецы грузятся на дощаник, закричал Першин. – Я не пущу вас!
– Экой ты настырный! – удивился Барма. – Связать бы его, а? А то ведь пешком за нами кинется.
Поручика связали, поручили матросам.
Суденышко отчалило. На следующий день поднялся шторм, и дощаник прибило к соседнему острову. Жители его, бросив оленей и чумы, ударились прочь.
– Видно, крепко кем-то напуганы, – сказал Митя.
– Матюхой, – подмигнул Степша. – Кем же ишо?
Нанося остров на карту, Митя назвал его Иванковым. Переждав непогоду, снова собрались в путь, но малыш простыл, и пришлось остаться. Потом Гонька хворал. Болел долго, мучительно, до самого ледостава. Выздоровев, записал в журнале:
«Занемог я шибко. Жил, как во сне. Но слава господу, проснулся живым. Вокруг люди родные, Иванко! Славный такой Иванко!»
12
Спиря прозрел. Это иногда случается: юродивый становится пророком, слепой – ясновидцем, косноязычный – златоустом.
Началось это в маленьком острожке Сургутском. Пьяный остяк, прослышав, что пиво варят из ячменя, купил с ведерко зерна и начал разбрасывать по болоту. Вот тут-то Спиря и удивил:
– Гы-гы… Земля-то не пахана!
– Все отно к утру вырастет! – убежденно возразил остяк. – Мне пива нато! Колова полит, в прюхе сухо.
– Ячмень, так-эдак, к осени токо поспеет, – внушал темному Спиря.
– Слыхала? – Пикан толкнул в бок Фешу. – Спиря-то наш каков!
Устроились на отдых под соснами, неподалеку от дома, стоявшего за стенами острога. На завалине дремал старый казак. Отслужил свое, отмаялся. То остроги рубил, то стерег кандальников. Устал и решил поселиться в Сургуте.
«Как мало я спал! Все ходил, да ездил, да воевал. Теперь посплю», – думал старик сквозь дремоту.
Пикан пожалел казачину, будить не стал. Отыскав в ограде соху-староверку, впряг в нее лядащенького меринка, распахал крохотную кулижку. За ним ходили по пятам Тишка и сыновья, огорчались, что урожай придется ждать до осени.
Потом боронили, потом сеяли.
А казак спал.
– Ну вот, – молвил Пикан, хлопнув по плечу Тишку, – теперь жди, когда поспеет. Зерна брошены…
И услыхал крик Фешин. Она ушла подальше, когда начались схватки. И теперь рожала.
13
Перебравшись через залив, наткнулись на самоедского князька Янгурея, прогнавшего на острова слабый, обнищавший род. Этих-то людей и спугнул Матвей на Иванковом острове. Янгурей запродал шесть упряжек оленей. Но поутру запуржило, и олени то ли залегли, то ли разбежались.
– Помоги разыскать, Янгурей, – упрашивал Митя князя.
– Олени ваши, вы и собирайте, – переваливаясь на другой бок, проворчал тот. Хорошо ему было в теплом чуме: слева жена, справа жена и еще жена, старшая, почесывает грязные пятки. Сопя и жмуря трахомные глаза, князек прикидывал: «Не найти им оленей. А я найду и другим продам».
Холода начались сильные. Даша простыла. Покашливал Иванко. А самоедам хоть бы что. Где упадут, там и спят. Никакая простуда их не берет.
– Дак ты уж выручи, Янгурей, – уговаривал Митя, чистивший пистолет.
Князек, блаженно потягиваясь, щурился, подставляя старухе то одну, то другую пятку. Наконец отозвался:
– Не корюй, Митька! Я тепе труких оленей протам.
– Пога-анец! – Митя замахнулся на князька пистолетом. Тот отпрянул, кинувшись в угол, спрятался за своих жен. Он уже знал, что игрушка в руках моряка изрыгает огонь и смерть. – Жульничаешь?!
– Не горячись, братко, – успокоил Барма. – Мы миром столкуемся.
– Аха, столкуемся, – часто закивал Янгурей, тут же назначив другую, как он считал, вполне приемлемую цену. – Старуха помрет скоро. Шена нушна. Оттайте тевку, – он указал пяткой на Дашу. – Вы мне тевку, я вам оленей.
– Что он городит, Тима? – возмутилась Даша, брезгливо отступив от князька.
Бондарь, грея трясущегося от озноба Гоньку, грустно размышлял: «Нет, видно, не найти нам земли обетованной! Дикарь ведь, а жулик. Где научился?»
Князек, изрядно напуганный Митей, моргнул старухе. Та вышла. В чум ворвались его люди. Людей у Янгурея много, недавно побил с ними соседей, захватил женщин и несчетно оленей.
Однако и воины не помогли. Бондарь схватил князька за ноги и, размахивая им, как палицей, стал сбивать нападавших охотников.
– Пусти! Пусти! Пошутил я! – молил князек. Но Пиканы и братья Гусельниковы вышибали охотников.
– Пошутил, значит? – усмехнулся Бондарь, ставя князька на ноги. – Я тоже шутить люблю.
Ручищи его как бы нечаянно стиснули Янгуреево горло.
С улицы кто-то просунул лук; над тетивою высветился глаз прищуренный. Отбив лук, Барма врезал по глазу и посоветовал князьку: – Скажи им, чтобы ушли. А то рассердимся.
– Сяс, сяс, – залепетал князек, готовый принять любые условия.
– Не в тундру, нет, – уточнил Барма, выведя Янгурея на улицу. – Вон в тот чум. И пусть луки мне отдадут!
Разоружив и связав охотников, Барма загнал их в чум, поставив на часах Матвея и Степшу.
– А ты одевайся, – сказал он князьку. – Поедем за оленями.
– А вдруг там люди у него? – встревожилась Даша.
– Нету, нету! – замахал руками Янгурей.
– Ежели врешь, – сурово предупредил Митя, – всех баб твоих и всех ребятишек свезем на остров. Там знают, как распорядиться.
– Не оттавайте! – взмолился князек. – Все стелаю!
Знал, что соседи, обиженные им, обойдутся с его людьми круто. И от Бармы уйти непросто. Не случайно ножичком поигрывает.
– Что ж, поехали, – Барма уселся на нарту, кивнув Даше. – Я скоро.
Первое стадо увидели в глубоком распадке. Уставясь на людей, олени перестали рыть снег, зафыркали.
– Тепя поятся, чушой, – делая круг, сказал князек.
– Тебя не боятся, а? – усмехнулся Барма.
– Меня – нет, я хозяин.
– Олени-то мечены?
– Как ше, как ше, – закивал князек. – Два уколка на левом ухе.
– Может, не твои? Давай посмотрим.
– Мои, мои, – уверял Янгурей. Сам засвистал, загикал, спугнув табун. «Не мои, – подумал. – Мои крупней». Какие метки у захваченных оленей, он не знал.
– Ты не блажи, понятно? Подъезжай тихо, – приказал Барма и отнял у ненца тынзян. Едва приблизились к табуну, метнул тынзян, опутав рога палевой важенки. Оленуха мотнула изящной сухой головкой, но от сильного рывка упала на передние ноги. – Тпруша, тпрушенька, – тихонько перебирая аркан, приговаривал Барма, правя к напуганному животному. – Не бойся, матушка! Худого не сделаю.
Важенка, только что дичившаяся чужого человека, успокоилась, встала на ноги. Но заяц, скакавший за нартой, спугнул ее снова. – Экой ты страшный, Зая! – усмехнулся Барма натянув аркан. – Она сроду такого зверя не видывала.
Метки, как он и предполагал, оказались не Янгуреевы.
– Поехали дальше! – велел Барма и сам толкнул вожака хореем.
Вскоре встретили другой табун. Завернув его, погнали к стойбищу. Янгурей, примирившись с неизбежной потерей, уснул. Барма бодрствовал, на коленях у него сидел заяц.
Ночь плыла полярная, звездная. Звезды падали и крошились. Казалось, разваливается на куски вселенная. Но вселенная жила себе и жила.
В Янгуреевом чуме смеялись женщины. Им вторили голоса Степши и Матвея. Князек спал.
– Вот черти! Успели уже, – проворчал Барма, сзывая братьев. Смущенно посмеиваясь, они выползли из чума. – Допусти кота к сметане!..
14
В сугробе замерзал крохотный пыжик. Вселенная осыпа́лась в его глаза. Глаза не гасли от этого, влажно источали золотистую боль. Боль поднималась от стылого брюшка, от ног, плыла по всему шерстистому тельцу, к вибрирующему от стонов горлышку, к печальным золотым глазам. Олененок, как и все дети на свете, звал среди пронзительной тишины: «Ма-ма-а-а…» Холодно блистали сапфировые снега, выл вдали обожравшийся олениной полярный волк. То ли от тоски выл, то ли с кровавого похмелья. Промчался белый песец, тявкнул, но не остановился.
Олененок умирал в одиночестве, хотя снега вокруг пели, задевая друг друга: это где-то далеко ехал аргиш, и писк его полозьев передавался по всей тундре. Разваливалось со звоном небо, все еще тянул унылую песню волк.
Огромная белая пустыня жила своей скрытной, только посвященному понятной жизнью. Олененок, с молоком матери усвоивший уроки тундры, слышал эту жизнь и думал о том, как холодно и одиноко посреди огромной вселенной. Он не помышлял о смерти, хотя смерть бродила рядом. Может, она проскакала белым песцом, а может, выла пресытившимся волком? Она только что была здесь, только что гналась за матерью-оленихой. Олениха, зарыв в снег, в заветерь, маленькую, отделившуюся от нее частицу, почуяла волка и отбежала в сторону…
Пыжик больше не видел ее, но звал, верил, что мать вернется, как возвращаются к своим детям все матери, где б они ни были: в неволе, в чужом краю, в упряжи, которую надел на них хозяин.
Его мать не вернется. Недаром же, крови ее напившись, сыто и утоленно заурчал тундровый волк, потом подозвал к себе волчицу и запел для нее протяжно и жутко. Все было у него: власть, воля, подруга, а пел он уныло. И пыжик вздрагивал от его похмельной песни.
Но вдали звенел аргиш. Впереди, согреваясь, бежал на лыжах Барма. Рядом с ним прыгал его неутомимый дружок Зая. Он вместе с Бармою прошел от Сулеи долгий и трудный путь. Шел водою, шел землею. Сейчас вот бок о бок прыгал по тундре в холодной ночи.
Но что это? Заяц выдался немного вперед, фыркнул и остановился, поджидая Барму. Подле него лежало непонятное большеглазое и тоже ушастое существо, чем-то напоминающее оленей, запряженных в нарты.
– Что, Зая? Пристал? – окликнул косого Барма, но, разглядев белый сугробчик, согревшийся от дыхания пыжика, тихонько присвистнул: – О, да тут опять прибыль? Ну вот и дружок вам с Иванком! Иванушко, сынок! Дружка я тебе нашел!
– Спит он, тише! – цыкнула Даша, подбирая под себя малицу, поверх которой была накинута волчья доха. Малицу на груди разрезала. Из разреза выглядывало детское личико. Один глаз был открыт и хитро, совсем по-отцовски, поблескивал из-под век, другой щурился.
– Спит?! Как бы не так. Мух видит! Сынок, я подарок тебе принес! – тормошил Барма Иванка. – Целуйтесь!
– Сдурел! – рассердилась Даша, оттолкнув мужа и олененка. – Со зверем-то?
– Зверь он чистый, Даня. Он никакой заразой не тронутый. Несмышленыш совсем. Сиротой остался. Жалей сирот, Иванко! Всякую тварь живую жалей, пока она мала. Подрастет – кто знает, какой станет. Но олень всегда другом будет! Не зря самоеды цветком тундровым его зовут. Он и есть цветок, Иванушко! Ишь глазищи-то звездные какие! Как у матушки нашей – сияют! Ты люби ее, матушку-то! Вон она какая у нас! Богородица! А ишо жизнь люби, сынок! Ни в какой беде носа не вешай! Ни перед кем головы не клони. Разве что перед отечеством, сын. Да еще перед матерью.
– Захвалил ты меня, – выпростав руку из рукавички, Даша нежно зажала мужу рот. – Хоть бы сына постыдился.
– Кого ж кроме хвалить? Ну-ка скажи, Иванко: кто лучше мамки?
Малыш заморгал. То ли луч только что заигравшего сполоха в глаза ударил, то ли подействовало отцовское внушение? Так или иначе – жизнь начиналась у него мощно: сначала посреди грозного океана, потом – в тундре, где тоже есть где разгуляться глазу.
Но и в бескрайности этой у сына Бармы нашлись друзья: и Зая, и пыжик, и Гонька, и Бондарь, и одиннадцать братьев Гусельниковых. А еще Митя и пятеро лесных людей.
Увидав проснувшегося племянника, Митя подошел и ласково пощекотал пальцем крохотный подбородок. Затем приказал располагаться на отдых.
– Тимоха-то, – гудел Бондарь, – опять живностью обзавелся!
Человек непромысловый, деревенский, он тосковал в этом чужом и неприветном краю. Топору применения не было, а винишко все вышло.
Бондарь вздыхал и уходил к Гоньке, к которому привязался. Сейчас мальчик спал.
– Ой! – изумился, проснувшись. – Чей это? – спросил он про олененка.
– Иванков, – ответил Барма, но тут же поправился. – И твой тоже. Гляди не обижай!
– Что ты, Тима! Он мне как брат будет! Ну вроде Иванка.
– Разгружайтесь, – скомандовал Митя. – Пока сполохи – поспим. Оленей покормим.
Повторять не пришлось. Все дружно принялись за дело Кто чумы ставил, кто разгружал вандей. Егор и Даша готовили поздний ужин.
«Люди-то у меня какие! – восхищенно думал Митя. – С такими на край света не страшно».
Забыл лейтенант, что перед ним как раз край света и есть. И ночь, и тундра, и неведомая земля.
Гонька в своем дневнике записал про этот день:
«Теперь нам легче. Идем вперед. И народу прибавилось. Кроме Иванка, пыжика завели, Федьку. Я того пыжика кормлю через соску»
15
Куда бы ни шли люди, идут они навстречу друг другу. Пока идут, мно-ого чего натерпятся! Но идти-то все равно нужно. В том и жизнь состоит: идти. Незамысловат вроде клубочек – жизнь, а попробуй его размотай! У одного на первых витках нить рвется, другой с оглядочкой век мотает. А глянешь на клубок – из него не убыло.








