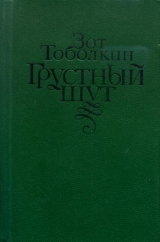
Текст книги "Грустный шут"
Автор книги: Зот Тоболкин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 21 страниц)
Здесь слышалась иноземная речь, но пахло русскими щами и русским же пивом. Двое – ганзеец и англичанин, – поставив локти на стол, старались пережать один другого. Четверо веселых фламандцев бросали кости. У них на коленях сидели гулящие девки. В углу скучал Фишер, очевидно кого-то поджидая.
– Опять тут этот, – шепнул Митя, указав на него Пинелли. – Ему показываться нельзя.
– До поры не показывайтесь, – кивнул Пинелли. – А когда я выиграю – возьмете мой выигрыш. Один я, пожалуй, не унесу.
Оставив Митю и ямщика, заказавших себе пельменей и водки, итальянец ушел.
– Сеньор, – поклонился он церемонно Фишеру, – вы не узнали меня?
– Ты, кажется, служил на моем судне, – притворился непомнящим Фишер.
– Я служу лишь искусству, – обиделся Пинелли, но он собрался играть, и тут уж было не до обид. – Сыграть не желаете?
– У тебя есть что поставить?
– Вот медальон… Начнем с него.
– Что ж, мечи. – Прикрыв тяжелые веки, из-под которых лукаво блеснули глаза, Фишер поманил к себе полового. – Вина!
Началась игра. И вскоре медальон итальянца, а затем камзол, штаны и рубаха Пинелли перешли к Фишеру.
– Закладывайте себя, сударь, – откровенно потешаясь над скульптором, хохотал Фишер. – Цена вам, конечно, не велика. Но я буду снисходителен.
– Себя я не продаю, – угрюмо огрызнулся Пинелли, прикрывая ладонями голую грудь.
– Иди на выручку! – подтолкнул ямщика Митя. – Леня-то наш в пух и прах продулся.
– Да я сроду не игрывал!
– Кафтан свой отдашь, шапку… Играть он будет.
Но и кафтан, и Киршина шапка, а затем и сапоги тотчас перешли к Фишеру, игравшему мечеными картами.
– Зовите третьего, – предложил он. – Что ж он прячется? Ему есть что проигрывать.
– Заметил он тебя, – сказал Кирша прятавшемуся за матросами Мите. – Айда.
– Доигрались, – вздохнул лейтенант, но терять было нечего и осталось довериться собственной судьбе. – Э, пропади она!..
– Сам играть буду, – сказал Фишеру, – на чертежи мои…
– Я посвечу вам, – Пинелли услужливо приподнял подсвечник, выхватил из мрака зловеще улыбавшееся лицо Фишера и, напряженное, с капельками пота на лбу, – Митино.
– Не подать ли винца, залетные? – спросил волосатый, глыбистый целовальник, которого все, кто бывал здесь, звали Порфишей.
Высок, плечист Митя, но против этой замшелой глыбы – дитя. Потому и кабак Тихим зовется, что при Порфише драк не затевают. Суд его скор и окончателен. Сшибет дерущихся лбами, обшарив, вышвырнет. Изредка на помощь целовальнику приходят дюжие его сыновья.
– Подай, любезный, – кивнул Фишер, похрустывая пальцами в перстнях. – Да получше… За мой счет, разумеется.
Митя достал из-за голенища привязанную к ноге карту, бросил на стол.
– Сдавайте, – потягивая вино, предложил Фишер, скрывая великое нетерпение. Вот сейчас карта, за которой так долго гонялся и которая стоит целое состояние, перейдет к нему. Как легко и бездумно эти русские проигрывают то, на что убили многие годы! Спокойно, спокойно! – приказал он себе.
– Это последний наш шанс. Спешить не следует, – пробормотал Пинелли и, размахнувшись подсвечником, хватил Фишера по голове.
– Ты что, Леня! – изумился Митя, не ожидавший от итальянца такой выходки.
– Это называется реванш, – подняв руку, сказал Пинелли, считая, что вернул свой проигрыш.
Однако Порфиша с сынками был уже начеку. Они резво подскочили к незадачливым игрокам, вытолкали их на улицу. Сами взялись за добычу.
– Одне хахаряжки! – возмущенно пробасил младший Порфишин отпрыск, оглядев стол.
– Не там глядишь, тюря! – старший изъял у Фишера кисет с деньгами, золотую табакерку, снял с пальца драгоценный перстень.
– Ты, сынок, у меня добытчик, – похвалил его Порфиша. Зыркнув красными от постоянного недосыпания глазами, опустил добытое в карман. – Тряпки выбрось, – велел младшему. Другому приказал убрать Фишера. – Подале его отнеси, чтоб охулки на нас не было. Мы люди простые, честные…
Брезгливо, двумя пальцами, взял бесценную Митину карту, кинул в горящий очаг.
Троица, которой изменило счастье в картах, гнулась, приплясывала под ветром. Мимо них прошла гулящая баба, волоча за собой упиравшуюся девку. Если б Митя пригляделся, он бы узнал в последней Верку, которую тетка выгнала на промысел. Но Митя, стыдясь, прятался от прохожих. Гулящие тянулись к теплу, к свету.
В кабаке все шло своим чередом. Фламандцы, кончив игру, пили пиво и весело пели. Ганзеец и англичанин по-прежнему напрягали мышцы, стараясь одолеть один другого. Однако, увидав Верку с теткою, не сговариваясь, борьбу прекратили и поманили гулящих к себе.
Гремели кости, кружки и братины, гудели шмелино низкие голоса. Пылал очаг, в котором догорала Митина карта.
В темноте, в грязной луже, валялся Фишер.
24
Солома шуршала, покалывала щеку. В углу кто-то возился, пищал, должно быть, крысы. Бросить бы чем-нибудь в них, но нет сил шевельнуться. Даже думать ни о чем не хочется. Одна из крыс взверещала, перепугав зайку. Тот вскочил Барме на грудь, пробежал по лицу. Зайка?.. Не-ет, у него мягкие, осторожные лапки. Ах, твари! Неужто зайку сглодали?..
Барма собрал источенные болезнью силы, приподнялся. В глазах мельтешило. Когда боль в голове чуть-чуть унялась, взгляд стал ясней, осмысленней. Две огромные крысы драли зайкину шкуру. Кости его, обглоданные дочиста, валялись тут же. «А где ж глаза? – спохватился Барма. Ужасней всего было вообразить, что эти мерзкие существа раздавили своими зубами милые зайкины глаза, так умно, так преданно смотревшие на Барму. – Где глаза твои, Зая?»
Барма поднялся на четвереньки, пополз к крысам. Те юркнули под пол, а на стене зажегся огромный заячий глаз, осветил мрачную, с охапкой соломы на полу темницу. Нет, не глаз – это солнце смиловалось и проникло в духовое отверстие, осияв лучом черный город Пинелли, в котором не было ни единого жителя, если не считать крыс и Бармы. Но крысам и под полом хорошо. Барме – здесь, на соломе. «Хорошо, хорошо… живу!» – обессиленно падая, шептал Барма, а луч солнечный шарился в бороде его, щекотал ноздри, сушил ползущую по щеке серебристую каплю. Как удивилась бы мать, увидав, что Барма плачет. Плачет по зайцу, который был предан, по Дуняше и Мите, о которых ничего не известно, по родителям, а еще – по России. «Это что же, а? Это что же, люди? Я плачу? Вот потеха!..»
Барма рассмеялся слабым, скрипучим смехом, и крысы, было выглянувшие из норы, вновь скрылись. Странное, ранее незнакомое ощущение тепла и влаги в глазах передалось сердцу. Сердце дрогнуло вдруг, часто забилось. Стало легко и сладко от слез, словно слезы вымыли давнюю накипь горечи, злобы, годами откладывавшейся в душе.
«Чаще реветь, может, легче станет? – усмехнулся Барма, проверяя свои ощущения. – Не потому ли дети малые часто ревут? И Россия от слез не просыхает. Если так – омоем ее слезами. От смеха она отвыкла. От тишины и правды отвыкла. Где смех был, там смерть и горе. Кто правды искал, тот встретился с нею на костре, на дыбе. Вон ворот скрипит… кому-то кости ломают. Скоро и мой черед настанет. Страшно ль? Не-ет, испытал в Светлухе. Только потерпеть чуть дольше, и все кончится. Слетят вечный покой, тишина и свобода ото всего. Как ни печальна смерть, а тот, кто помер, ни о себе, ни о ближних не помышляет. Баюкает его мать-земля, прорастает он травами, деревьями и цветами».
Теша людей, Барма дарил им обманные и живые цветы, а вот сам цветком не был. Может, будет еще? Может, васильком прорастет или ромашкой лет через сто? Взойдет над ним клюквенное, росою омытое солнце, зашумят на пригорке березы, взропщет река, неспешно перекатывая волны. О приходе дня прокричит ликующе голосистый оранжевый петух. А он будет лежать да полеживать на крутом обрывистом берегу, всматриваясь в прохожих, пока еще не родившихся, будет сочувствовать их страхам, удивляться их беспечности и равнодушию, сочувствовать их страхам, заботам, удивляться их беспечности и равнодушию… «Эй вы! – напомнит он им. – Барму-то забыли? Был такой при царе Петре. За ум, за шутки плахой пожалован… Это ли не смешно? Матери, родившей меня, не спросясь, растянули на плахе. В душу не заглянув, изломали кости… Душа-то Россией была полна. За то и к плахе приговорили. Ну да милостью царской кого теперь удивишь! Без плахи и топора Русь расхворается, поумнеет, роптать начнет. А это уже крамола. Крамолу ж, как и всякую болезнь, надо вовремя отсекать. И – отсекают: для того имеются в государстве российском искусные врачеватели…»
Ах, Заи-то жалко! Побеседовать бы с косым, унестись мечтою в давнишнюю Русь или в незнаемое будущее, выбравшись из темницы вот по этому солнечному лучику. Он не порвется – луч вечен. И Барма, как паук, взберется по золотой паутинке в царство небесное иль в год грядущий, благополучный, оставив сторожей с носом: «Опять колдовство! – закричат. – Темница на замке – узник пропал…» Пускай ищут, пускай гадают, шевеля тугими, неповоротливыми мозгами. Барма снова над ними посмеется, ускользнув от палача и от плахи.
Или вскочить на крепостную башню, захлопать крыльями и кочетом провозвестить начало веселого, человечного дня?..
Опоздал Тимка: взошло солнышко – впервые проспал зарю утреннюю, хвороба сморила. «Может, и смерть просплю? – обманывая себя надеждой, думал Барма, жмурясь и ловя неплотно сомкнутыми веками легкий лучик. Вокруг него пыль клубилась. Наверно, крысы подняли, убегая. – Обнаглели, опять над Зайкиными костями дерутся. Прогнать их, что ли?.. А, пускай!.. Чем они хуже людей, которые не могут поделить между собой почести и богатства? Крысам много ли надо? Костями довольствуются. Изгрызут Заины кости – за мои примутся. Все начинают с малого…
Не успеть вам, однако, – посочувствовал Барма крысам. – Кат раньше за меня примется. Вот бедняга! Человек же, а сколь мук терпит, ломая людей. Несчастней палача разве что царь, у которого все есть, кроме права желать чего-либо. А без желаний куда стремиться? Зачем жить без желаний?»
Барма, сколь помнит себя, всегда желал многого. Сейчас, от жизни устав, желал себе легкой смерти. Ишь чего захотел! Эта участь не про таких…
«Смерть многолика. Никто не знает, где и когда сведет счеты с жизнью. Кто в душном узилище, кто на поле брани, кто на пиру обожравшись, а кто, как пес, у собственной подворотни… Зайку вот крысы прикончили. Оживить бы его, проститься, пока не вспомнили обо мне? Помнят, поди?..»
Вспомнили. В темницу явился Борис Петрович. Вот уж кого Барма не ожидал.
– Жив-здоров? – спросил приветливо, словно пришел в гости. А ведь самого светлейший ищет. Увидав крыс, зябко поежился.
– Жив покуда, – усмехнулся Барма, кинув в крыс камешком. Те, однако, не убежали, высовывались из норы, таращась злыми красными глазками. – Не уходят. На тебя любуются, зятек. Не родня ли?
– Со старшими кто так разговаривает? – кротко упрекнул князь. Оглянувшись, зашептал: – От Дуни поклон. Тревожится шибко…
Как непросто было пройти сюда, Борис Петрович умолчал. Немало погремел золотишком. Явился со слугою, светловолосым и зеленоглазым, оставив его за дверью.
Барма зятю своему не слишком верил: ненадежный, скользкий, сломавший и рассыпавший по белу свету семью Пиканов, он – родня благодаря Дуне, но не друг – нет, другом Барме князь никогда не станет.
– Зашел ко мне ради привета? Аль соскучился? – спросил князя насмешливо. В мозгу шевельнулось: «Вот усыплю щас… сам же платье его надену, и – здравствуй, воля!»
Скрывая брезгливость, Борис Петрович отпнул от себя солому, присел подле Бармы на корточки и тотчас зачесался.
– Что, покусывают? – шелестящим, точно с того света, голосом поинтересовался Барма. – А я вот привык… укусов не чую. Ровно мертвец.
– Молчи! Кого турусишь? – замахал князь руками и натянул парик на брови: «Смотри ты, кроткий какой! Может, и впрямь к смерти изготовился?»
– Ослаб, выболел… – жаловался непривычно Барма. Желание усыпить князя крепло: пускай посидит здесь, пускай прочувствует, каково быть узником! – Умереть бы на воле!
– Сперва поживи на воле. Умереть всегда успеешь, – Борис Петрович вынул из мешка, принесенного с собой, одежду, отрывисто шепнул: – Оболокайся!
Барма во что угодно мог поверить, только не в добрые намерения зятя. Может, пришел проводить на плаху? Что ж, и для плахи принарядиться не помешает.
– Поторапливайся, Тима! Срок у нас малый. На волю выйдешь – не объявляйся. Ищут тебя. Мы с Дуней тоже уедем.
– Как выведешь меня отсюда?
– Сам выйдешь. Иди смело, не таясь. Скажешься слугою моим, Афонькой. Часом позже я выйду.
– А ведь я тебя усыпить хотел, – смущенно признался Барма.
– Думаешь, я не понял? Беги!
– Ну, жив буду – добром сочтемся. – Барма стиснул плечо князя, торопливо выбежал.
Минутой позже пришел сторож. Лицо его было в кровь разбито. Хотел задержать Барму, заподозрив неладное, но тот сбил коротким ударом, выскочил за ворота. Заглянув в глазок, тюремный страж изумленно ахнул.
– Тебя как зовут? – спросил дворового.
– Афонькой, – ответил слуга.
– Ступай к своему господину, – сказал сторож и, затолкнув Афоньку внутрь, надвинул засов.
Такой развязки Борис Петрович не ожидал. Час назад велел Фишеру готовить судно, чтобы уплыть на нем с княгиней. И вот – приплыл…
Скрипнули ворота, послышался гулкий топ. В тишину, в мертвечину промозглого узилища ворвался кто-то оттуда, из жизни. Юшков признал в них светлейшего и Першина.
– Князь, батюшка! – возопил Афонька, сообразивший, что им подменили узника. – Меня-то за что?
– За грехи наши, Афоня, – горько, покорившись прихотливой судьбе, улыбнулся Борис Петрович.
Его ударили по лицу. Потом долго и старательно избивали. Когда очнулся – Афоньку уж вышвырнули, может, в пыточную уволокли. Бедный, бедный, ни в чем не повинный раб! Борис Петрович малому сочувствовал, а в душу его заползал страх, бился там, как соболь в ловушке.
Рядом грозно дышал Меншиков. За его спиной расправлял рукава одноглазый поручик. Борис Петрович признал в нем бывшего крепостного, когда-то подаренного светлейшему.
25
– Нну, рассказывай. – Светлейший отставил ногу, покосившись на Першина. Тот смахнул с окровавленного ботфорта приставшие соринки, услужливо подставил табурет. Отпыхиваясь и морщась, Меншиков, не глядя, плюхнулся на него, легонько погладил левую половину груди. Здоровье «погуливать» стало. Раньше мог беспрерывно кутить неделями, даже месяцами, а день начинал свеж, как огурчик. Ковш рассолу в себя да чего-нибудь горячего ложку, и – хоть сейчас начинай сначала. Прошли, прошли времена лихие! Прежний Алексашка, пожалуй, и не узнал бы теперешнего важного Александра Даниловича. Иных метресс помоложе уж мимо рук пропускает. А раньше бывало… Э-эх! Сердиться и завидовать начал юным обольстителям. Старость – не радость. Изъездился конь.
Ступив на зыбкую почву дворцовых интриг, покоя не знал, всяк час сражался, чтоб выжить. И – выжил. Сейчас бы сбросить годов десяток. Все под рукой: власть, опыт, сила. Ума у бога не занимать. Только бы девок да сына пристроить. После Катерины-то внук Петров на трон сядет. Дочь младшая может стать царицей. Две крови, соединившись, породят новую династию. Романовы одряхлели. Надо в них свежую кровь влить…
Светлейший привычно оглянулся: не подслушал ли кто тайные мысли? Впрочем, испуг его проявился лишь внутри. Лицо, привыкшее скрывать истинное состояние души, было по-прежнему брюзгливо и властно.
«Зачем, бишь, пришел-то сюда? Ах да… Вот человек лежит подлый. Подлый? Да есть ли иные-то? Ни брату, ни свату не верю. Все лгут. Полезный скорее. Был полезным. И вдруг начал юлить, государю нашептывать. На меня, на самого Меншикова? Хэ-хэ…»
– Ну, душа моя, сказывай, какую игру опять затеял? – ласково уставился на Юшкова, тот поежился, вжал голову в плечи. – Кому в уши дуть собрался?
– Смилуйся, Александр Данилыч. – Князь пал на колени, протянув к светлейшему руки.
Светлейший кивнул. Сам точно так же перед царем каялся, но не часто. Раб приниженный жалок, раб умный, веселый – желанен всем и всегда. Александр Данилович всяк час держал на кончике языка запасную шутку. Поплакав, покаявшись, начинал балагурить, льстить, умасливать. Шутил умно, льстил тонко. И потому был угоден. А этот… тьфу!
– Где Фишер? Шут где? – обрывая мысли свои, рявкнул светлейший. Кулак ядром пушечным врезался в юшковскую переносицу.
– Фишер? Шут? – не скоро очнувшись, затряс головой Борис Петрович. От удара, что ли, впал в беспамятство, тупо повторил: – Фишер, шут…
Почему светлейший пинает в ребра? Почему Першин брызжет в лицо водой? Какой Фишер? Какой шут?
Сплевывая воду, кровь и два выбитых зуба, Борис Петрович с ненавистью смотрел подбитым глазом на Меншикова. Другой глаз закрылся.
– Упорствуешь? – кричал разгневанный Александр Данилович, поражаясь странному поведению князя: не боится и как будто даже не слышит. «Может, в нем сила какая проснулась? Откуда ей взяться, силе, в этом ничтожном князьке? Сила во мне. Я теперь всех выше. И могу подняться еще».
От высоты ли, которую увидел, от утомления ли закружилась голова. Юшков, с которым давно хотел свести счеты, был сокрушен и повержен. Ему не подняться теперь из праха. Все, кому он досадил – государыня, Монс, сам светлейший, – отмщены. Осталось сквитаться с дерзким шутом, поносившим сильных мира сего, самого Александра Даниловича. С Фишером… Но Фишер – забота царицы. Пусть ищет его, пусть мстит за Монса. У светлейшего хватает своих врагов.
– Ну, упорствуй, – Александр Данилович, устало махнув рукой, перешагнул через лежавшего на боку князя, у дверей пьяно покачнулся, с усилием растворив совиные веки, приговорил: – Сам выбрал себе место. Сиди. Воли тебе не видеть! – и погрозил пальцем.
Хлопнули тяжелые двери, загремели болты, запоры. Пахнуло подземною тишиной. Смертною тишиной. Даже крысы примолкли под полом. В духовое отверстие опять заглянуло солнце.
«Воли, воли, – повторил князь. – А что мне в той воле? Мне здесь покойно».
До полусмерти избитый, он ничего более не желал. Ни о чем не жалел. Забыл даже о той желтой пилюле, которую постоянно носил в кресте. Пришло то редкое состояние духа, когда все вдруг сделалось безразлично. И в то же время он стал сильнее, словно переродился. Ни слава, ни власть, ни деньги не давали ему такой силы и, пожалуй, несокрушимости. Трудно, подчас невозможно сокрушить того, у кого все потеряно. «Так вот почему, – думал князь, – я не мог сломать Пикана-отца. Благодарю тебя, господи! Трижды благодарю за ниспосланное мне испытание!» Вспомнив о ближних – о жене, о дочери, – князь усмехнулся: так далеки они были. Как прошлое, к которому не будет возврата, как мир за этой страшной стеной. Вдруг захотелось напомнить людям, даже не подозревавшим, что он здесь, одну простую истину: «Эй, не забывайте, что вы – лю-уди!»
– Челове-еек! – увидав чей-то испуганный глаз в дверном отверстии, позвал князь. Глаз моргнул и исчез. – Челове-ек… с наслаждением смакуя только что постигнутое и потому казавшееся прекрасным слово, повторил Борис Петрович и счастливо рассмеялся. Ему необыкновенно, редкостно повезло: дожил до того дня, в котором наконец осознал себя. Это ли не высочайшее счастье?
26
Он был одинок и счастлив. Крысы, опять поднявшие возню, уже не мешали. Князь их попросту не замечал. Не замечал и города, нарисованного итальянцем. Он жил в нем. Какие-то странные, совсем нестрашные бестелесные существа бродили вокруг него и ничем не грозили. Никто ничего не требовал. Никто никому не завидовал. Это был иной мир, возможно потусторонний. Здесь солнце даже не показывалось. Светила дыра, заменявшая солнце: через нее проникал луч солнечный, но князю казалось, что солнца вообще в природе нет, а светит сама духовая дыра, то есть ничто.
Он и сам себя сознавал никем и радовался необыкновенной возможности побыть никем, пожить спокойно, бестрепетно, без чаяний и надежд. Когда еще человек может обрести на земле такую великую возможность?
Князю повезло. Он не-за-ви-сим! Нет ни прошлого, ни будущего. Да и настоящего тоже нет. Вот человек идет – князь подозвал к себе какую-то смутную тень в балахоне. Та подошла. Ткнул пальцем – палец прошел сквозь балахон, не обнаружив под ним человеческой плоти.
– Нету, нету, – радостным смехом залился князь и, кому-то погрозив, повторил убежденно: – Ничего нет.
А ведь было что-то! Он забыл, что всего лишь утром долго и трудно спорил с женою, неожиданно показавшей пикановский характер. Казалась кроткою горлинкой, нежно ворковала, неслышно ступала. И только ясные глаза молодой княгини светились грустью. Но голубая грусть эта делала глаза ее еще прекрасней. Тихая, печальная птица, а в светлицу свою вечор не впустила.
– Ну ладно, – князь, обычно крутой и властный, настаивать не посмел. Потоптался подле дверей, спросил о здоровье. Услышав в ответ, что здорова, вздохнул. – Коли так, спи, люба моя. Утре увидимся.
Закрывшись в опочивальне, тревожился и счастливо млел: «Может, понесла?»
Но и утром княгиня не впустила его: значит, сердита.
Не задумывался раньше: зло творил, приучался к злу, как к застольной молитве. Убить человека или вознести – не все ли равно, лишь бы воздать по заслугам. Убить недруга, вознести друга – так жили все. И князь мало чем отличался от людей своего жестокого века. Он был изворотлив, коварен, вероломен и труслив. Он знал лишь одно правило: никого не щадить! Люди должны тебя почитать и бояться. Держать в страхе слабого, угождать сильному, пока тот в силе, а как пошатнется – толкнуть и затоптать его тут же.
Как это чудно́, когда под твоими ногами хрустят чьи-то кости! Топчи их, ломай! Россия не оскудеет. Он не испытывал звериного злорадства, когда слышал вопль поверженного, но знал – не разумом, всем существом: иначе быть не должно. Шагаешь по лесу – то муравья раздавишь, то червяка или ящерицу. А там, глядишь, горностай изловил белку, заяц попался в лапы волку. Но жизнь идет! И князь шел по жизни, брызгая чужой кровью, свычно вслушиваясь в стоны, в крики своих и чужих жертв. Он сознавал себя крошкою хлеба, которую легко смахнет со стола или, прижав пальцем, отправит в рот тот, кто обедает. Что ж удивительного? Сосчитать всех, кого Борис Петрович «смахнул», обрубив чужой, богом данный век, на кого нашептал и просто походя крикнул «слово и дело!», не так-то просто. Да и кому нужны те подсчеты? Мелкое, суетное занятие – считать чьи-то оборванные на взлете жизни, когда своя собственная вечно, каждый день и час под угрозой. Ходи да оглядывайся. Чуть зазевался, сплошал – наступят, растопчут, выбросят. Пока жив – круши, дави, отбрасывай всех со своего пути, а мертвому бог поможет. Надо лишь успеть во грехах покаяться.
Думая о скорбной кончине государя, Борис Петрович тут же одергивал себя: не поминай про это, нельзя! Не то в привычку войдет. Во сне или наяву нелестно отзовешься о тех, кто теперь в силе, и – перемелют тебя.
Творя зло, ставшее нормою бытия, князь стремился все же к добру. То есть хотел быть близ него, чтобы познать и очиститься. А высшим добром его, смыслом небесным стала Дуняша. Послал господь на старости лет несказанное счастие! Не упустить бы его! Сохранить бы! И трясся подле княгини, дышал на нее, берёг. Любое желание, любую прихоть готов был исполнить ценою жизни. Вели Дуня броситься вниз головой с башни – кинется князь, не задумываясь, хоть и бескрыл. Вели сердце из груди вырвать – вырвет и сам же с поклоном поднесет на золотом блюде. Совсем помутился трезвый княжеский разум! Но своему безумию Борис Петрович счастлив. Оно осветило его бытие особым светом, к которому выйдет он из мглы, спустившейся на Россию. Брел, вырывался из житейской затхлой тины, не замечая, что жизнь перевернулась с головы на ноги.
В светлицу Дуняшину входил, прежде сменив одежду и обувь, умывшись. Все здесь дышало добром и незапятнанной чистотой. Хотелось и самому, отрешившись от обыденности, стать таким же, как Дуня, чистым и добрым.
Накануне, чтобы начать с ней разговор, князь долго набирался духу. Дуня вышивала, затем решала задачки, которые задал ей Пинелли. Князь готовился, а перед глазами, как в торговых рядах, возникали порушенные им люди: чужие, свои, Дуняшины родители.
Умен, скрытен Борис Петрович! Женщине ли, неискушенной в извивах его лукавой души, разобраться! Поумнее ее люди, и те князя не поняли! Данилыч вот, плут несусветный, мог бы, а тоже вовремя не разглядел.
Два плута рядом – это слишком много. Хотя весь мир на плутовстве держится.
Чутьем ли женским, догадкою ли, но прознала Авдотья Ивановна, что князь ведает о судьбе Тимы, а может, и сам повинен в его исчезновении. Потому и не пустила, когда он снова поскребся в ее дверь:
– Не заходи, Борис Петрович. Пока Тиму не увижу, и тебя видеть не желаю.
– Дунюшка, свет мой негасимый, я-то при чем? Злые люди его схватили, – Борис Петрович придал голосу глубокой обиды, легонько нажал на дверь – дверь не подалась. Ее, конечно, недолго выломать, но душа Дунина после этого не откроется.
– Не лукавь, князь, если меня любишь.
– Люблю, нега моя, больше матери, больше рая!
– А раз любишь – вызволи Тиму. Чую, в большую беду попал.
– Попал, а я разе в том виновен? Да и неизвестно – может, уж давно на воле гуляет. Молод – ветер у него в голове.
– Не от души молвил, Борис Петрович, – отрезала Дуняша и не впустила. Нрав у молодой княгини родительский: кроткая в мать, в отца несгибаемая. – Силой не ломись.
– Да зачем же я силой-то? Я силу не против тебя, лебедь моя белая, за тебя отдать желаю. Ты душа моя, ты свет! Кто ж свет свой гасить в ночи станет? Темно без него, тоскливо, – запел князь.
Дуня молчала. Против слов его устоять трудно. Не полюбив сама, вдруг узнала, как страстно, как щедро может любить пожилой, нерастраченный мужчина, как нежна и вдохновенна его любовь! Узнала и прониклась к Борису Петровичу покорным благоговением. До поры и лукавства его не замечала. Все упивалась сладкими словами. Слова усыпляли. Будь они и неискренни, все равно слух ласкали. Женщине необходимы такие слова, как воздух, от них все тает внутри, все кипит.
Но где-то в тайничках души молодой княгини жила сверхженская чуткость. Она угадала в князе то, что Борис Петрович от всех скрывал. А ее он не желал посвящать во все свои запутанные, неправедные дела. Двое для счастья – это как раз то, что нужно, и потому князь сразу же отделил от себя дочь. Дарья Борисовна жила своим домом. Но к Дуне захаживали братья, и этих братьев она любила. Борис Петрович терпел их, поскольку рассчитывал использовать. Но выгоды братья не принесли, – стало быть, нечего им толкаться в доме. Да и на земле тоже. «Кончат Тимошку там. Митя прост – от него без труда избавлюсь. Никто между нами больше не встанет. Никто, даже дочь», – рассудил князь, собираясь незаметно исчезнуть вместе с женою из Петербурга.
И вот ошибся.
– Разыщи их, Борис Петрович. Живых, только живых, – потребовала Дуняша, отметая всяческие отговорки князя. – Ежели что станется с братьями, то и мне не жить.
Твердая пикановская воля («Ух, двоеданы проклятые!» – скрежетнул зубами Борис Петрович) и тут оказала себя. Словно и не было месяцев, в кои Борис Петрович почитал себя самым счастливым.
– Найду, княгинюшка, – обещал, скрывая лютое недовольство.
«Придется искать, будь они неладны!» – вздохнул Борис Петрович. Не ко времени это. Меншиков, как пес гончий, на хвосте висит. Царица Монса своего вспомнит. Да ладно, буду ходить с оглядкой. Митьша-то, поди, у дочери скрывается. Надо узнать. Заодно и дочь попроведать. Давно не видались.
– Отыщу их, княгинюшка. Шибко-то не убивайся. – Бесшумно и скоро одевшись, князь выбежал вон, дав по пути оплеуху ни в чем не повинному лакею.
Дочь встретила отца хуже, чем кровного врага встречают. Не успев поздороваться, накинулась тигрицей.
– Спасай Тиму! – визжала. – Не спасешь – удавлюсь!
В глазах дурь и бешенство: оно и понятно, девка в самой сыти. Да хоть бы из-за кого путного убивалась, а то из-за шута, человека простого звания. Ровно сговорились с женой: обе смертью грозят. Счастливый человек Тимка! Бабы от него без ума. Подумав об этом, князь подавил завистливый вздох, потянулся было к дочериной косе, но тотчас отдернул руку. Ловко ль таскать за косу царицыну фрейлину? А хотелось, ох как хотелось! Сплюнул, пригрозил:
– Будешь орать – лишу наследства.
– Побоишься, – со смехом пригрозила Дарья Борисовна. Очень уж скоро переходила от слез к смеху. – Ко мне светлейший благоволит.
И верно: моргни Дашка светлейшему, тот сразу лен переломит. Да и царица по голове не погладит.
– Митрий у тебя?
– Нужон мне твой Митрий! – отмахнулась Дарья Борисовна.
Князь поверил. На всякий случай пожурил отечески:
– Безмозглая ты, Дашутка! Удела не ценишь. Выходила бы за Черкасского, род старинный, знатный род. И вотчина у него – всяк позавидует.
– Сам-то на знатной женился? – огрызнулась дочь.
– Ты мне не судья, – повысил голос Борис Петрович. Понимая, что Дашу не запугать, все же пригрозил вяло: – Тимку выручу. Но знай, моим зятем ему не бывать.
Пригрозил и сам себе удивился: в сущности, не все ли равно, кто станет теперь его зятем. Ловкий и сметливый Барма даже предпочтительней, чем хоть и богатый, но дураковатый князь Черкасский. Жить с человеком, а не с богатствами. Да и загадывать вперед не стоит. Еще неизвестно, что будет завтра.
Едва закрылась за князем дверь, Даша позвала к себе злополучную троицу:
– Штаны-то надели, кавалеры?
«Кавалеры», смущенно прячась один за другого, гуськом втянулись в ее комнату. Возвращаясь с царицына бала, Дарья Борисовна увидела их, полураздетых, неподалеку от кабака, позвала к себе в дом.
– С отцом-то можно ли так, Дарья Борисовна? – упрекнул Митя, единственный из троицы не проигравший ни штанов, ни камзола. Может, поэтому был смел с нею.
– А чем он лучше всякого другого? Не по правде живет! – взлохматив буйные волосы моряка, улыбнулась Даша. – Не полыхай, не полыхай! Не в брата пошел, тот сам смущать любит. – Дарья Борисовна и сама раскраснелась, вспомнив, как принимала у себя Барму. Не поцеловал ее, горд, сатана, а кажется, любит. «Люби меня, Тима, люби! Всю вылюби! Шут мой грустный, бес, мучитель! Жив ли ты, Тима? Истомилась, соскучилась!»
…– Кушай, Дмитрий Иванович, не стесняйся. Ты для меня все равно что брат родной. И вы кушайте, – угощала она ямщика и Пинелли.
– Благодарствуем, Дарья Борисовна, – сидя на краешке софы, чинно отговаривался Митя.
Даша, погрузившись в свои мысли, его не слыхала.
…Князь грезил в темнице, тыкал пальцем в балахоны, проходившие перед ним серою вереницей. Это были тени деревьев, отражавшиеся на стене. Тени казались Борису Петровичу обитателями несуществующего сказочного города.
Как это прекрасно – жить нигде и ни с кем, не сознавая ни себя, ни времени, ни страха перед тем временем! Жить, просто жить!








