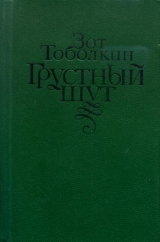
Текст книги "Грустный шут"
Автор книги: Зот Тоболкин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 21 страниц)
– Любушка? Хор-роша…
– Не любушка, жена законная, – хмуро пояснил Борис Петрович, выждав, когда закроется дверь за Дуней.
– Не промазал! Хороша, хор-роша! – покачивая ногой в ботфорте, без всякого перехода спросил: – Ну, а мириться-то будем?
– Я с тобой не ссорился, Александр Данилыч, – догадываясь, куда клонит светлейший, простодушно улыбнулся Юшков.
– Тем паче. Есть у тебя, Петрович, бумаги в загашнике некие… про одного моего знакомого, – Меншиков ткнул себя в грудь пальцем. – Отдай Христа ради по старой дружбе. Аль продай, коль добрых дел моих не помнишь.
Данилыч, помимо всех чинов и должностей, отхватил себе несколько канцелярий – медовую, рыбную, постоялую и другие, – дававшие ежегодно по сто тысяч и более. Юшков все выявил и рукою дьяка своего написал о злоупотреблениях светлейшего царю. Петр в сильном был гневе. Кончилось тем, что Меншиков заболел или больным притворился. За него хлопотала сама царица. Был прощен, да, видно, много грехов за душою, коль явился снова.
Юшков без лишних слов отдал ему поносные письма прибыльщиков (копии-то сохранились!), выжидающе уставился на гостя.
– А протчее? – без обиняков спросил светлейший.
– О протчем покамест не извещен, – развел руками Борис Петрович.
– Хитришь, душа моя! Гляди, себя не перехитри! Я памятлив.
На том и расстались, затаив зло друг на друга.
– …Великая, но какая нищая страна! – пел между тем Пинелли. – И сколь поживы для проходимцев!
– Так, так, истинно, – согласно кивал Юшков. – Взять меня… Чем я хуже какого-нибудь Девиера? Так нет же, светлейший его в зятья предпочел…
Это одна из первых обид, нанесенных светлейшим Юшкову. Сватался года за три до этого к сестре Александра Даниловича. Тот грубо отказал. Предпочел Девиера, царского денщика бывшего. Впрочем, поначалу он и Девиеру отказывал, пока сам Петр не вмешался. И – слава богу! Юшков радовался неудавшемуся сватовству, сравнивая увалистую, распутную Девиершу с легкой тихоголосой Дуняшей.
– Ищете на стороне купцов, генералов, ученых. К вам приезжают большей частью жаждущие наживы авантюристы, – вел свое итальянец.
– То чистая правда, – вздыхал Борис Петрович.
Вплыла княгиня, поставила перед гостем поднос с мадерой, поклонилась и с улыбкой предложила выпить.
– Благодарствую, Авдотья Ивановна, – Пинелли вежливо пригубил.
– Что невесела, Дунюшка? – встревожился князь, увидев опечаленное лицо своей прелестной супруги. – Позвать девок? Споют, спляшут. Или на горку давай съездим.
– Родителей нынче во сне видела, – призналась Дуняша, лишний раз напомнив князю о совершенной им несправедливости.
Из-за нее не раз отводил взгляд от невинных и синих глаз Дуняши.
«Ничего, – утешал себя, – помаленьку привыкну».
Но все чаще задумывался о бессмысленной и жестокой мести. Осуждал Ромодановского за жестокость, Меншикова за лихоимство… Сам был не меньше жесток, и руки чистыми не остались.
Дуня, пригласив итальянца бывать почаще, исчезла, затем появилась опять, уже с улыбкой на лице.
– Там Тима пришел. Звать? – сказала радостно.
– Тима?! О, конечно, зовите, – опередил Пинелли хозяина. – Ваш брат умный и чрезвычайно интересный собеседник!
«Не много ль берешь на себя?» – сердито свел брови хозяин, но, зная Дунину привязанность к брату, недовольство свое скрыл.
– Пускай войдет.
Барма уж вошел легкой, стремительной походкой, и не поймешь – то ли бежит он, то ли шагает. На плече уютно пристроился зайка. Без зайца Барму в столице не представляли. Их знали во всех кабаках, во всех нищих ночлежках, и Дуня тщетно пыталась выяснить, где обитает ее беспокойный брат.
– А, Леня, – запросто поздоровался с итальянцем Барма, переиначив на русский лад его имя, – здорово ли живешь?
– Живу, надеюсь, – с улыбкой приветствовал его Пинелли, угощая зайца капустою со стола.
– Ну надейся. Городок-то свой не построил? – Пинелли был одержим идеей – построить для людей город Счастья. Только вот денег у него не было, и он зарабатывал их, как мог: то игрою в карты, то хвалебными одами сильным мира сего, то нанимался в репетиторы к богатым бездельникам. Особенных доходов это не приносило. Карточные выигрыши порою переходили к проигравшим, оды не всегда приходились по вкусу, а прочих заработков едва хватало на пропитание.
– Нет, пока не построил. Нет денег, – развел руками Пинелли, никогда не терявший бодрого расположения духа.
– И не будет, – успокоил Барма. – Вот разве у князя попросишь. Он, сказывают, из богачей богач.
– Я-то? Христос с тобой! – всполошился князь, не любивший одалживать, тем более – без отдачи. Да и к чему знать посторонним, велики ли его богатства. На черный день припасено кое-что: налоги не зря собирал для государя. Часть царю, другую – себе. Поди узнай, какая доля досталась князю. «Некая, – говорил он с ужимкой, сам себе подмигивая. – Гроши за душою. Дай бог прокормить семью».
– А ведь лукавишь, Борис Петрович! – пригрозил Барма бровями. – Вот я проверю сей же час. Я проверю… – и уставился в глаза князя холодными, выворачивающими душу глазами, взял за руки. Борис Петрович почувствовал вдруг, что пальцы немеют, тело как бы становится чужим, непослушным собственной воле. – Говори, богат ли? – пытал Барма.
Язык князя уж был готов сказать всю правду, помешал Пинелли. Взяв со стола гусиную лапку, сунул ее в рот хозяину, смеясь, приказал:
– Жуй, сеньор!
Князь с жадностью зажевал гусятину, словно никогда ее не пробовал.
– То гипноз называется, – сказал Пинелли. – Он дает огромную власть над людьми. Нельзя пользоваться ею в недобрых целях. Сейчас мы гости.
– Говорил, в деньгах нуждаешься… – смутился Барма, испытывая неловкость перед итальянцем. – Может, выпросили бы малую толику.
– Необходимые средства добуду сам, – с пафосом заверил итальянец.
Барма улыбнулся: «Ты добудешь! Последнее, что есть, с себя спустишь». Возражать, однако, не стал. Пинелли – безобидный чудак, а чудаков Барма жалел, хотя относился к ним покровительственно: «Они как дети малые!» И Луиджи помешан на своем городе. А просто ль целый город выстроить? Легче купить или завоевать его. Вон столицу-то вся Россия строит. Под каждой сваей чья-то жизнь, а часто не одна. Но город не шибко споро растет. Леня ж один собрался выстроить задуманный город по своим чертежам и планам. Чудак, истинно чудак!
Князь между тем глупо ворочал глазами, чавкал, показывая в эту минуту, быть может, всю свою животную сущность, в иное время скрытую от людей.
– Вот они, князья-то, – брезгливо скривился Барма, искавший в человеке подлинно человеческое. Гладок князь с виду, разодет, говорун отменный, а вот проглянуло наружу все уродство души. Неужто всяк человек таков?
– Так, Тима, так! Людей без грехов не бывает, – подтвердил Пинелли, вероятно больше Бармы знавший человеческую натуру. – Потому и хочу воспитать человека совершенного. Это возможно лишь в моем городе.
– Из князя… тоже человека можешь сделать? – усомнился Барма, сунув Борису Петровичу другую лапку. Прежнюю князь оглодал и теперь жевал воздух. Это было смешно и жалко.
– А он человек, Тима. Он человек, но забыл про это.
– Может, и не знал никогда.
– Разбуди его… и – пореже пользуйся своей властью, – сказал Пинелли. Склонившись над Бармою, признался: – Ведь я тоже гипнозом владею… но избегаю. Это страшная власть!
Барма хлопнул знаменитого зятя своего по щеке, отнял кость:
– Будет жевать-то! Ишь оголодал!
Князь проснулся.
– Что же было со мной? Летал куда-то, – протирая глаза, вспоминал князь. Пинелли кивал, посмеивался. Барма, как ни в чем не бывало, теребил за уши зайца.
– Не в Тобольск ли? Как там родители наши, скажи…
«Он что-то сотворил со мною, – думал лихорадочно князь, изо всех сил стараясь восстановить отрезок времени, начисто выпавший из памяти. – Неужто околдовал меня, дьявол? Вот щас в козла обратит аль в мушку…»
– Они… не знаю, – князь в этот раз сказал чистую правду. Давно начал примечать за собой странное стремление – говорить правду. Но, пытаясь быть искренним, Борис Петрович вдруг обнаружил, что люди не нуждаются в его искренности, больше того, прекрасно обходятся без нее. Впрочем, он и раньше знал об этом, но тогда его ложь вполне уживалась с всеобщею ложью большинства. Теперь же маленькая правда князя вступала в противоборство с ложью окружающих, и он боялся своей правды. Но, родившись из крохотной и неприметной капли, она потекла ручейком, который мог превратиться в реку. С течением этой реки князю уж не совладать. Захватит оно Бориса Петровича и неизвестно куда вынесет. Князь противился силе этого колдовского течения, но ничего не мог с собой сделать.
– Не знаю, – повторил он, мысленно разбранив себя за правдивость. Но если б его опять спросили, он повторил бы то же самое. – Я напишу в Тобольск… там есть мои люди – проследят.
– Вот это не надо, – погасил его пыл Барма. – Знаю, как следят твои люди. Уж лучше не трогай, Борис Петрович.
– Не буду, – истово обещал князь, уловив в голосе Бармы угрозу.
– Леня, ты бы с Дуней позанимался, – сказал Барма, поскольку дальнейший разговор касался только его и князя. – Давно в дверь заглядывает.
Пинелли, ни слова не говоря, тотчас вышел. Любил он эти редкие часы занятий с усердной и внимательной ученицей. Она открывала для себя светлый и радостный мир знаний, а Пинелли – нового и прекрасного человека, очень похожего на тех людей, которыми он мысленно населил свой город.
– Теперь вот что, Борис Петрович, – Барма поиграл с зайцем, взял груздь соленый с тарелки, понюхал, но, полюбовавшись луночкой, есть не стал, словно боялся, что отравится. – Говори уж, зачем призвал?
– А чтоб при сестре был, – соврал по привычке князь и тут же поймал себя на лжи и, зная, что ложь эту Барма заметит, признался: – При дворе хочу пристроить…
Это была правда, и теперь имело смысл продолжать беседу. Барма шевельнул морщинами на лбу:
– Давай условимся наперед: не юлить друг перед другом. Не дети мы – в жмурки играть. Обводить вокруг пальца и я умею. Эту увертку в вину не ставлю – таков уж ты: не юлить не можешь. А дальше знай: на ложь ложью же отвечать стану. И тогда тебе не пользы, а больше вреда от меня будет.
– Да я, Тима, не нарочно. Язык так приучен. Но про сестру-то я верно сказал: любит она тебя. Больше мужа своего любит.
– Про то сам не хуже знаю. Сестре брата не любить гоже ли? Сам кровь за нее отдам до капли. Так что знай: за малую слезинку ее в ответе будешь.
– Я разе могу Дуняшу обидеть? Себя скорей тыщу раз обижу. Ее – никогда! – горячо, искренне заверил князь; это была чистая и великая правда. Это была любовь, поздно и нечаянно к нему пришедшая. Она-то и заставила князя говорить иным языком. Она вывернула наизнанку всю его сложившуюся жизнь, наполнила ее тревогой и счастьем. Каждое утро князь вставал с мыслью: сегодня мне хорошо, потому что в моем доме поселилась сказка.
– Значит, хошь завести при царском дворе уши? А что ежели уши эти, – Барма подергал себя за мочки ушей, задумался, – что если их вместе с головой оттяпают? Ты волк, там волки почище.
– Ты разве глупей их, Тима? Сметлив, увертлив. И разным разностям научен… кем-то, – осторожно закончил князь.
– Чертом, князь, самим чертом!
Барма шутил, но проезжий скоморох, учивший его фокусам, во время действа и впрямь был одет чертом. Он первый подметил необыкновенные способности сорванца из Светлухи. Вскоре Пикапы потеряли сына, с полгода о нем не было ни слуху ни духу. Когда он появился наконец, стал вытворять какие-то чудеса.
Где скоморох тот веселый? Жив ли, на дороге ли где замерз? А может, в застенке скончался? В этом кишащем страстями мире жизнь и смерть шествуют рядом: неизвестно, кому из них ты больше полюбишься.
Затее княжеской Барма не потрафлял бы, но он и сам подумывал, как попасть во дворец. Будет случай – вернет сторицей все, что вытерпел от Бориса Петровича. В том поклялся себе, когда связанный лежал в подземелье.
– Будь по-твоему, князь, – кивнул Барма.
– Ежели деньжонки понадобятся – не поскуплюсь. Домишко тебе куплю. Там и будем встречаться.
– Не ты ли на бедность токо что жаловался? – щелкнул усмешкой Барма, погрозил пальцем.
– Все дыры моими деньгами не заткнешь. К тому же он, – князь указал пальцем через плечо на комнату, где занимался с Дуняшей Пинелли, – иностранец. И думки у него шалые.
«Иностранец, – подумал Барма, – а ближе тебя, русского. Он не о себе, о людях печется».
– Ежели оступишься, князь, – упредил Барма, не исключая и такой возможности, – ежели угодишь, как я, на дыбу, не проговоришься? Кости-то княжеские пикановским не чета.
– Не выдам, Тима. Сам ведаю, заплечных дел мастера живыми не выпускают, но я пилюлю себе заготовил…
Пилюля желтенькая, круглая была спрятана в нательном кресте. Перекупил ее у купчишки, когда-то учившего князя латыни. Он впервые открыл Борису Петровичу мудрость Макиавелли, зыбкость удачи и успеха. Сегодня ты властвуешь – завтра принимаешь нежданную смерть. Сенека, философ известный, по приказу владыки вскрыл себе вены. Цезаря кончили его приближенные. Успевай живи. Придет смерть – умри легко и вовремя.
– Кажись, обо всем переговорили, – поднимаясь, сказал Барма. – Про сестру помни, Борис Петрович! Выше богородицы се чту.
– Не обижу, – заспешил князь, перебивая. Для верности перекрестился. – Бог свят! Сам дышу на нее с оглядкой. Иди, Тима, видайся с ней. А от латинца этого держись подале. Непонятный он человек и уж по одному этому опасный.
– Есть и понятные, а я их поболе опасаюсь, – усмехнулся Барма, погладив зайца. – Так, Зая?
Зверек усердно закивал.
Проводив Пинелли, Дуняша ждала брата в своем тереме, поставленном для нее в глубине двора. Пол был устлан коврами, стены шелками затянуты – роскошь восточная. Князь ездил с посольством к персам – нагляделся и перенял. Но и роскошь эту, и терем Дуняша без оглядки променяла бы на светлухинскую горенку. На единый миг сойтись бы всем в родительском доме… не поговорить, а хоть краешком глаза глянуть на близких. Не суждено: растолкала судьба по свету. Слава богу, хоть Тимоша неподалеку и, как выдастся час, проведает. Вот и шаги его слышатся, быстрые, мягкие. В лесу, за зверем охотясь, выучился ходить бесшумно. Другой бы, может, и не услыхал, но чуткое ухо Дуняши всегда угадывало приближение Бармы.
– Заждалась я тебя, братко! – рванувшись навстречу, приникла и, как это редко случалось с ней в замужестве, счастливо заулыбалась. Князь хоть и не воспрещал видеться, однако наедине их не оставлял. И потому встреча эта была особенно дорога. Барма принес ей крашеных пряников. Дуняша с детства любила пряники. И теперь им обрадовалась, прижав руки к груди, счастливо вскрикнула. От ее чистого, детского восторга и Барме стало радостно. Смотрел на сестру во все глаза, посмеивался, а зайка шмыгал по горнице, что-то вынюхивая. Нашлось и для него лакомство: морковка. Получив ее, звереныш захрумкал, еще более насмешив Дуняшу.
– И я тебе припасла подарок, – просмеявшись, сказала она. Оправив волосы, вышла и вскоре вернулась с мешочком, с клетчатою доской.
– Шахматы?! Вот спасибо! Я думал, сгинули или князю достались. Ну как он, не донимает тебя? Поди, и шагу ступить не дает?
– Нет, он добр со мною. Худого слова не слыхивала.
– Гляди ты! А ведь какой зверь! Да что там, зверя я приручал, а вот человека… нет, не доверяет он добру.
– Не бойся за меня, братко! Я в обиду себя не дам, – сказала Дуняша. Барма улыбнулся: тоненькая, хрупкая: ветер дунет – переломится. Как есть тростинка. А туда же: «В обиду не дам».
– Вот ножичек, Дунюшка. Сам его выковал. Имей его при себе – мало ли что, – подал нож с инкрустацией; не велик, но остер, до любого сердца достанет.
– Опять подарок! – свела брови Дуняша. – Балуешь ты меня!
– Кого ж мне еще баловать-то? – мрачно усмехнулся Барма. Вот уж подарок принес – нож. – Ну прощай, росинка моя! Скоро своей крышей обзаведусь. Приезжать-то будешь?
– Ой, да кажин день не по разу!
Обнялись. Ушел все той же легкой походкой, теперь чуть замедленной, словно груз какой-то давил его к земле. А груз был немалый: разные тревожные мысли. Ушел Барма, а шаги его еще долго отдавались в ушах. На розовых губках Дуняши плавала рассеянная улыбка. Эту улыбку спугнул вошедший без стука Борис Петрович.
8
Пикан молился. Сказать по правде, память на молитвы у него слабовата. Но ведь суть служения богу – он это давно установил – не в том, чтобы твердить сотни кем-то сочиненных слов, а в том, чтобы поверять ему свои собственные, тайно выношенные мысли. Если ж непременно нужна уставная молитва, что ж, можно троекратно повторить «Отче наш» или другую, усвоенную с самого детства. Но вот как быть с проповедями? Проповеди произносили все настоящие ревнители истинной веры. Особливо ж прославился ими покойный Аввакум. Ипат, ретивый последователь его, того пламени в речах не имел. Туго, со скрипом, вытягивал слово за уши. Ивана и вовсе слова не слушались. Кабы их можно было вытесать, как, скажем, петуха деревянного или конек на крышу! Топором Иван искусней, чем языком, владеет. Но слово топорное душу человеческую не заденет. Разве что сам топор… Многих, ох многих лишил топор языка с головою вместе.
«Отче наш, иже еси на небеси… да святится имя твое, да приидет царствие твое…» – упав на колени в снег, бормочет Пикан. Старшой в конвое поторапливает. Он кругломорд, насмешлив, рыж и ленив. Видно, избаловался на службе. Пикан более всего от него натерпелся.
– Полно богу-то докучать! – скалит зубы старшой и велит трогаться.
Казаки едут в санях. Пикан с Потаповной бредут сзади, хотя второй возок выделен князем для них. Потаповна едва жива.
Бредут полями, бредут лесами. Снежно, голодно. Лишь на ночлеге какой-нибудь сердобольный хозяин или отзывчивая на беду хозяйка сунут ссыльным краюху хлеба – тем и кормятся. По два, мало – по три дня во рту единой крошки хлебной не бывало. Да и княжеские отметины след оставили. Но чем дальше – боль меньше. Видно, дорога лечит. Иван смолоду ходить привычен. Да и Потаповна хаживала немало: и в море мозолей веслом понабивала, и в лесу тропок наторила бессчетно. А травушки-то, травушки-то сколь порвала! Ой-ёченьки! Изба по углам вся травами увешана. Простуда ли, бессонница ль мучит, пища ли впрок не пошла – все травами пользовала. Собиралась Дуне умение свое передать, та к знахарству не склонна. Тимофей легче усваивал материнские уроки. Всякую всячину варил из трав для себя, для зверюшек. Баловник он и пересмешник – ни в мать, ни в отца, – в деда, наверно. Тот, бывало, молится, да вдруг как загогочет! С чего бы? За молитвой-то никонианам разные клички придумывает. Тимофей тоже горазд на выдумки. Иной раз такое сморозит – сто человек не придумают. А где слов мало – возьмет да и нарисует аль резцом вырежет. Баловал его дедко Ипатий. И отец из всех отличает. Только внешне суровится. А для Дуняши на добрые слова не скупится… Где они теперь, мои горькие? Где кровинушки? Спаси и сохрани их, Микола милостивый! Нам с отцом уж немного осталось. Может, в пути упадем…
– Шибче шагай, ведьма! Так до ильина дня прошлепаем! – старшой опоясал Потаповну кнутом, сбил ее и расхохотался. – Несладко? А ты заколдуй меня! В цветок преврати аль в змея…
– Чо тя превращать-то? И так змей, – бухнул Пикан. Получив удар по лицу, выдернул обидчика из саней, уронил и начал таскать по снегу. Конвой, хоть и не сразу, может, нарочно выжидали – пускай старшого мордой повозит! – кинулся на выручку. Скрутили помора, опять избили.
– Так-то лучше, – постанывая, бормотал старшой. Крепки кулаки у раскольника!.. О-ох! – Вы тоже хороши! – накинулся он на подчиненных. – Могли бы и раньше его подмять.
– Боже милостивый, буди меня грешного, – взывал к богу Пикан, браня себя за невоздержанность. Терпеть надобно, все вынести, что ниспослано жестокой судьбой в испытание. Терпел же Иисус, сын божий, не роптал, Пикан тоже все вынесет. Только бы не измывались над верной подругой, над Потаповной. Молил бога дать ей сил. Рядом, горбясь, шагала Потаповна, улыбалась морщеными разбитыми губами, сплевывала стынущую на лету кровь.
– Дойдешь, Антонидушка? – тихонько пытал Пикан, приноравливаясь к неширокому шагу жены.
– Далеко ль до Тобольска-то?
– Столько, да полстолька, да еще четверть столька, – скалил зубы старшой.
– Добреду, – бодро отвечала Потаповна, изумляя старшого. – Боле того хаживала.
Страх брал малого: не оборотни ли? Бьют их, увечат, терзают голодом, морозят – живут, окаянные! Конвою невтерпеж: холод до костей пробирает, дерет через тулупы, через меховые пимы собачьи. А эти двое не жалуются, идут потихоньку, переговариваются, словно за век не наговорились.
Старушонке уж в глызину пора превратиться, она воркует о чем-то. Оборотни, чистые оборотни!
Старшой поглубже утопил нос в воротник, толкнул сидящего рядом служилого:
– Слышь, Малафейко! Не иначе колдунов везем?
– Колдуны богу не молятся.
– И то верно. Дак, может, святые они, а? – старшой успокоился. Сразу-то не обратил внимания, что ссыльные не наговоры шепчут – молитвы.
Скучно в дороге. Со скуки всякая блажь в башку лезет. И пел старшой, и побывальщинки сказывал, сны видел. Те сны Малафей разгадывал. Часто их видел. Что ж не видеть-то, когда поверх борчатки нагольный тулупище. И вся провизия в мешке. Жрет хлеб и сало тайком, сволочь! А скажи – в зубы схлопочешь. Когда подвыпьет – смотрины устраивает своему малочисленному войску. На ветру пронзающем под ружьем держит. Ох, жизнь собачья! Зачем только на свет родились? Сами муки неисчислимые терпим и людей, ни в чем не повинных, мучим, гоним бог весть куда. Где она, эта Сибирь? Где Тобольск, в котором, по слухам, многие православные нашли себе упокой? Судьбина проклятая, заголи ей задницу! Шарахнуть бы по затылку старшого, из саней вышвырнуть да, тулупчик его надев, подремать вволю. А потом сальца откушать, сухариков погрызть, разделив с товарищами. Они во втором возке часуют.
Старшой дремлет, зажав в кулаке недоеденный кус сала. На бороде слюна застыла. Боров ненасытный!
Такой ненавистью сдавило сердце – задушил бы старшого сонным. Да вот свидетели…
«А пожалуй, не пикнут», – решил Малафей.
Возок на гору взобрался. Внизу пропасть, каменные зубы утеса. На один из зубов угодишь – пронзит насквозь. Распустив руки Пикану, казак моргнул:
– Помоги-ка!
Вдвоем опрокинули возок – старшой вниз покатился. Не успел проснуться, как оказался на том свете, стукнувшись виском о каменное острие.

– Беда-а-а! Старшой убился-я-а! – заблажил Малафей, упреждая взглядом Пикана.
Казаки в заднем возке встряхнулись, продрали глаза. Остановив лошадей, подскочили к Малафею:
– Пошто выпал? Как?
– Понесли кони… опрокинули. Я как раз погреться выскочил. Догоняю – он уж туда полетел… – утирая лукавые слезы, частил Малафей.
– Выскочил… смотрел бы в оба, – упрекнул его рыжий казак дюжий. – Эдак мы всех порастеряем.
– Старообрядец-то пошто развязан? – спросил другой казак, сутулый и долгий, ощупав Пикана недоверчивым взглядом.
– Ефим Егорыч старушонку нести велел – совсем сомлела, – нашелся Малафей. А слезы из полуприкрытых, все схватывающих глаз сыпались, сыпались.
Потаповна крестилась, беззвучно шевелила губами, молясь за убиенного. Пикан водил сумрачными бровями, хрипло прокашливался. Просиверило в пути. Как бы не обезножеть.
– Ну ты! Хайло-то свое притвори! – начальственно прикрикнул Малафей, моргнув староверу.
Все решили: быть Малафею старшим. К тому жив службу всех раньше поверстан. Он поупрямился для вида, потом как бы нехотя уступил:
– Ну, коль выбрали – не пожалеете. Тулупчик по очереди носить станем. Щас твой черед, Орефий. Надень.
Казак, сутулый, подозрительный, сразу обмяк, тулуп принял без возражений. Если и заподозрил что – смолчит. Да и Малафей непрост. У него на всякую рыбку приманка.
– За Ефим Егорычем-то кому лезть? – обвел товарищей взглядом, остановился на Орефий, сразу потерявшем в росте. Казаки молчали. Кому головы своей не жаль? Спуск гибельный.
– Тело-то надо земле предать. Крещен был покойничек-то… – настаивал Малафей, давя взглядом Орефия. Стра-ашно! А прикажет старшой – полезешь. «Не на меня бы выбор пал…» – думал каждый.
– Я добуду кобеля вашего, – пробурчал Пикан. Все облегченно вздохнули. Потаповна ахнула: «Мыслимо ли: сам смерть себе выбрал. Разобьется – следом за ним прыгну». Отговаривать мужа не стала. Знала: бесполезно. Срастив двое вожжей, верхний конец Пикан подал старшому:
– Сам выберусь, ежели господь не попустит. Убиенного примете.
– Убиенного? – опять прицепился Орефий. – Кто ж его убил?
– Рука господня, – коротко отозвался Пикан и полез. Спускался ловко, расчетливо, пальцы отыскивали в скалах незаметные глазу щели, нащупывали зацепки. Добравшись до карниза, сделал передышку.
– Эй, пошевеливайся там! – торопил Малафей.
– Скоро надо – лезь сам, – огрызнулся Пикан, не двигаясь. «Вот жил человек, – думал о покойнике, – злобствовал. Кто добрым словом теперь помянет?»
– Выберешься – ребра посчитаю, – падает сверху неискренняя Малафеева угроза. Пикан слышит ее и не слышит. Нужно запомнить спуск, чтобы потом тем же путем взобраться. В двух местах скала, как лысина. Не за что зацепиться. Э, чего там раздумывать! Господь не оставит. И – снова шаг за шагом, изо всех сил удерживая отяжелевшее тело, спускался по снежнику. Скала сверху казалась гладкой. На его счастье, и в ней оказались выщербинки, хоть и непрочно, да все-таки впился ногтями, завис, нащупывая правой ногою выступ. Выступа не было, а силы кончились: шесть с половиной пудов держались на кончиках пальцев. От нечеловеческого напряжения заныли ногти, отлила кровь. Прижавшись к скале, еще мгновение заставил удержаться себя, но сорвался и полетел вниз. «Ну вот, все», – подумал отрешенно. А руки непроизвольно шарили по холодному камню.
Кончину свою иной видел. Мнилось, дома умрет. Отпоют по обычаю, положат рядом с родителями и станут приходить на кладбище дети, потом внуки. Сядут в родительский день у могилы, хлебнув кутьи, заведут с покойным беседу, покаются во грехах и задумаются, быть может, о своем неизбежном конце. Им жить еще, маяться, а Пиканова смерть – вот она…
– О-ох! – правая ладонь с налету наделась на каменное острие. Камень вошел в нее, как в масло. Больно-то как! И опереться не на что. Левой рукою уцепившись за основание проколовшего руку камня, снова зашарил ногами. Слава богу, хоть слабая, но отыскалась опора! Поставил прочней правую ногу, потом и левую. Закрыв глаза, собрался с духом, ударил по правой, пронзенной скалой, руке. На мгновение померкло от дикой боли сознание. На гранитных зазубринах остались куски мяса. Из рваной раны хлынула кровь.
– Потаповна! – позвал хрипло. Зов слабый, но старушка услышала. Поняв, в чем дело, оторвала подол от исподницы, сдернула с шеи гайтан и все вместе бросила вниз.
– Перетяни потуже, Иванушко!
Пока он, постанывая и болезненно морщась, перевязывался, Потаповна шептала таинственный наговор. Казаки не без сочувствия следили за отчаянным старообрядцем, бросившим вызов судьбе, почтительно взглядывали на Потаповну, в столь трудный момент выказавшую необычайное присутствие духа.
– Кровь-то как, льется? – прочитав заговор, спросила она.
– Остановилась, спаси тя Христос, – отозвался Пикан, упрекнув себя: «Что ж я веревкой-то не обвязался?» – видно, билась мыслишка: рухнет вниз со скалы и – насмерть. Все страшное, что с ним происходит, кончится разом.
Осудив себя строго, подошел к уже остывшему трупу, заглянул в распяленные в ужасе глаза: «Мне смерти желал… сам раньше помер. Я смерти не страшусь. Тебе страшно. Без покаяния помер-то, аки пес. Ну, ответишь, когда предстанешь перед Спасителем. Глупой, глупой! Возомнил себя вечным…»
Обвязав труп веревкой, прислонил к скале, крикнул:
– Тяните!
Потянули – убитый опрокинулся, повис вниз головой.
– Эй вы! Ослепли? Вверх ногами тянете.
– Теперь положено: вперед ногами, – равнодушно отозвался Малафей, дав знак товарищам: «Тяните скорее!» Вытащив покойника, кинули веревку Пикану: – Привязывайся!
– Тут я останусь, – глухо отозвался Пикан.
– Совсем, что ли? Околеешь ведь! – не поверили вверху. Потом спросили: – А старушонку куда?
– Ко мне спустите.
– Спустим… без веревки, – пригрозили раздраженно. – Костей не соберешь.
Думали, куражится; посидит – сам наверх запросится. А он пристроился на карнизе и как будто задремал. Отчего бы и не подремать там, за ветром-то! Наверху ветер бил без жалости, забрасывал колючим снегом. Ждать надоело. Снова напомнили:
– Не насиделся ишо?
– Сказал, тут остаюсь.
– Нам-то как быть? В Тобольск велено тебя доставить.
– Убился бы – здесь бросили бы?
– Не убился же. Живой на нашу беду.
– Скажите там: мол, со скалы сорвался.
– Дак не сорвался же, – настаивал Малафей. – Вылезай, хоть накормим досыта.
– Потаповну в сани посадите? – решил уступить Пикан.
– Ладно, – пообещал Малафей, – посадим. Весу-то в ней меньше, чем в мухе.
Выбрался. Казачки приняли было его в кулаки, но, схватив длинного и самого сердитого Орефия, Пикан метнулся к пропасти. Тот завизжал от ужаса.
– Токо шаг шагните – мигом туда загремит, – пообещал Пикан.
Ворча отступили. Длинному досталось от Малафея по уху:
– Ишь ретивый какой! За Ефим Егорычем вниз струсил? А тут смелость показываешь.
Разогнав казаков, усадил Потаповну в сани, сел сам.
Поехали. На земле со сменой старшого стало приветней.
– На, мученик, пожуй! – Малафей отломил от калача половину, положил на нее шмат сала. Подкрепившись, Пикан зашагал бодрее. Кабы так кормили – на три раза всю землю обошел бы! Да ведь и без того на один-то раз обойти ее придется. Второй месяц в дороге, а ей конца не видно. Сибирь, матушка, где же ты?..
9
Переночевав у Кирши, Барма завел его поутру в кабак. Взяв сбитня для Бармы, вина для Кирши, устроились в углу, чтоб никто не мешал беседе. Ямщик пил нехотя, мял в кулаке заношенную шапчонку. Причиной смятения его был Барма. Вчера отдал Кирше третью лошадь, сестре подарил беличью шубейку.
– Должник я твой, Тима, – Кирша сощелкнул со стола ленивую сонную муху, та повозила на полу крылышками, перевернулась со спины на брюшко, взлетела и села ему на ноготь, словно сама искала себе смерти. Отряхнув ноготь, Кирша тронул о чем-то задумавшегося Барму. – Знаю, коней отдал без задней мысли. А признайся, друг: не жалко?
– Жалко? Кого? – рассеянно откликнулся Барма, прикармливая зайца. Их знали здесь, встречали без удивления, но всегда приветливо. Вокруг веселого парня с зайцем тотчас собирались зеваки. Вот и сейчас немец пьяненький, коверкая русскую речь, пристал, торгуя зайца.
– А это видел? – Барма показал ему кукиш, отвернулся и снова задумался, оглядывая чадный погребок. Пахло потом, ситным, отрыжкой. Скребли ложки о дно посуды; задремывая, пьяницы глухо стукались лбами о столешницы, иные валились на пол, и на них наступали носившиеся в чаду половые. Орал целовальник, за спиною плакал кому-то запродавший себя парень в истерзанном иностранном камзоле, в лаптях, размазывая по лицу пьяные слезы:








