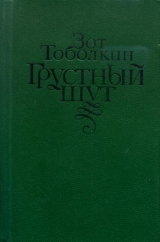
Текст книги "Грустный шут"
Автор книги: Зот Тоболкин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 21 страниц)
– Ну, ежели тут команда непьющая, то и мы пить не станем. Я лагунок на случай спрятал… – Егор, бес-искуситель, нырнул в трюм и из-под брезента извлек лагун с брагою. – На, штурман, кинь за борт, – протянул он лагун Мите…
– Лучше я! – опередил Бондарь и, хлопнув по дну ручищей, наполовину выбил деревянную пробку.
– Дай помогу, – подлез младший из Гусельниковых, пожалуй, самый дюжий. – У меня рука крепше.
– Не-е. То дело Бондаря, – со второго удара пробка вылетела, брага полилась, но не за борт – в глотку.
– Ты же не пьешь, святой человек! – остановил его Гусельников-младший. – Давай уж я грешить стану. Ты молись за меня.
– Я и не пью, когда молюсь. Молиться теперь не время, – передав лагун братьям, пояснил Бондарь.
Когда лагун обошел по кругу, Митя еще раз напомнил, что на судне все свободны, но если уж собрались служить под его началом, то служить надо верно.
– После присягу примете.
– Присягнем. Все до единого, – заверил Егор и отвел Барму в сторону. – Самоедка-то просила на ночь остаться, – шепнул, оглядываясь на Дарью Борисовну.
– Я разе против? – вздохнул Барма.
Но ветер дул попутный. Команда подобралась умелая. Кораблю плыть.
14
– Присяга-юу… – вразнобой повторяли за Митей братья. – России ради не щадить живота. Служить ей не за страх, а за совесть. Слушаться командира и положить жизнь за други своя. Флагу, кораблю и отечеству верным быть до последнего часу…
– Аминь, – торжественно заключил Бондарь, окропил каждого родниковой водою и сам прочувствованно, без за иканий прочел сочиненную Митей присягу, за ним – Барма, Даша и даже Гонька. Немой пробежал глазами текст, приложил к груди руку, замаячил: «Я тоже принимаю».
– Все понял, юнга, все понял, – кивнул ему Митя и велел вытащить из трюма собранное Каменевым добро. Было добра немало: копченые окорока, вяленая и соленая рыба, мука, мягкая рухлядь, сало медвежье, рыбий жир…
– Постарался Тереха для государя, – подивился Бондарь обилию мехов и продуктов. Сам он был неприхотлив, нежаден: лишь бы тело грешное нашлось чем прикрыть да в животе не урчало. В могилу-то все одно уносишь только то, что на себе да в себе. И тем черви распоряжаются.
– Куда мы употребим все это? – спросил Митя, самый щепетильный из всей команды. – Может, в казну сдадим?
– Казна и добро это, и нас упрячет. Какой-нибудь ярыга добром поживится, спасибо не скажет. Нет, братко, по всем законам рухлядь наша. Мы ее в деньги переведем, а деньги сбережем для похода, – рассудил здраво Барма. – Но ежели не прав я – поступите иначе.
– Царь Соломон лучше не рассудил бы, – поддержал его Бондарь, выглянув из трюма. В руках у него были ружья и казачьи пистоли. – А вот к куче вашей прибавок – куча мала.
– Прибавок добрый, – обрадовался Митя. – С ружьями не пропадем: от ворога отобьемся и пропитание себе добудем. – Оглядев команду свою, вдруг рявкнул: – Вста-ать! Построиться!
Даша испуганно отпрянула, немой сжался. Прочие растерянно улыбались, пожимая плечами. Чудит капитан!
– Не поняли? Приказываю… – Митя расставил мужчин по ранжиру, первым стоял самый рослый Бондарь, за ним Гусельников-второй, которого братья звали Полтора-Петра, далее – брат младший, Степша, Барма и все прочие. – Вот это и есть строй. Ясно? А кому со второго раза не ясно, тому на флоте боцмана зубы считают. Мы без битья обойдемся – по разуму и по совести. Егора боцманом назначаю. Побудка, строй, порядок, питание на корабле – его забота. Кешу и вас, – Митя отделил Петра и Степана, – определяю в плотничью команду…
И скоро каждый, кроме Бармы, Даши и Гоньки, знал свои обязанности.
– Нас-то что же забыл? – спросил, не утерпев, Барма. – На корабле для каждого дело должно быть.
– Настанет и ваш черед, – вглядываясь в очертания берега, сказал Митя. – Егор, возьми круто влево!
Но едва судно приблизилось к левому берегу, ринулся к кормщику и рванул руль вправо. Река здесь сужалась, и на обеих сторонах кусты подозрительно шевелились.
– Зарядить ружья, взять топоры! Даша, Гонька, в трюм! Живо!
– Эй, табаньте! – крикнули с левого берега. Из кустов вышел офицер.
– А вы кто такие? – спросил его Митя.
– Люди государевы. Разбойников ловим. Балуют тут.
– Ну, где они не балуют, – проворчал Барма, дав знак Мите: «Вперед!»
– На весла, мужики! – скомандовал Егор. Дюжие братья, рассредоточась по обоим бортам, напряглись за веслами. Хлопнул парус шкаториной, дощаник рванулся через волну.
– Куда вы? Эй! Тут офицер болен, гонец царский, – сердито окликнули с берега.
На другом берегу засмеялись.
– Щас, разворот сделаю, сносит, – ответил Митя, спеша уйти как можно дальше.
– Не шали! Стрелять велю! – пригрозил офицер, сообразив, что от него удирают. Но судно вышло из узкой горловины и устремилось к изгибу. Там за длинной косою с этого берега из ружья не достать.
Из кустов выскочили солдаты. Четверо несли на ружьях не то раненого, не то больного. Трое брали прицел.
– Ходу, ребятушки, ходу! – внушал Митя.
Дощаник мчался птицею, но пуля и птицу достанет. Раздался выстрел – высоковато взял стрелок, сбил с капитана шляпу. Митя мысленно перекрестился, подобрал шляпу и, велев всем лечь, сам стал у руля. Три следующих выстрела расщепили крышу над трюмом, оцарапали мачту. Из команды никого не задело. Офицер бранился, бил солдат по шеям, требуя целиться в капитана. Но вдруг свалился от выстрела сам: стреляли с другого берега. Дружно стреляли: упали два или три солдата, остальные, подхватив раненого, скрылись в кустах.
Оба берега настороженно затихли, и Митя услышал среди тишины, как громко хлопает парус и тяжело, сипло дышит Бондарь.
– Господь за нас. Молитесь, ребята, – сказал Бондарь.
– Господь или кто – разберемся после, – проворчал Митя. – Садись на весла!
И снова среди враждебной тишины мчит по реке Сулее дощаник. Река ласкает его борта, приветливо журчит за кормою, а по берегам, в кустах, кто-то заряжает ружья.
Над мачтою куличок свистнул. Тонко-тонко заныл комар: над Митиной головой, играя, пролетели две жемчужные бабочки, сели на румпель. Презрев войну, вину, злобу, залился звонкой песней жаворонок, и вместе с песней взошла тихая радуга. Она, как и люди, пила из Сулеи, наполнялась силой и огнем небесным, бледные полосы ее стали отчетливы, теплы. Дальний горизонт был тих и раздумчив. Солнце ушло ввысь, прикрылось белым облачком. «Смотрите, смотрите на красоту, мной сотворенную! Я светом своим ослеплять не стану», – говорило оно людям.
А жаворонок пел. А жемчужницы над палубой плескали переливчатыми крылышками.
– Илья-пророк дугу лентами разукрасил, – забыв об опасности, восхищенно говорил Бондарь. – Неуж сватать поехал?
– Нас тоже, кажись, сватают, – усмехнулся Барма, зорко вглядываясь в извивы реки. За третьим изгибом русло оказалось перетянуто цепью.
– Попались, – вздохнул Митя. – Убавьте парусов и – назад!
Развернуться не успели. На косу вышел степенный, небольшого росточка мужичок.
– Бежать надумали, горемычные? – спросил сочувственно. – Не выйдет, однако. Пушчонка у нас… фукнет, и – ваше корытце вдребезги.
– Не в дружка ль фукать собрался, Замотоха? – узнав старого знакомца, закричал Бондарь.
– Кеша?! Живой?! – прямо в воду кинулся тот, кого Бондарь назвал Замотохой.
– Не спеши. Чо воду мутишь? Щас сами пристанем.
Из кустов высыпали десятка три пестро одетых и чем попало вооруженных мужиков. У одних были ружья, у других – пистоли, у третьих – ножи, топоры, сабли.
Сам атаман, обнимавшийся с Бондарем, оружия не имел. Но и без оружия, несмотря на малый свой рост, он выглядел внушительно.
Рядом с громоздким, громкоголосым Бондарем он был словно птенец, но птенец, давно вставший на собственное крыло.
– Где пропадал, душа на костылях? – бормотал Замотоха, успевая обниматься и оглядывать острыми, как шильца, глазками Бондаревых спутников. За считанные секунды составил представление и о суденышке, и о его команде. Вон те одиннадцать молодцов (Митя и здесь успел их построить!), похоже, братья. А что за шельма устроилась ногами вверх на рее? Человек или обезьяна?
– Я-то? – бухал Бондарь, через голову Замотохи тоже разглядывая его людей и узнавая старых знакомых. – Богу молился. Не веришь? А ты их спроси. Вон хоть Барму. Тоже святой человек. Благодать божья на нем.
– Удостоился, удостоился, – на руках спускаясь на палубу, бормотал Барма, дивя лесных разбойников. Мужики таращились на него, недоумевали: отчего этот человек вверх ногами?
– Говорю, святой: хожу по небу, головой к вам, дуракам, свесился: гляжу, как живете.
– И как, глянется? – подскочил к нему долгий смешливый мужик. – Ежели глянется, спускайся на берег. Мы тут вольно живем.
– Вольно да постно. Как у нас в раю: ни поесть, ни попить, – спускаясь по сходням все так же на руках, говорил Барма.
– Вся Русь, парень, пояса затянула. И мы постуем, – отозвался атаман. – Однако добрым людям на зубок сыщется.
Были тут государевы крестьяне из Орловской слободы, которых взбунтовал когда-то Иван Замотоха, избивший коменданта, учинявшего непосильные сборы. Восставших поддержали Плюхинская, Коркинская, Сороминская слободы. Бондарь был среди первых, кто отозвался на клич Замотохи. В одной из стычек с войсками его ранили. Раненого оставили в скиту, там он и отсиживался, пока не встретился с Бармой.
Бондарь, по очереди обнимая товарищей, рассказывал о себе. Барма забавлял хозяев: у одного из уха вытащил плат, у другого – яйцо из кармана. Из яйца тотчас проклюнулся цыпленок и, захлопав крылышками, по-петушиному закричал.
Ни бога, ни черта не боявшиеся лесные люди взирали на Барму с суеверным ужасом. Но любопытство было сильней страха. Мужик, смешливый и долгий, решил повторить фокус Бармы. Взяв яйцо сорочье, сунул в карман соседу. Вынуть не успел – яйцо потекло.
– Не тебе, однако, цыплят высиживать, – дав подзатыльник ему, угрюмо бубнил другой мужик, широкий, колодообразный, вытряхивая из кармана желток, яичную скорлупу.
Разбойники хохотали.
Позвали к костру. В сторонке, связанные, сидели солдаты. Тут же лежал больной или раненый офицер, в котором Барма признал Першина. Офицер бредил, в бреду сорвал с пустой глазницы повязку.
– Вот и опять встреча нечаянная, – стоя над Першиным, говорил Барма. – Не надо бы, чтобы он нас видел.
– Дак мы его в речку, и был да нет! – с готовностью откликнулся атаман.
– Увечных не трогаю.
– Как знаешь. Зови своих!
От костра пахнуло мясным духом. Барма, подмигнув хозяину, потер в предвкушении обеда руки:
– Щас кликну. Ты с женкой моей говори погромче – глуховата.
– Как же ты с ней… о разном договариваешься?
– Это она без слов понимает.
Столы стояли в завале. Над ними свешивались кроны густо разросшихся лиственниц. На ближней, от половины ствола раздвоившейся, была прибита доска – седало, на котором постоянно дежурил дозорный. С лиственницы видно реку и окрестности. Стояла на взгорыше, да и ростом была много выше соседних деревьев.
– Бабочку-то твою как величать? – шепнул Замотоха, высвобождая место подле себя.
– Спроси ее сам.
– Как звать тебя, красавица? – на весь лес заорал Замотоха, знаком показывая Даше, куда садиться.
– Чо он орет-то? – шепотом же спросила у Бармы Даша.
– Туг на ухо. Говори погромче.
– Меня – Дашей, – напрягая голосовые связки, в самое ухо атамана прокричала Даша. Голос у нее был крепкий, звучный. – Теперь сам назовись.
– Иван Степанычем кличут. По-уличному – Замотохой, – разминая звенящее от ее крика ухо, говорил Замотоха. – Кушай мяско-то! – прокричал снова.
– Я бы супчику похлебала, – перекрикивая его, выразила желание Даша. – Давно не пробовала.
– Супчику? – рассердился Замотоха, но вполголоса. – Ишь чего захотела! – косясь на нежные руки ее, ворчал атаман. Громко ж выкрикнул: – Будет и супчик, ежели подождешь.
– Я не спешу, – ответила Дарья Борисовна. Барме тихонько пожаловалась на «глухого»: – У, задрыга! Супу мне пожалел!
– Чо бранишься? – удивленно спросил ее Замотоха. Щеки Дарьи Борисовны взялись малиновым цветом.
– Ты разве не глухой? – одолев смущение, спросила она, догадываясь, что Барма сыграл шутку, заставив обоих орать на весь лес.
– Слава богу, слышу ясно. А ты?
– И я не глуха, – дав затрещину мужу, фыркнула Даша.
Все застолье грянуло хохотом. Громче других смеялся сам атаман.
От шума проснулся или пришел в сознание Михайла Першин. Увидав тех, кого искал, просипел:
– Тут беглые… Вяжите!
– Напужал! – хлопнул себя по ляжкам Степша Гусельников. – Страх!
– Испужаешься, ежели в городе ему попадешься.
– Всю жись боюсь – надоело! – выпрямившись, гневно сказал Степша. – Дорого ль она стоит, моя жись? Тьфу!
– Не дорого, да дорожишь, – усмехнулся Барма, подзывая к столу Першина. – Поешь с нами, служивый.
– Мне приказано… Сам светлейший… Слово и дело!
– Не верещи! То живо по башке схлопочешь, – пообещал Барма. Отыскав тряпицу, прикрыл ею пустую глазницу Першина, заглянув в единственный воспаленный глаз. – Егозишь, гоняешь за нами по всему свету. Чем помешали?
– На службе я. Прикажут – исполняю.
– Ладно, поешь. После отблагодаришь за хлеб, за соль – кнутом аль дыбой.
– Служба моя такая, – потупив голову, признался Михайла.
– А то не подумал, что щас ты в нашей власти. Как угодно можем распорядиться, – напомнил атаман.
– Я офицер царский, – забормотал Першин, опершись спиною о дерево. Ноги подгибались. Вчера он вместе с лошадьми провалился в болото. Кучера засосало. Першин, выскочив из возка, уцепился за ветку и полдня просидел в холодной буче, пока на него не наткнулись солдаты, охотившиеся за Замотохой. После стычки с лесными людьми, не приходя в сознание, попал в их руки. Едва очнулся, увидал беглецов, за поимку которых обещаны чин и награда. Вот уж поистине поймал медведя и привел бы, да не пускает. Как выкрасть отсюда беглецов? Как доставить без лошадей в столицу? Разве кого из разбойников соблазнить царской милостью?
– Ты царский, мы боговы, – закипая гневом, проговорил Замотоха. – Хлебнул с избытком щедрот государевых: жену с детьми забрали в неволю. Из конюшни свели последнюю лошаденку, дом на дрова продали. И потому помни: осина рядом. Я таких горлодеров сам лично вешаю.
– Ваня, Ваня, не порть застолье, – уговаривал приятеля Бондарь. Терпелив, спокоен Замотоха, а чаша терпения переполнилась. Клокочет в мужике гнев. Во всем бы народе так клокотал – давно бы обидчиков на Руси вывели.
Барма завел скоморошину, снимая возникшее напряжение:
Ах веселится, веселится
Государыня-царица.
Весел весь честной народ,
Веселяся, слезы льет…
Повтор подхватила Даша, а затем и все лесные люди. Ниже всех утробно выводил Бондарь.
Першин, думавший о бренности жизни, слушал и дивился, что вот лейтенант флота Дмитрий Пиканов, жалованный лично царем, шут царский Тимка и княжеская дочь Дарья Борисовна среди леса, среди разбойников диких чувствуют себя в родной стихии. Отчего ж он, крепостной, сын крепостного, поротый, раненый, отчего ж он, мужик из мужиков, считает себя здесь чужим? Почему преследует этих людей? Ему бы рядом быть с ними! Но нет, Александр Данилович превратит его в пепел, пепел развеет. И – присяга! Верен присяге офицер русский.
– Там солдаты! – спустившись с седала, упредил дежурный. – Много их!
– Слово и дело! – снова выкрикнул Першин и, выхватив пистоль у зазевавшегося разбойника, выстрелил в Замотоху. Барма отбил – пуля чиркнула дерево и весело улетела куда-то в пространство. Першин – откуда силы взялись! – стриганул через завал и кружными путями побежал к реке. За ним, опомнясь, гнались люди лесные. Догнали бы, но поручик с разбегу кинулся в реку, перемахнул ее лихо и, погрозив преследователям, скрылся в тальнике.

– Ну что, братцы, ноги в руки аль бой примем? – спросил Замотоха. Воинство его было разношерстно, но не столь безобидно, как могло показаться с первого взгляда.
– Все удирать да удирать, – начал долговязый мужик. – Надо хоть раз показать зубы. Вон нас сколь!
– Они не в счет, – сказал о гостях Замотоха. – Вот разе Кеша.
– Поможем, – за всех решил Митя. – Расколотим солдат – двинем дальше.
– Ну что ж, ну ладно. Тогда подеремся. Кто голову сложит – схороним по обычаю русскому. Пущай знает: за волю погиб. С богом, робятушки!
Разделились. Митя с одной группой отправился к берегу, Замотоха углубился в лес, а Барма и Бондарь расставляли в завале чурки, подвязывая им вместо ружей палки. Оглядев «войско» свое, отползли в сторону. Барма велел Даше увести Гоньку, сам стал поджидать солдат.
Першин тоже не терял времени даром. Отняв у самоедов карбас, спустил на воду, усадив за весла солдат.
Митя с братьями Гусельниковыми укрепили на носу дощаника тяжелое кормовое весло, привязав к нему ремнями огромный топор, взятый у лесных людей. Топорище намного удлинилось.. Подозвав к себе Степшу, спросил:
– Как топорик?
– В самый раз… по головам бить.
– Вы, – велел Митя остальным братьям, – толкайте дощаник вдоль берега. Только дружно, чтобы карбас опрокинуть. Ты, Егор, вот из этой фузеи стреляй. Умеешь?
– Доводилось.
Егор выстрелом сбил солдата, прижавшего телом своим Першина. Солдаты дали ответный залп, к счастью никого не задев. Першин, лежавший под убитым, злобно шипел:
– Мертвые, что ли? Гребите шибче!
Солдаты приналегли и тотчас оказались подле дощаника.
– Давай! – скомандовал Митя. Он и Степа в четыре руки замахнулись страшным своим топором, снесли голову солдату, сидевшему на носу, другому разрубили плечо.
– Вперед! – гнал подчиненных своих Першин.
Гусельниковы толкнули рывком дощаник. Ударившись в карбас, он опрокинул его. Солдаты оказались в воде. Два тотчас пошли ко дну. Остальные, бросив ружья, поплыли к берегу. Сам Першин нырнул и выплыл много ниже течения, тем самым избежав позорного плена.
Справившись с першинским отрядом, Митя поспешил на выручку Замотохе. Тот, не оказывая себя, следовал за солдатами, которые приближались к завалу. Подойдя на расстояние выстрела, они принялись расстреливать деревянные чучела. Смешливый Степша прыскал в кулак. Суровый Егор, как маленького, драл его за ухо.
– Стреля-ают! Ох-хо-хо! – закатывался Степша. – В кого, дурошлепы, стреляют-то?
Не сговариваясь, Митя и Замотоха ударили по нападавшим с двух сторон. Над головами и без того напуганных воинов страшными голосами взвыли лесные «лешие». Бросив ружья, уцелевшие солдаты кинулись врассыпную. Вслед им с деревьев улюлюкали Барма и Бондарь.
15
Дождь шел, и слюдяные разноцветные окна плакали. И душа у Пикана была в слезах. Ни Тюхин, ни Феша не могли его расшевелить. Привык ко всему и ко всему приготовился: к смерти, к мукам загробным. С одним не мог примириться – с гибелью дочери.
– Синичка моя! – бормотал в седую, мокрую бороду. Лицо, изъеденное слезами, вытянулось, стало уже. Волосы сплошь побелели. Коснувшись их, Феша отдернула руку: в ладони остался большой клок. А там, где коснулась ее рука, розовел гладкий голый череп.
– Ступай домой, краса моя! Я сам, сам себя пересилю, – отсылал Пикан измучившуюся с ним женщину.
– Тебе тяжко. Как могу уйти? – противилась Феша, которой хотелось навсегда остаться в его доме. Доселе не решалась о том заговаривать, теперь осмелела. – Дозволь с тобой быть вместе… Без тебя нет жизни.
– Со мной? – Пикан изумился, отер слезы. Голова, гудевшая от боли, пухла. Пальцы оставляли на ней лысые борозды.
– Не тронь! – закричала Феша. – Все волосы выдерешь.
– Вот потеря, – пробормотал Пикан, сам изумившись дружному выпадению волос. – Жену, дочь потерял, о волосах ли печалиться?
– Без волос не баско. На Семена будешь похож.
– Ох, звездочка! До красы ли мне? Бобылем остался.
– А я-то, Ваня? Оставь у себя, женою стану. Сына, дочь тебе рожу! Мно-ого сыновей, дочерей много.
– Стар я для тебя, милая! Стар, изношен, – осторожно тронув ее узкое плечо, покачал головой Пикан. Вот горе великое пришло, новое горе, но и радость тоже: из черного горя взошла радуга. И за окном тоже радуга. Может, то добрый небесный знак? Может, будет просвет в его беспросветной жизни? Крепок был, а чует – слабнет… Виснут плечи, спина гнется. Глаза без удивления на божий мир смотрят. Ему ж каждый день дивиться надобно. Удивлением освежает себя человек. Удивлением да любопытством. Вот женщинам Пикан удивлялся всегда. Допреж кроткой своей Потаповне. Жила тихо, вполголоса. И отошла тихо. А каких сыновей нарожала! Какую доченьку! «Дунюшку… Нет доченьки, не-ет!»
И – снова хлынули слезы.
– Не стар, Ваня! Нет, не стар! – горячо, быстро возражала Феша. Обычно говорила враздумочку, переводя на русский с родного, с татарского. Слова от этого получались значительные, увесистые, каждое имело свой цвет и запах. И что бы ни произносила татарочка, то было обдуманно и окончательно.
– Спешишь, заря моя утренняя! – Полюбил женщину Пикан, горячо полюбил, верно, да ведь годы с себя не сбросишь. Молода, красива. Ей ли со стариком судьбу свою связывать? – Может, получше меня найдешь.
– Не хочешь – навязываться не стану, – свела длинные брови Феша. – Но и жить без тебя не стану! – решительно заявила она. Потом, погладив себя по животу, тихо призналась: – И семя твое со мной сгинет…
– Ты что? Полная? – едва не задохнувшись от счастливого ужаса, хрипло допытывался Пикан. – От меня?
– От кого же еще? – оскорбленно вскинулась Феша, как лоза разогнулась, хлестнув упавшей косой Пикана. – Не от Семена же. Пустой он, чуж сердцу.
– Тогда оставайся. Но гляди, смугляночка, не пожалей! – еще раз упредил Пикан радостно вспыхнувшую Фешу.
– Не пожалею! Не пожале-ею! – душа Пикана в объятиях, сама задыхаясь, вскричала Феша. Пикан носил ее по избе, целуя, укачивая. Ступал осторожно, мягко, словно боялся разбудить.
Гнулись плахи под ним, вздрагивал голбец, щелкал клювом пристегнутый цепочкой орлан «Теперь, – думалось Пикану, – что меня может сломать? Теперь заново пройду через все муки Токо бы ее уберечь и дите нероженое. Спаси, господи, плод мой во чреве жены моей Феоктисьи, оставь на земле продолжение рода! Нет дочери, сыновья – не знаю – живы ли. Она зачала. Сохрани, господи! А мне пошли любое испытание – сдюжу!»
Феша уснула, а он все ходил и баюкал ее, забыв о времени, о беде, и не слышал, как вошел тихий архиерейский служка, стер завистливую ухмылку. Пикан оглянулся, отнес Фешу в горницу, поправив разметавшуюся темную прядь, вернулся в избу.
– Что надобно, монах?
– Владыка зовет тебя.
– Зачем?
– Зовет, – не разъясняя, повторил чернец и, неслышно шепча молитву, вышел. «Грех творит с магометанкой! Стыд, стыд! Для чего он такой владыке?» А ряса тесна стала телу. Носил и не замечал, что тесна. Вырос, что ли? Так после тридцати зим человек не растет. Перед глазами монашка мельтешил огромный мужик, хмурый и всклокоченный. На руках у него тонкая, как былка, уснувшая женщина… «Грех, грех!» – крестился монашек. Но слова молитвы не успокаивали. Замороженная постом и молитвами душа просыпалась. Плоть тоже.
…Митя с Гусельниковыми готовил к отплытию дощаник. Барма и Замотохины люди искали Дашу и немого. А их, связанных, вели по лесу. Если бы были свободны руки, немой записал бы:
«Ноне стреляли шибко. Постреляли многих. А нас с теткой Дарьей забрали в плен. Куда влекут – не знаем…»
16
Дерзостен, многолик, пестр град сибирский. Русские, татары, хохлы, самоядь, немцы, калмыки, бухарцы, шведы, евреи, поляки – кого здесь только нет! Даже арап по улицам ходит, и никто ему не дивится. Вон у Подкопая, задрав рясу, поп с бродягой борется. Зеваки честно стоят в сторонке. Лишь Тюхин, напоивший борцов, подзуживает:
– За волосню его, Венко! За волосню, чтоб после чертям не за что было в геенну волочь. Эй, отче! И ты не дремли. Дай отроку подножку!
Пыхтят, топчутся. Народ сердится: долго верх никто не берет. Гаврила и сам нетерпеливо притопывает: бороться охота. Но руку его всяк знает, и потому охотников нет. Ехал купец, Яков Кобылин, загорелся:
– Давай поборемся!
Гаврила усмехнулся:
– У нас так не водится, Яков Григорьич! Сперва угощенье выставь. Вон святой отец всем по косушке поднес, потом супротивника вызвал.
– И я поднесу, – уколов хитрыми, с монгольским прищуром глазками, молвил Кобылин. Слова шелком стелются – хватка волчиная. Привезли мальчонкой сюда, купленным. Приглянулся калмычонок бывшему губернатору Гагарину, стал вольным. Теперь наипервейший богач. Владыка и губернатор на крылечке встречают калмыка. Уму и силе его оказывают уважение. А именитый купец нет-нет да и вспомнит удальство степное: то в стенку за свой околоток станет, то взберется на масленке по ледяному столбу.
– Эй! – подозвал он кабатчика. – Кати вина бочку!
Прикатили, дно выбили. Купец первый ковш поднес Гавриле. Потом и сам выпил. Пили, приглядывались друг к другу. Калмык из жил свит, кривоног, остойчив. Хоть и богач, а не расползся, как многие толстосумы. Купец тоже прикидывал, в чем слабина у противника. «Ну ништо, – решил Гаврила, – я его через голову, на рога поставлю».
– Зябко чо-то, – сказал с усмешкой. – Наливай ишо по ковшичку! Мне, чтоб духу набраться, надо полудюжину мерок.
– Пей. И я не отстану, – скидывая простой посадский кафтан, поддержал купец мастера. Знал, лукавый: перечить – себе же хуже сделаешь, до поры поддакивал, но пил вполсилы.
– Гаврила-мастер с купцом Кобылиным борются! – от Подкопая до кремлева кабака раскатилась шумная весть; народ, праздновавший пасху, повалил вниз. Будет нынче потеха: два силача, два гуляки. С побежденного – бражникам калым. Победитель сам поделится. Туда, туда, люди! Слышите, все туда!
Шумят чайки над Иртышом. Грачи над тополями шумят. Шумят люди. На звоннице мерно, как бы отдыхая после всенощной и заутрени, гудит большой колокол «Празднуйте, люди добрые, тешьтесь! Успевайте, пока не настали будни!»
Борцы выпили по шестому ковшичку. Степанович, словно забывшись, рассеянно протянул руку в седьмой раз.
«У, данаид! – досадливо поморщился Кобылин, обнаруживая знакомство с античными мифами. – Не отяжелеть бы!»
– Будет, будет, Гаврила Степаныч! Людям не достанется, – шутливо одернул мастера, пробуя остойчивость ног, обутых в козловые сапоги.
– Мало – другую выкатим. Не за твой, дак за мой счет, – подмигнул Тюхин, охлопывая себя по плечам, по груди. – Вот, кажись, согрелся. Готов ли, Яков Григорьич?
«Не совладать, – чуя жестокое опьянение, тоже охлопывал себя Кобылин. – Токо народ насмешу».
Махнув рукою, зачерпнул еще ковшичек, лизнул край, рухнул и нарочито захрапел.
– Купец-то от страху кончается, – сказал кто-то из толпы.
– Хмель его уронил.
– Жалко. Не поборолись, – огорчился Тюхин, натягивая кафтан. Одевшись, взвалил купца на себя, понес к бричке. Купец вдруг ожил, трезвым, веселым голосом на всю площадь провозгласил:
– Глядите, люди! Я наверху! Гаврила-мастер мной побежден!
– О-от лешак узкоглазый! – кинув его в бричку, расхохотался Тюхин. Смех подхватила толпа.
– Ну купец! Ну потешил! Ишь говорит! Поборол, говорит!
– Твоя взяла, Яков Григорьич, – по достоинству оценив его шутку, добродушно согласился Тюхин. – А винцо все ж таки выставляй.
– Уж это как водится, – кивнул Кобылин и велел выкатить вторую бочку. Сам, поклонившись народу, поехал в кремль, на обед к владыке.
Брюзжал, что переступил в питье меру, а в душе творилось что-то хорошее. Вот и высоко взлетел над людьми, а связан с ними одной пуповиной, с самым распоследним нищим связан.
«Живу на земле. В одном городе. Одним воздухом со всеми дышу».
Утро выявило себя красно. Дымки курчавились над домами. На сломленной черемухе вовсю скрежетали скворцы. Не ожило еще дерево, наклонив голову, не то дремало, не то вечным сном спало. А скворцы и юркий воробышек прыгали с ветки, на ветку, будили его: «Вставай, вставай!» Авось разбудят.
Кобылин остановился подле черемухи, сорвал мягкое копьецо-почечку, растер между пальцев.
«Жива ведь! – подумал радостно. – Жива!»
Почка пахла душисто и сладко.
Оживет, распустится дерево, обрядится в белое убранство. А люди начнут ломать его, корежить. Беда! Но любят, любят люди черемуху! Любят, потому и воруют ее, потому и делают ей больно.
Растеплилось. Из белого марева вышло красное, словно только что из бани, солнце. То пряталось, не объявляя себя, и думалось, грянет в Христово воскресенье ненастье, лишит людей высокой светлой радости.
Кедрач за рекою заголубел, потом стал хмуро-зеленым и, наконец, высветился совсем. От земли пошел пар. Солнце, еще красное в середине, сверху и снизу взялось багрецом: быть теплу, быть жару весеннему! За один день явит себя земля, доселе таившая красоту и силу. За один день травка выплеснется; за один день или, может, час распустятся первые почки.
Воскресенье, светлое воскресенье! Это и грачи чувствуют, важно вышагивающие по косогору. На звоннице галки галдят, сердятся, что звон колоколов заглушает их пронзительные крики. А звон важный, торжественный, падает с белой звонницы вниз, несется с тихим ветром через кусты, через лужи к болотцу, у которого задумалась лягушонка. Задумалась, повернулась боком к звону, сама издала какой-то неясный слабый звук. Это не было еще кваканье, но, возможно, было выражением восторга живого существа перед жизнью сущей.
Умчался Кобылин.
Медленно, под ноги взор уставив, бредет посадом Пикан. В руке его ветка березы, белой, с черными родинками, с почечками, одна из которых лопнула, и в утробе ее, словно телок мокрый, завозился лист.
«Принесу, Феше на окошко поставлю…»
Все Феше теперь, все для Феши. Одна утеха, один свет в окне. Больше-то не для кого.
Луч солнечный проник в чей-то курятник, и там загорланил петух. Вдруг шершень больно тюкнул Пикана в висок. Поймав его, Пикан улыбнулся, принял его на ладошку. Летун лежал, задрав лапки: сильно ударился – оглох. Но вот зашевелился, стал на ноги и, оглядев выпученными глазками пространство, пополз. Лети, крылатик! Век твой недолог. Только смотри зорче перед собой, не то опять обо что-нибудь стукнешься, и – в лепешку.
Пьянит весна всех подряд: человека, дерево, скот, птицу. Вон жеребенок каурый, задрав куцый хвостишко, взбрыкивая, несется с горы. Запряженная кобылица тревожно зовет стригуна к себе. А пьяный седок воротит ее в другую сторону, к толпе, к Подкопаю. Пропьет лошадь, пропьет жеребенка. А не пропьет – в бегах запалит. Лошади здесь дешевы. Люди богаты.
– Сосед! Соседушко!
Пикан оглянулся. В толпе гуляк, только что кинув кого-то на лопатки, маячил Гаврила Степанович.
– Что ж не поборешься?
– К владыке иду.
– Звал, что ли?
– Звал.
– Айда вместе. Похристосуемся. Он мне парсуну заказал. Намалюю ему парсуну, ежели примет с почетом. А не примет – шиш! – Гаврила Степанович сложил внушительный кукиш, рассмеялся.
Легко живет человек, беззаботно. И работа ладится, и дома у него все чин чином. «Мне бы так!» – позавидовал Пикан и решил признаться.
– Феоктиста у меня опять…
– Радуйся. Баба-ягодка!








