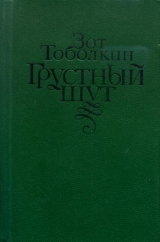
Текст книги "Грустный шут"
Автор книги: Зот Тоболкин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 21 страниц)
– Что ж, – заключил он тут же, – с тебя и начнем. – И отпластнул Политику ухо, бросив его под ноги. Осужденный не на шутку испугался.
– Дак ты ишо недоволен? – возмутился судья и велел посадить Политика к колышку. Ухо подле колышка «приросло».
«Он не такой уж идиот», – думал Фишер, вспоминая, где слышал этот голос.
Потом настал черед Пииты, которого изображал заяц. Заяц расхаживал перед воеводой, держа в лапках засаленную бумажку, кланялся влево и вправо, словно и впрямь читал вирши.
Воевода смеялся, вспоминая придворных виршеплетов, очень похожих на косого.
– Молодец, молодец! – хвалил воевода, угощая зайца морковкой. – Льстишь умно.
– И должности при дворе не просит, – подхватил судья. Погрозив зайцу, сказал: – Ладно, что угодил, а то быть бы тебе в подземелье.
Заяц вспрыгнул к нему на плечо и принялся за морковку.
«Нет, я определенно его слышал!» – напрягал свою память Фишер.
Судилище продолжалось. Судили фискала, весь век вострившего ухо, отчего голова его перекосилась на сторону. Он доносил на всех подряд, в том числе и на воеводу. Доносил зло и опасно. Воевода поежился. Когда ж доносить было не на кого больше, донес на самого себя. За то и попал в подземелье. Мальчик – это был Гонька, – который вел его к колышку, пытался выпрямить кривую шею фискала.
– Не тронь! – зашипел тот злобно. – А то скажу, что кривое прямым сделать хошь.
Последним судили маленького, с беспокойными руками человечка. Он шарил по кафтану, по стенам, словно обирал что-то.
– Чо ощипываешься? – полюбопытствовал судья. – Блохи кусают?
– Гвоздик ищу, – ответил человечек. – Люблю гвоздики из стен вытаскивать.
– На кой тебе столько гвоздей?
– А не на кой. Для души дергаю.
– Ишь ты, для души! Коли так, иди дергай, – разрешил судья.
– Да нечего! – пожаловался «гвоздодер». – Все выдергали, все разворовали. Хотел заколачивать, да боюсь, как бы не украли…
– Барма! – вспомнил наконец Фишер, узнав «юродивого». И голос, и фокусы эти, и заяц – все обличало старого знакомца.
– Досудить не дал, – освобождаясь от маскарада, усмехнулся Барма. Скинув балахон, предстал в обычном своем виде: хитрое, озорное лицо, волос сугробом. За кушаком – топорик, на плече – зайка, купленный в Сулее у скоморохов.
– Ты обещал мне продать карту, – напомнил Фишер.
– Продать недолго, – играя с зайцем, ответил Барма. – А на кого невесту бросишь?
– Иоганн! Ты собираешься меня бросить? – заломила руки Гретхен.
– Мы плохо приняли тебя, мой друг? – замораживающим голосом спросил воевода. – Или ты брезгуешь со мной породниться?
– О, что ты, Питер! Я просто счастлив! – смутившись, залепетал Фишер.
– Тогда зачем же тебе карта? И зачем корабль? – неумолимо пытал воевода.
– Я собирался в Сибирь, пока не встретил тебя и Гретхен.
– Прекрасно. Ты не пожалеешь об этом! – обещал воевода.
Барма тотчас же уцепился за выгодный для себя случай:
– А кораблик пущай нам сбудет. У нас и команда есть, и капитан. Его сам государь… – Барма осекся, но тотчас выправился. – Сама государыня благословила. Плыви, говорит, северным окоемом. России, говорит, новые пути нужны, новые земли.
– Да, да, – закивал воевода, велел подать себе и Фишеру чаши.
– Но шхуна стоит очень дорого, – нашел еще одну отговорку Фишер.
– Не дороже денег, – отмахнулся Барма, сняв с шеи мешочек, в котором носил драгоценности. Достав три рубина, спросил: – Поди, хватит?
– Мало, мало! – замотал головой Фишер, хотя рубины были великолепны.
Барма без лишних слов достал ожерелье, нарочно положив его перед Гретхен. У той заблестели жадно глаза.
– О, Иоганн! Какой прекрасный жемчуг! – вожделенно застонала невеста.
– И он подарит его тебе, – заключил воевода. – Камни, разумеется, тоже.
– Но моя шхуна! Она так дорога мне! – чуть не взвыл Фишер.
– Надеюсь, не дороже невесты? – сухо поинтересовался воевода. В глазах его сверкнула молния.
– Я оставлю тебе дощаник, – успокоил Барма. – На нем тоже можно плавать. Мой дед в Мангазею на дощанике плавал.
Прихватив Гоньку и Бондаря, Барма поспешил на остров.
– Токо бы Першин не опередил! – опасался он. И – не напрасно.
Першин – легок на помине – рвался к воеводе, но тот, закрывшись с сестрой и Фишером, приказал никого не пускать. Гретхен, вертясь перед зеркалом, примеряла жемчужное ожерелье. Воевода разглядывал рубины.
– Послушай, Иоганн, ты не прогадал, избавившись от шхуны. Зачем рисковать в твои годы?.. Там кто-то шумит, – вслушался воевода. – Успокойте!
Шумел Першин. Увидав Фишера, истошно заорал:
– А, и ты тут, субчик! Давненько тебя ищу!
– Тише, тише! – поморщился воевода. – Ты его с кем-то путаешь. Это мой зять.
– И ты заодно с ним? – взревел Першин, хватая воеводу за воротник. – Слово и дело!
– Он сумасшедший! – Воевода приказал увести поручика, сам стал расспрашивать Фишера, что это за крикун. Выслушав, заключил: – Что ж, я заступлюсь за тебя перед царицей. А тех арестуем.
Но солдаты, посланные на берег, опоздали. Митина команда, выкинув перепившихся Фишеровых матросов, уже успела перебраться на шхуну. Поставили паруса и вскоре вышли в открытое море. Фишер остался без камней и без шхуны. Зато заполучил себе жену.
– Ай да мы! – хохотал Барма, перед тем снявший парус с дощаника. – Хитреца перехитрили!
На плече его ухмылялся зайка. Митя был серьезен. Мечта его наконец исполнилась: появился собственный корабль. Плыви на нем хоть на край света.
– Если Фишер не догонит, – усмехнулся Барма, указав в сторону Сулеи. Фишер, объединившись с Першиным, кинулись вдогон.
– Зря они, – покачал головой Митя. – У нашей шхуны ход лучше.
– А он не за нами гонится, – зубоскалил Барма. – Он от молодой жены убегает.
– Мы-то куда теперь? – спросил Бондарь, успевший в Сулее наполнить свои «вериги».
– В ту землю, которую ищешь, Кеша, – ответил Барма и запел скоморошину.
Часть третья
1
То шли, то плыли.
Орлан рвал из Спириных рук рыбу, клевал цепь, руки, когда вскипала приглушенная тоска по воле. Но Спиря подсовывал ему рыбку за рыбкой – царь птиц всплескивал отяжелевшими крыльями, мирился с неволей. Что нужно еще? Пищи вдоволь, гнезда не строить, орлят не кормить – клюй да клюй. Хочется побуянить – взмахни крылом, задиристо крикни, это можно. Не забывай, однако, что ты на цепочке.
Трубил трубач в Тобольске, славя наступающий день. Или – просто трубил? За это его кормили и одевали. Князь был доволен своей судьбой.
Медведь на архиерейском подворье крутил колодезный ворот, только за водой к колодцу ходить перестали. Зверь одичал от бесполезной, скучной работы. Достав бадью из колодца, недоуменно рычал: воды в бадье не было. Медведь трудился впустую.
Владыка торопил итальянца: «Пока жив, хоть одним глазком хочу поглядеть на родник Моисеев!» Пинелли спешил. Сотня лошадей тащила добытый из недр Урала невиданной величины красный камень. Из того камня вырубит итальянец красного Моисея. Взмахнет пророк мечом, и потечет из красной скалы, как кровь, красный источник.
Кони натягивают постромки. Ямщики бранятся и секут взмыленные бока лошадей. По вершку, по аршину продвигается вперед громоздкая каменная гора, которой суждено стать Моисеем.
Выдохлись кони. Ямщики выдохлись.
Спешат на подмогу посланные губернатором драгуны. Итальянец ликует: «Уж теперь-то я на полпути не остановлюсь! Да! Я выстрою свой город!»
Припрягли еще три дюжины лошадей. По выстрелу лошади дернули вразброд – камень сдвинулся, придавив трех мужиков… Родник красный забил до срока.
Под вопли жертв дружнее дернули осатаневшие кони, и кто-то робко сказал: «Назад сдать надо: люди под камнем!» Капитан Тюлькин огрел болтуна ножнами сабли. Гора проползла по людям.
Луиджи Пинелли бежал впереди и ничего не заметил. Он глядел в будущее и потому настоящее его не занимало.
Одной из жертв оказался цыган Янко. Марья Минеевна осталась вдовой.
Трубил князь на сторожевой башне, отрешенно глядя в высокое небо. Едва проснувшись, навсегда уснула душа князя. Ни честолюбие, ни корысть – ничто теперь ее не разбудит.
А труба трубит. Она похожа на только что раскрывшийся золотой цветок. В развернутой чаше алое солнце. Оно оглядывает землю от Южного полюса до Северного и, возможно, видит большой черный парусник, на борту которого еще совсем недавно красовалась загадочная надпись «Арес». Ее замазали, дав кораблю название попроще – «Светлуха».
Бежит, качается на волнах «Светлуха». Ее преследует кораблик поменьше. Но солнце и его видит, и видит, наверно, изможденного человека с повязкою через лоб, Першина, подвижника в своем роде. И – Фишера, которому изменила удача. От неудач он занемог и вряд ли теперь поднимется.
Где-нибудь, хоть и не скоро еще, оба судна встретятся. Тот, кто хочет открыть, откроет. Кто хочет догнать – догонит.
А мальчик, еще недавно немой, все это запишет.
Спасибо мальчику, еще недавно немому. Хоть и коряво, но донес он до нас случившееся.
2
Легко ли воде, корабль несущей? Легко ли кораблю с людьми на палубе? А людям с их бесконечными дорогами, с их пестрыми судьбами легко ли? Что гонит их через эти серые волны?
Бросают волны корабль то носом в бездну, то кормою, то кладут на борт, и тогда волна, шипя, как масло на сковородке, прокатывается по палубе. Человеку, непривычному к морской качке, муторно. Муторно и Даше с Гонькой. Оба пластью лежат. Гонька за все дни плавания записал в судовом журнале одно только слово: «Помираю». Но слава богу, юнга ошибся.
Бондарю, душе сухопутной, тоже худо. Его качает по двум причинам: от моря и от вина. Два раза смывало сонного за борт. Вылавливали – он требовал себе ковш и безгрешно засыпал.
Митя каждое мгновение занят: он и за навигатора и за геодезиста.
– До чего дошел человек, – подмигивает Барма смешливому Степше Гусельникову, – землю с морем положил на бумагу…
Куда ни глянь, однообразное тусклое пространство, лишь островок малый нежданно возник на нем, да вон вдали косатка играет, бросая над волнами могучее тысячепудовое тело.
– Страх-то какой! – забыв о болезни, его донимавшей, следит за гигантским зверем Гонька. – Прямо гора летящая!
– Вот и запиши в журнал, юнга: «На широте…» – Митя высчитывает координаты и велит Гоньке отметить, что в этом месте встретились в море с косаткой.
– Неужто мы первые здесь? – вслух размышляет Барма.
– Не первые, братко. Наверняка не первые. Потому как беспокоен человек, вечно стремится куда-то. Но карту мы первые составляем. Это я точно знаю.
Даша, бледная от духоты и недуга, кое-как выбралась на палубу. Волна кинула шхуну в пропасть, словно хотела переломить. Барма подхватил жену на руки, заботливо усадил на канатную бухту.
– Кок-то из меня – ох, – через силу пошутила Даша.
По времени – вечер, серый и долгий, однако над мачтами висит солнце, позолотившее слабенькие облака. Сами небеса холодны и серы, и столь же холодно и неприветливо море, над которым горланят птицы. На корме устроился альбатрос.
Море здесь неглубокое и, видимо, от скал подводных полосато. Егор часто вымеряет глубину лотом.
Судно, черное, широконосое, под черными пиратскими парусами, летит к светлому горизонту. Там дождь с грозою, там радуга. Над морем, ближе к судну, еще одна радуга, поменьше. И кажется – зверь какой-то с детенышем склонили цветные гибкие шеи и пьют, пьют из моря и не могут напиться. Может, это жираф с теленком? А может, змей красоты сказочной?
Нет, не выпить им моря. И, словно поняв всю тщету усилий, цветные змеи стали бледнеть и скоро исчезли. А Гонька записал в журнале кратко:
«А нынче видели две радуги. Будто кони запряжены в дуги с лентами. Ох, Кирша, Кирша! Видал ли ты ленты такие? Тоскливо мне без тебя…»
3
Так и плыли: все ровня, ни чинов, ни рангов. Братья, с малолетства приученные к морю, слушались Митю и Егора беспрекословно. Понукать их не приходилось. Вот только один, пока еще не зачисленный в команду матрос был непослушен, бил ножонками, отчего Даша переламывалась надвое и часто скрывалась в трюме от чужих взоров.
– Просится? – посмеивался Барма и, положив ладонь на ее чрево, слушал, как рвется на волю его сын. А что сын это – Барма не сомневался. – Выпускай его поскорей. Наскучило парню в темноте.
– Рада бы, пора не приспела, – печально кривя губы, говорила жена. Не выдержав боли, вскрикивала, жаловалась: – Ох, Тима! Боюсь…
– Чего, дурочка? Когда это баба русская рожать боялась? Меня вот мать на ходу родила в дроворубе. Потому и люблю я лес. И зверя люблю. Зверь ко мне тоже добр. Так, Зая? – Зверек затряс длинными ушами, в подтверждение чихнул и тронул за щеку лапой. «Хороший, добрый ты человек», – говорил его преданный и бесхитростный взгляд. Барма ценил эту привязанность. Из всех четвероногих выбирал самых слабых. Да и среди людей не искал сильных, и потому беззащитным людям с ним было надежно. И люди и звери отвечали ему преданностью, слушались и служили, точно Ивану-царевичу, помогая в беде и в горе.
«Может, он тоже из сказки? – влюбленно глядя на мужа, думала Даша. – Родить бы ему сына, такого же дерзкого и зубастого. В море родить, окрестить в купели соленой…»
Корабль мчится. Свободные от вахты матросы слоняются по палубе, пристают к выздоровевшему Бондарю, учат плясать увязавшегося за судном альбатроса. Тот лишь машет неловко крыльями, скользит по палубе и жалобно вскрикивает. Братья смеются, забыв, сколь жалки и беспомощны были недавно сами.
– Эй вы! Не троньте птицу! – одергивает братьев Барма и велит сесть им в кружок. – Сядьте да лучше про себя расскажите. А Гонька про все про это запишет. С тебя, что ли, начнем, Егор?
– С меня? – испуганно ущипнул редкую бороденку Гусельников-старший. – А чо я буду рассказывать?
– Все. От рождения до этого часу.
– Это святые жития сочиняют. Кому жизнь моя интересна? – Егор обиделся: «Зачем пытает этот насмешник? Наверно, в дураках выставить хочет. Негоже старшему перед младшими ронять свое достоинство». – Начинай с Петра. Я глубину пойду померяю.
– Можно и с Петра, – Барма не настаивал. – Давай, Петруха, наворачивай про свое житье. Раз уж в братство меня приняли.
– Не знаю я, про чо наворачивать, – угрюмо насупился Полтора-Петра.
– Такого не бывает. У поденки за день и то много чего наберется. А ты тридцать лет прожил. Ну, смелей! Гонька, востри перо!
– Дак я это… Я… – Петруха надолго задумался, но Барма напомнил ему толчком в бок. – Раз уж надо, скажу. – А сам слова выволакивал из себя крючьями. Пока тащит одно да выговаривает, другие уж забываются. – Ну вот, родился я, значит… вас встретил, значит. Теперь, значит, плаваю…
– Все, что ли? Ну, Златоуст! – рассмеялся Барма, оглядев смущенных братьев. – Да ежели всяк человек столь же рассказывать о себе станет, то лет через сто нас с вами из памяти вычеркнут. Прав я, Гонька?
– Прав, Тима, – ответил мальчик, пожалев в душе косноязычного и нескладного Петра. Когда работает человек – бот чинит или мат вяжет, – им залюбуешься. Руки много красноречивей его языка. Запугали мужика, забили, – вот и стесняется, боится людей. Во всяком недруга мнит. А здесь друзья собрались, товарищи.
– Разъясню-ка я, Петруша, каков ты есть человек. И умный, и честный, и все на свете умеешь. И руки твои сильны и ловки, и сердце отзывчиво.
– Пошто насмешки с меня строишь? – обиделся Полтора-Петра. Чуял, не к добру вовлек его в круг Барма, – сбежать бы. Но корабль мал, куда сбежишь? И большак – тоже хорош – вместо себя подсунул.
– Сиди, – властно остановил Барма и, поудобней усевшись, начал: – Произвели Петрушу на свет в достославной деревне Кошкиной…
– То правда, – подтвердил Петр. – Гусельниковой звалась ране. Да кошек в ей много развелось: вот и прозвали Кошкиной.
– Хотел первым родиться, – дав высказаться ему, кивнул Барма одобрительно: гляди-ка ты, разговорился Петруша-то! – Да опередил его брат старший, Егор. Родился Петруша вторым и за то на весь белый свет разобиделся. А пуще всего на родителей. Неладно-де, милые: перва очередь-то моя! «Да что? – всполошился тогда отец. – Егорушку-то обратно запихать, что ли?» «Ладно уж, – смилостивился Петруша, – пущай присутствует». Вот и присутствует на земле Егор по милости брата, и сам того не подозревает.
– Врешь, Тима. Такого я не говорил, – буркнул Полтора-Петра, однако затылок почесал: верно, завидовал он большаку, от которого немало износил шишек. Разница в возрасте всего лишь год, а малым был, думал: «Хоть бы уж обратно его родили!» Как бес этот, Барма, в мысли мои проник?..»
– Ну вот, – хитро прищурясь, продолжал Барма, – по садам, по огурешникам стал шастать. А роста был долгого – отовсюду его узнавали. Иной раз и убежит, а все одно сыщут да выстегают крапивой. Секли, Петруша?
– Секли, секли, – дружно подтвердили братья. – Всем доставалось.
– Штаны Петруша до жениховства не носил. Соткала мать полотно. Бога-атые Петруше порты сшила. С пуговицей. Примерил он их да тут же и снял, чтобы мать пуговицу перешила. Тут сваты пришли невесту сватать. Заторопился Петруша, штаны дома забыл. Пришел к невесте, хотел похвастаться: вот, мол, штаны заимел новы не хуже, чем у иных-прочих. Приподнял подол рубахи, у невесты памороки замутились… «Чо испужалась, лапушка?» – «Да пуговица велика больно!» – «Это чо, – утешил ее Петруша. – Ты бы на братана моего поглядела, на Степшу. Тому поболе пришили». – «Хочу Степшину пуговицу посмотреть! – закричала невеста. – А ты уходи от меня, бесштанный!» Токо тут Петруша и понял, что явился к ней без штанов…
– Так и не женился он. Да и за Степшу невеста не вышла, – дав просмеяться братьям, продолжал Барма. – Захомутал братьев Тереха Каменев. Мать с отцом к той поре умерли. Тереха дал на обзаведенье двадцатку. Те денежки братьям до светопреставления не отработать бы, да встретились им добрые люди.
– Верно, паря. Вот это верно! – дружно закивали братья, благодарно заулыбались. – Уж таки добры – мы за вас век бога молить должны. Про Пётру-то все, что ли, поведал?
– Чего не поведал, то Гонька досочинит, – ответил Барма, с тревогой поглядывая на ближние острова. Из-за них выплывала черная низкая туча.
– Теперь Матвеев черед! – кричал Степша, которому больше всех пришелся по душе рассказ Бармы.
– По местам! – скомандовал Митя. – Ураган надвигается…
Барма увел Дашу с Гонькой в трюм.
4
Везде люди живут. И – умирают везде. Велик, просторен мир, но в нем встречаются, как сейчас встретились с Минеевной. Обзавелась домком, только не весело в нем. Цыган, как жив был, промышлял ямщиной, домой редко заглядывал. Теперь и вовсе одна осталась, да не знала о том.
Обнялись подруги, всплакнули на радостях, потом затрещали. И, махнув рукою на них, Пикан со Спирей отправились по селу.
Богатое село, справное. Стоит над рекой. И скота вдоволь, и лесу. В реке рыбы полно. Базар хоть и победней тобольского, а шумит. Татары лошадьми, сбруей торгуют, остяки – рыбой, бисерными кисетами, костяными ножами, лодками. Одна долбленка приглянулась. Пикан взял, дав за нее какую-то безделицу.
– Спаси бок, музычок! Спаси бок, – кланяясь, бормотал продавший лодку остяк.
– Крещен, что ли? – удивился Пикан, которому здешний Север был в новину. И народ отличался от суровых и замкнутых поморов. Особенно простодушны были вот эти узкоглазые люди.
– Крессеный я, как есть крессеный! – радостно закивал остяк и показал Пикану крохотный медный крестик. – Самсонка, поп, крестил. Знас Самсонку? Загнал в реку, покрицал маленько. «Крессены», – сказал.
– Простая душа, – улыбнулся Пикан и подарил охотнику нож. – Бери. На промысле пригодится.
– Пригодится, спаси бок. Нозык сыбко хоросый. И селовек ты хоросый. Вот пызык, возьми бабе на воротник.
– Не надо, оставь. Вещь дорогая.
– Тогда и нозык не надо, – обиделся остяк. – Тозе весь дорогая.
– Ну, будь по-твоему, – уступил Пикан и забрал с собой пыжик. – Дом-то твой далеко ли?
– Два дня плыть. Мозэт, три. Айда ко мне в гости. И ты айда, – пригласил он Спирю, одарив его кисетом с бисерными узорами.
Спиря счастливо затыкал, стукнул охотника по спине. Пожалуй, перестарался. Остяк, видно, не раз битый, согнулся от удара, закрыл руками лицо.
– Не бойся, – сказал Пикан ласково. – Он тебе друг. Сказал бы о том, да слов не хватает.
– А, латно, – опять заулыбался остяк и снова пригласил их в гости. – Гуляйте пока. Стретимся.
– Ладно, встретимся.
В хлебном ряду – мука ржаная, пшеничная, зерно всех видов, крупы на всякий вкус. Тут же пирожки, шаньги, лепешки, квас, мед, сбитень. Дальше – винные лавки, здесь людно, весело, много мух. Кто-то уж покорился вину, рухнул наземь. Через него переступают порой, без умысла выплеснув остатки, обливают вином. Облизнувшись во сне, питух сгонит надоевшую муху, перевернется на другой бок и продолжает храпеть.
А базар кишит людьми, разномастны они, разноплеменны. Вот прямой и важный, словно к доске спиною привязан, вышагивает англичанин. Глаза холодные, губы узкие. Говорит сквозь зубы, кривится. Обошел пьяного, процедил презрительно:
– Дикари! Вшивцы!
– Бедный, ошень бедный страна! Но богатства ее неисчислимы, – отозвался спутник его, добродушный, румяный толстяк в лиловом камзоле. Говорил отрывисто, уминая горячий пирог с маком. – Задохнется она под туком плодов своих.
– Не задохнется, выгребем! На то есть Европа. В Европе – Англия, – без стеснения, громко говорил по-русски англичанин, выказывая русским дикарям все свое презрение. – Я открою здесь фабрику. Я привезу сюда… – Он испуганно взвизгнул.
Спиря подле игрушек зазевался, выпустил цепочку. Орлан воспользовался этим, взлетел, ударив крылом англичанина. Тот, пережив испуг, выстрелил. На Спирю брызнула птичья кровь.
– Ааа! – юродивый в ужасе закрыл руками лицо, упал наземь и застонал, словно выстрелили в него. Привязался к птице, которой от простой души доказывал, что незачем рваться в небо. «Я вот хожу по земле, и в полет меня не тянет…» Орлан глядел на него сердито, протестующе клекотал, тряс крыльями. И взлетел, улучив миг, но в голову ударила злая пуля. Он бился в крови на земле, а крылья еще стремились в полет. Умер орлан в полете…
Заложив пистолет за пояс, англичанин невозмутимо прошествовал мимо, пытаясь найти ненадолго утерянную нить разговора.
– Так вот, я утверждаю… хррр, – вместо слов, умело и ловко составленных, раздался хрип, хряск. Чьи-то жесткие, сильные пальцы сдавили узкое горло. Глаза вылупились, напряглись шейные позвонки, и мистер, словно тряпичная кукла, свесился из Спириных рук. Его толстый приятель с недожеванным пирожком во рту икал и испуганно таращился на Спирю и на Пикана.
– Пусти ты! Пусти! – разжимал Пикан закостеневшие пальцы юродивого.
Спиря безумно мотал головою, плакал и не выпускал ненавистной глотки.
– Пусти! Человека загубишь…
– Он птичку мою убил! – бормотал Спиря. Пикан с огромным трудом расцепил его схваченные судорогой пальцы. Кадык англичанина шевельнулся. Изо рта пошла кровь. Он был еще жив, и толстяк, наконец выплюнув пирог, стал приводить его в чувство.
– Он птичку убил, – жаловался окружающим Спиря и указывал на хрипевшего иностранца.
– Недодавил, жалко, – сказал кто-то. – Шныряют здесь сволочи. Чего вынюхивают?
Голос показался знакомым. Пикан оглянулся и встретился взглядом с Красноперовым.
– А, ты! – ликующе воскликнул таможенник, приказав казакам, его сопровождавшим: – Возьмите его!
– Прочь! Я владыкою послан! – отбрасывая казаков, сказал Пикан.
Казаки, отряхнувшись, накинулись снова, но рядом стоял Спиря, да и народ торговый посматривал на таможенника угрюмо.
– Пошли в управу. Слышь ты? – визгливо требовал Красноперов, вести силой, однако, не отважился. И казаки стояли в растерянности.
– Пошуми ишо, – буркнул Пикан и направился через рыночные ворота.
Красноперов послал за ним мальчишку:
– Дам полушку. Проследи, куда пойдет.
Спиря шел следом, держа под мышкой убитую птицу.
– Да не реви ты! – Пикан остановился на берегу, вырыл для орлана ямку, но хоронить птицу Спиря не дал.
– Читай молитву, – сказал.
Пикан собрался было возразить: мол, птицы – не люди, но, поразмыслив, спорить не стал. Может, и впрямь и у птиц есть душа. Бабка Агафья сказывала, что птицы – как раз человечьи души. И звери тоже. Может, так оно и есть. Ведь понимают же звери Тимку, стало быть, есть у них разум. Никогда не задумывался – надо ли убивать зверя. Зверь – мясо, зверь – шкура. Человек живет и должен есть, должен что-то носить на себе. Но ежели не зверя, не скотину, не птицу, а человечью душу ножом аль пулей кончаешь, тогда как?
Однажды сказал об этом Гавриле, тот хмыкнул.
– Чудишь, сосед! Не о скотине и звере – о людях думай. На то ты и поп.
– О людях… А звери кто? И кто птицы? Запутался я. Просвети меня, господи!
Однако молитву над мертвым орланом прочитал, обмахнул его, как усопшего христианина, двуперстием.
Парнишка, посланный Красноперовым, вернулся на рынок:
– Там они, возле гарей. Орла хоронят.
– Балда! – Вместо обещанной монетки Семен дал посыльному подзатыльник и отправился на поиски сам. Пикан со Спирей куда-то бесследно исчезли.
«Знать-то, зашли к кому», – решил таможенник и, крадучись, двинулся верхней улицей, заглядывая чуть ли не в каждую ограду.
5
– А Янко крестился, – сказала Минеевна, но радости в голосе не было. Потускнела она, где-то повытрясла свое озорство. А много ли времени прошло? – Яковом назвали… токо обошлось это недешево.
Еще не знала женщина, что Янко, ее Янко, теперь Яков, уже мертв. И камень над ним протащили, красный камень, которому суждено стать Моисеем.
– Да што так-то? – удивился Пикан. – Я бы его окрестил бесплатно.
– Уж думаю, надо ли было? И некрещеные живут. Тоже люди.
– Брусишь чего-то, – рассердился Пикан, задвигав бровями. – Ишь язык распустила!
– Окрещен-то через грех, – сухо, рассыпчато посмеялась Минеевна. На щеку выкатилась слеза, потом другая. И бежали, догоняя друг дружку, словно ягнята по лугу, весело, быстро. Душу женщины давили печаль и стыд. – Поп его здешний крестил, Самсоний. Не я бы, дак не окрестил, – с обычной прямотою добавила она.
Пикан и Феша потупились. В горнице надолго повисла нестерпимая, душная тишина. «Как же… именем церкви Христовой такие пакости вытворяет?» – думал Пикан о незнакомом своем собрате. Уж лучше бы провалиться сквозь землю, чем выслушивать откровения Минеевны. Ведь если человек перестанет верить в бога, то во что кроме верить ему? Царям доверия нету, добра и правды от них не жди. Отечеством правят жулики и чужедеи. Одна надежда на слуг божиих. А слуги божий с дьяволами не разнятся.
– Пройдусь я, – Пикан поднялся, жестом остановив встревоженную жену. Поняла, видно, что встал неспроста. – Побудь тут. Мы со Спирей просмолим лодку. Течет наша лодка, как бы не затонуть в пути.
И вышел, оставив наедине расстроенных женщин. Обе знали: лукавит Пикан, а идти за ним не посмели.
– Любишь цыгана-то своего? – чтобы не молчать, спросила Феша. Знала: не от хорошей жизни сбежала из дому Минеевна. Кабы с любимым, так ладно, а то со случайным, почти незнакомым человеком.
– Жалею… Слабый он. Души во мне не чает. А я все о том тоскую, – вздохнула Минеевна и с безнадежностью все осознавшего человека бодро улыбнулась. – Да он уж, верно, забыл про меня. Поди, деревянных святых рисует. Живых да грешных боится… – помолчала мгновение и, справясь с собою, осторожно тронула Фешин живот. – Рожать-то скоро?
– К Иванову дню, поди, распростаюсь.
– В дороге будешь… Тоже несладкую выбрала себе долю.
Феша несогласно покачала головой. Глаза подернулись теплым туманцем. Мир зыбок в них был, все заслонила огромная фигура Пикана.
– Доля, какую искала. С Ваней хоть к зверю в пасть.
– Мне бы так-то, – позавидовала Минеевна, но тут же, зависть свою задавив, рассмеялась, обмахнув ладонью глаза, словно убрала с них налет грусти. – А помнишь, как мы веселились? Лучше, чем те дни, у меня не бывало. А у тебя?
– Как с Ваней сошлись – все дни счастливыми стали. Иного ничего не желаю.
– А не спеть ли нам, подружка? – Минеевна тряхнула пышной распустившейся косою, принесла графин настойки, и, пригубив, они запели.
Но что-то не пелось нынче. Настойка, что ли, была горькая?
6
Попа во храме не было. Узнав, где живет он, отправились на дом. Самсоний оказался человеком с выдумкой, с изощренным вкусом. Домик его – в два этажа с мезонином – в деревянных узорах. Наличники, крыша, ворота и башенки вокруг мезонина – все в голубых и розовых завитках. Над мезонином, как на церковной маковке, крест золоченый с парящим вверху ангелом. Нарядно, весело смотрится домик попа. И живут в нем, наверно, весело. Ишь как в ограде-то шумно: гвалт, визг, топот.
Пикан толкнул резную калитку. Во двор, в зелень, выходила терраса, на которой сидел с книгой рыхлый, с редкой бородкой человечек. Был он и ростом мал, и нескладен, но лоб – хоть садись на него – широкий, под колючими короткими бровками – внимательные, цепкие глаза, свидетельствующие об уме и сильной воле.
На траве, перед самой террасой, дюжая баба секла мальчишку. Пикан перехватил руку с распаренной розгой, рванул мучительницу к себе. Могучая грудь, могучие стати, белое, пустое с пустыми глазами лицо. «Будто из камня высечена!» – отметил Пикан и сжал руку ее покрепче.
– Ты что же, семя крапивное, над дитем галишься?
– Пусти, – низким, грудным голосом потребовала баба, напрягла не по-женски сильную руку и, не сумев выдернуть ее, с интересом взглянула на Пикана. В глазах что-то ожило. «Есть и сильней меня мужики», – удивилась она. В этом доме сильных мужчин не было.
Спиря между тем схватил избитого ею мальчонку, напугал.
– Ты не бойся меня, – бормотал он. – Не бойся, так-эдак.
Узкоглазый, заревленный, явно нерусского происхождения ребенок пискнул, сжался в жалкий, беззащитный комочек. Не знал он, что сотворит с ним этот огромный страшный мужик, но уж, наверно, ничего доброго ждать от него не следует.
Уронив бабу, наказывавшую ребенка, Пикан велел подвинуть поближе розги. Она лежала спокойно, не дергалась, хотя кожу на мощных ягодицах Пикан просек с первого же удара. Вот уж розги растрачены, и мальчонка постарше, видно, брат наказанного, принес пучок новый, а женщина так и не издала ни звука.
Хозяин, до этого рассеянно листавший книгу, подошел к перильцам террасы, с интересом посмотрел на экзекуцию и восхищенно причмокнул:
– Вот сила, а? Вот русачка! Живут же такие!
– Поняла ли? – поднимая женщину, спросил Пикан. – Впрок пошло?
– Поняла, пошло, – хрипло отозвалась женщина, оправляя на себе сарафан. – Бить-то не меня надо было – его, – указала она на попика. – Я что, я человек подневольный.
– Меня нельзя. – Увидав яростно перекосившееся лицо Пикана, хозяин поспешно прикрылся ладонями. – Я рукоположен.
– Пристойно ль лицу духовному истязать малых сих?
– То дети мои духовные, рабы мои. Содержу их в строгости.
– В Сибири нет рабов, поп. Сибирь – страна вольная. А строгость к себе проявляй. Грешишь, блудишь. Самсоний, однако?








