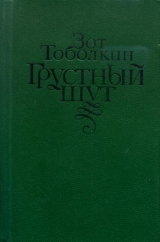
Текст книги "Грустный шут"
Автор книги: Зот Тоболкин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 21 страниц)
– Не токмо не брать, но ежели, паче чаяния, кто с кумпаниею придет, того угостить на мой счет чашкою кофею и рюмкою водки…
И тут же велел отпустить на угощение любопытствующих четыре сотни рублей.
Прослышав об этом, столичный люд валом повалил в кунсткамеру, а в народе – Кикины палаты. Иные внутрь-то и не заглядывали поначалу и, влив в себя водку, уходили. Потом глазеть стали. Как же: внутри диковины разные, до которых русский человек необыкновенно охоч. И кто бывал здесь хоть раз, тот заходил снова, но уж не ради даровой рюмки. Тут все поражало, притягивало глаз: чучела и скелеты зверей, птиц, людей, монстры, которых Петр насобирал со всего света, редкие монеты, оружие, шаманские бубны, глобус невиданных размеров, карта далекой страны Сибири, составленная тобольским умельцем Ремезовым, книги в ладонь и больше человеческого роста. Ими царь гордился особенно. Ежели сам здесь оказывался, водил гостей и показывал дорогие, отовсюду скупленные раритеты.
Но что это? У ворот стоят нынче два рослых сторожа. Они только что вышвырнули на улицу пьяного мужика. Упав на мостовую, бедняга разбил о камень лицо.
– Кирша?! – подойдя к упавшему, удивился Барма. Тот застонал, сморщился и, повернув к Барме разбитое лицо, что-то пробормотал. – Ты как здесь?
– Гуля-аю, – просипел ямщик, обвисая, словно мешок, на сильных руках братьев. – Ве-есело мне-е… – И заплакал.
– То и видно: всех веселишь. Не дали похмелиться-то?
– Не дали. Денег просят. Нет у меня денег… ничего не-ет… Не-ет!
– И у меня нет, – усмехнулся Барма, протискиваясь сквозь глухо ворчавшую толпу к чугунным воротам. – А вот живу, не тужу.
– По копейке с рыла, – тонким бабьим голосом сказал один из сторожей, протянув волосатую лапу.
– Раньше даром пускали, – загудели недовольно в толпе. – Государем велено было.
– Было да сплыло, – выбрасывая через подворотню какого-то шустрого, в изношенной кацавейке малого, невозмутимо бубнил сторож, Барма узнал его – кулачный боец Еремка, известный всему Петербургу. Знали, кого ставить. На такого дюжину драчунов напусти – обломает.
– По копейке, значит? – прикрывая спиной брата и Киршу, переспросил Барма.
– Угу, по копейке, – насупился Еремка, готовясь дать в зубы.
– Держи, – Барма приставил к его плоской, без единого волоска роже, зайкин хвост – в ладонь упали три монетки. Еремка ахнул и, на зависть всем безденежным, пришедшим опохмелиться зевакам, впустил внутрь Барму и спутников его.
Еремка ж почувствовал, что монетки в его кулаке теплые и… почему-то мягкие. Расшеперив пальцы, уставился изумленно на красную, измазанную заячьим дерьмом ладонь. В толпе глумливо загоготали.
– О-ох, наградил! Там же эти… там заячьи орешки! Ох-хо-хо!
– А видел ведь! Пра слово, видел! – гугнил Еремка. – Три копеечки были…
– Дак это же Барма, скоморох царский! Он тя самого в козла обратит, ежели пожелает.
– Обратил уж, – пошутил обиженный, в кацавейке, с нарочитым испугом уставясь на сторожа. – Гли-ко, рога прорастают! Ох, добры, ох, кудрявы!
Сторож схватился за лоб, стал искать невидимые ему рога, другой тоже зазевался, и человек десять, воспользовавшись этим, юркнули в ограду.
Толпа, мстя за строгость Еремке, за обманутые надежды, хохотала над обманутыми сторожами.
Барма со спутниками переходил от одной витрины к другой, приближаясь к тому месту, где должно было ожидать царское угощение.
– Гли-ко! – ахнул ямщик, увидав змею за стеклом, державшую в зубах семинедельный человеческий плод. – Робеночка жрет! Все, все правда!
– Здесь змей человека жрет, – вглядываясь в искусно выполненную композицию, без удивления сказал Митя. – В других странах люди жрут змеев. Я видывал.
– Припечет, не то что змею, собственный лапоть сжуешь, – постукивая ногтем о стекло, ухмыльнулся Барма. Змея от его легких ударов вздрагивала, казалась живой.
– Уж лучше лапоть, чем ближнего, – бухал ямщик.
Рядом, в крошечном гробике, устланном восковыми цветами, лежал еще один младенец.
– Цветки-то для чего?
– А чтоб нюхал на том свете, – пояснил Барма насмешливо. – На этом свете иные запахи. – Вспомнив сторожа и оставленные ему три заячьих шарика, расхохотался.
Кирша, несколько оживившись от его смеха, уставился на витраж, где за стеклом, до пояса разрезанный, лежал труп человека. Внутренности, однако, были целы, чуть-чуть прикрыты мохом.
– Срамотища! – содрогнулся ямщик, брезгливо отворачиваясь.
– Себя в бане, поди, не боишься? – рассеянно отозвался Барма, думая, как сложно устроен человек: «Вон сердце, с тьмою питающих его сосудов, вон почки и печень… все болит! Боль эта донимает и в конце концов сводит в могилу. Долго ли вынуть ее?.. Сердце ранено – наложить заплатку или заменить новым сердцем. Поди, научатся люди сами себя лечить от разных болезней? Пока ж только убивать научились. И делают это весьма искусно».
Вспомнил, шел вечор по Сенной. Там человек на колу извивался. Другой, закопанный в землю, стыл в ней четвертый день: «Вот, помира-аю-у!..» – успел сказать еще и испустил дух. «Чудак, – заметил Барма, беседуя с охранником. – Душа уж давно на том свете, а бренное тело тут, с нами беседует. Кто он, беспокойный страдалец?» – «Жулик! – озираясь шепнул охранник. – Царские деньги подделывал». – «Тебя перед смертью не обучил?» – «Что ты, человече, что ты?!» – испуганно замахал руками охранник и, пятясь от Бармы, едва не наступил на голову только что скончавшегося фальшивомонетчика.
– Вижу ребра, и мозг, и жилы… – вернувшись из воспоминаний о той смерти, задумчиво бормотал Барма, высказывая, как и всегда, кощунственные мысли вслух. – Души не вижу. Где душа его, а?
– …Нету ее, – услыхал сдавленный рыданиями Киршин голос. – Татарин забрал.
– Душу-то? – расхохотался Барма нелепой Киршиной шутке. – Ну пусть. Может, и он человеком станет.
– При чем тут душа? – укорил его Митя. – Машу, Машу мою забрал!
– Мы же расплатились… все было честь по чести. Как же ты отдал?
– Не отдавал – силком взяли. И дом тоже, и лошадей. Орава нагрянула – умыкнули…
– Любят тебя несчастья, – вздохнул Барма, выслушав сбивчивый рассказ ямщика. Да ведь и у брата невесту отняли. – Или ты их любишь – не пойму.
– Убью я его! – вскричал Митя. В таком гневе бывал редко. – Под землей сыщу!
– Найти-то найдем, – задумчиво поскреб переносицу Барма. – Да как отнять?
– Отнимем. Лишь бы жива была.
Теперь им было не до осмотра. Даже на минуту не остановились подле барашков, присланных из Тобольска: один был с двумя головами, другой – с шестью ногами. Тут же качался в зыбке двуглавый младенец из Уфы.
«Опять Тобольск глаза мозолит!.. А как там родители наши?» – подумал Барма, краем глаза увидав надпись.
…Родители пили чай с шаньгами. Отец обиженно ворчал на детей, не подававших о себе вестей. Мать молча вздыхала.
– Не вздыхай, не вздыхай! – прикрикнул на жену Пикан. – Чую, свидимся скоро.
Говорил для утешения. Потаповна все равно не верила, однако не возражала.
Кирша с братьями миновали стойку, где раньше подавали угощение, подошли к воротам.
Еремка, вновь лба коснувшись, пропустил их без единого слова. Рога пока не выросли, но долго ли: бабу взял молодую, к тому же из гулящих.
– Вот и опохмелились, – проговорил Барма, оглядывая с насмешкой спутников. – Худо вам, а?
– Как можешь говорить такое, Тима! – Митя, махнув рукой, отвернулся от брата. – Маша неизвестно где, а ты… Э-эх!
– Что ж, плачь тогда. Плакать вы все горазды… – Барма жестко усмехнулся и беспощадно закончил: – Учат вас, учат, а все без толку. Так вам и надо, бар-раны!
20
Киршин дом заселили татары, должно быть шакировская родня. Увидав ямщика и братьев, скаля зубы и по-своему что-то балабоня, вышли к воротам с кинжалами.
– А вы не бойтесь, не бойтесь, – зорко оглядывая окна – не подаст ли Маша сигнала, – говорил Барма. – Мы пришли к вам по-доброму.
– И уходите с добром, – поигрывая кинжалом, сказал молодой, с разрубленной щекой татарин.
– Мы токо узнать… – начал Митя. – Про его сестру, – он указал на ямщика, затем ткнул себя в грудь, – про мою невесту.
– Здесь нет сестер, невест нет. Это наш дом, – настойчиво и теперь уж с угрозой повторял татарин. Молодцы в бешметах, окружившие его, надвинулись.
Ничего не добившись, братья отступили, увели с собой Киршу.
– Худо дело, соколики, – смеялся над бессилием своим Барма. – Да вы носы-то не вешайте, – тут же утешил. – Зайдем в кабак, помыслим. На голодное брюхо не думается.
Но троице нынче не везло. У одного кабака разгорелась потасовка, у другого поп-расстрига, загородив вход, звал всех в леса идти и сжигаться.
– Гори ты сам, – проворчал Барма, поежившись, – дед вспомнился, – и потащил спутников в третий кабак, неподалеку от Петропавловского собора. Хватив для сугрева водки (Барма – чаю), троица вывалилась на улицу, встревоженная громким боем колоколов. Не ко времени гудели. Люди, побросав дела, бежали к храмам: может, опять кто помер? А может, спаси и помилуй, война?..
Мчались, давя прохожих, возки сановных. Всех обгоняя, пролетел на бешеной тройке генерал-прокурор Ягужинский. Следом за ним, поспешая и тем не менее стараясь прийти не первым («Спросу меньше!»), трясся в своей коробушке Остерман. Опрокинув его, пролетел Меншиков, потом Долгорукие и, наконец, рыбешка помельче. А колокола вовсю рокотали, и никто, даже самые осведомленные, не могли понять, чего ради возник трезвон.
Еще недавно, устав от сорокадневного бдения, они пировали во дворце светлейшего. Под утро разъехались. Но лишь прикорнули – раздался этот заполошный, всех растревоживший звон.
Феофан Прокопович, взойдя на амвон, тряс за бороду полупьяного архидьякона. Тот невнятно мычал, разевая бородатую пасть. Нутряной бас сотрясал утробу.
– Не веда-аю, батюшка! Царица велела… – потеряв терпение от боли, дьякон грянул во всю мочь – ретивый грамотей Прокопович, что-то испуганно прошипев, отпрыгнул прочь. От рева дьяконова сладко и тревожно заныли хрустальные люстры, завыплясывали огненные языки на свечах. В рисованный купол упруго ударило басовитое эхо. Это был самый голосистый, когда-то любимый царем за голос дьякон. От утробного баса его в масленицу сдох на базаре медведь, плясавший под дуду скомороха. Дьякон был пьян зело, ударился в пляс с медведем, да как рявкнул – мишка осел на задние лапы и больше не встал. Пришлось слуге божьему разматывать свой кошель.
Меж тем, сообразив, что переполох случайный, в храм ступил Андрей Иванович Остерман. На всякий случай перекрестился, выхватив взглядом из толпы дюжего Меншикова.
– Пошто неуважение мне оказал? – пробравшись к нему, спросил, нарочито окая. Еще ночью, на пиру, вельможи, ненавидевшие друг друга, сцепились из-за какого-то пустяка. Данилыч, уступив в словесном поединке, отыгрался сейчас, перевернув его коробушку. Имел мысль нечаянно переехать барона, но кучер не рассчитал, и теперь светлейший крайне огорчался этой неудачей.
– За что я тебя, безбожника, уважать должен? – кротко отозвался Данилыч. Пальцы, однако, с хрустом сжались, словно тискали чье-то горло.
– Хотя б за то, что я, в отличие от герцога Ижорского, весьма искусно владею пером.
Меншиков был почти неграмотным, и всякое напоминание об этом выводило его из себя.
– Да я тебя… да знаешь ли ты, вестфальская рожа, что я в Сибирь тебя упеку? И упеку, бог свидетель, за то, что царевича безбожием заражаешь.
– А на площади тебя давно секли, как царь сек, бывало? – с усталой, особенно раздражавшей светлейшего улыбкой томно возразил барон. Многозначительно подняв искривленный подагрой палец, добавил: – За лихоимство твое.
Меншиков, оттолкнув увещевавших его более степенных и выдержанных вельмож, метнулся к барону, схватил его за грудки. И два сановника, как два записных пьяницы, сцепились в очередной драке. Быть бы Андрею Ивановичу битым, да в храм, улыбаясь, вплыла царица, тоже со следами ночной усталости на широком, полном лице.
– Как вам понравилась моя шютка? – спросила она.
Помятый Остерман, высвободившись из удушающих объятий светлейшего, поправил паричок и первым заулыбался.
– Бесподо-обно, бесподо-о… – запел он сладко, еще не зная, в чем была соль «шютки».
Не поняли и другие, но более сообразительный Меншиков вдруг спросил стоявшего с ним рядом Девиера, полицмейстера столицы:
– Число-то ноне какое?
– Первое, кажись.
– Ах вот что! – Теперь все поняли и все заулыбались. Лишь Прокопович, сраженный недостойным поведением царицы, недавно схоронившей супруга, угрюмо насупился. Но и он тотчас же скрыл свое недовольство.
– Первое апреля! Первое апреля! – покатилось по всему храму.
Дошло и до тех, кто стоял на улице.
– Ай да царица! – ахнул Барма. – Развесели-ила! Учись, Кирша! Выше голову! Вишь, все вокруг веселятся.
– Где ж веселятся? – оглядываясь на хмурых, глухо ворчавших горожан, возразил Митя. – Грустные все… Недавно царь помер.
– А тем, – Барма указал на церковь, из которой степенно выходили вельможи, – и смерть забава. Где вам понять, бесштанным! Верно, Зая?
– Тсс! – одернул его Митя, увидав царицу, которую вел под руку Меншиков. Пятеро гвардейцев расчищали им путь.
Приметив братьев, светлейший шепнул что-то высокому офицеру с повязкою на глазу. Тот оглянулся на Барму, кивнул и, усадив царицу в возок, стал пробиваться через толпу к братьям.
– Уноси ноги, Митрий! – Барма толкнул старшего брата в толпу, сам отходя в другую сторону. Но гвардейцы давно заприметили его, взяли в кольцо. Сюда же, увидев братьев, спешил Пинелли.
– Ищите Машу, – шепнул Барма ямщику. Офицер одноглазый уж схватил его за руку.
– Тима! – кричал итальянец. – Я здесь! Постой же!
– А я не спешу, – усмехнулся Барма. – Спешить не приходится.
– Пиканы? Братья? – спросил офицер.
– Братья, братья, – согласно закивал Пинелли. – Все люди – братья.
У гвардейцев было на этот счет свое особое мнение. Его и Барму тотчас крепко скрутили и бесцеремонно, отнюдь не по-братски, кинули в темный возок.
– Куда вы нас? – удивился Пинелли.
– Куда как не в гости, – усмехнулся Барма. – Скучают без братьев.
21
– Здорова ли, душа-голуба? – собираясь поутру к соседу своему, Гавриле Степановичу, спрашивал жену Пикан. И суров и крут бывал в жизни, а ее пальцем не задел; чтил за великую доброту, за ум и за кротость. Через всю Россию – от Светлухи до сибирской столицы – прошла, полураздетая, голодная, битая, единой жалобы от нее не слыхал. Как не чтить такую, как не уважать? Никогда слова поперек не вымолвит, и хоть худо ей часто, хоть нездоровится шибко, а все старается угодить. Таких жен, матерей таких, может, и нет на земле больше. Вот и надо беречь, чтоб не расплескать последние капли усыхающей жизни.
– Дак что, хоть и нездорова? Хворь-то вечно при нас. Не гребтись обо мне, Ипатыч, ступай со Христом, – с кроткою, с терпеливой улыбкой проводила хозяина своего, охнула и свалилась.
Подрядились соседи сшить тобольским полкам камчатые знамена да между дел тонких вырыть в Софийском дворе колодец. Двор на бугре стоит, отовсюду видный, до воды доберешься не скоро. Но владыка велел: той, что из-за вала текла по деревянным желобам, владыка брезговал – желоба-то открытые. Иной озорник возьмет да и помочится в них. Другой дохлую крысу бросит.
«Ну что ж, – сказал Гаврила Степанович, – выроем. Деньги-то плочены».
Сказать по правде, рыли не сами. Десять копальщиков в подчинение дано. Да разве удержишься, когда кровь кипит, а руки дела просят? То к вороту станешь, то за носилки возьмешься…
Вечером копальщики всей гурьбой тащатся в кремлев кабак, а в нем напроказив, переходят то в «Лену», стоящую по соседству, то в «Кокуй»; ночь завершают где-нибудь у рогаток, у самого распоследнего по дальности кружала – «Отряси ноги». Там, правда, кроме ног уж и отряхивать нечего, но имя Тюхина, каменных дел мастера, богомаза, к тому ж веселого человека, всегда производило должное впечатление. Кабатчики давали питухам в долг.
Сам Степанович загуливал редко, как правило сдав какой-нибудь заказ. Сдав, ликовал неделю и больше, шумел на весь город. Недавно, закончив разрисовывать выносную часовню, опять заглянул к хорошенькой таможеннице, разумеется, вместе с соседом. Утром Пикан явился домой с виноватыми глазами, каялся – хотел скрыть грех свой, да не смог, увидав испуганные глаза Потаповны.
– Я уж разное заподумывала, – молвила она, улыбаясь сквозь слезы. – Цел, и слава богу. А чем грешен, то бог простит, – и зашептала молитву.
Пикан пошел отсыпаться, видеть сладкие сны про минувшую ночь, проведенную в пиру и веселье, про крещеную ласковую татарочку, любившую жарко. Легкой смуглотой тронутая, нежная, ненасытная, она красива и молода. Пикан бранил ее всяко… в мыслях, а на язык иные слова просились, те самые, которые говорил ей ночью. Бранил затем, чтобы избавиться от чар. Совсем присушила старика: днем и ночью думается о ней. Грешно думать, когда жена у тебя такая… Не токмо поступком, взглядом обидеть ее боязно.
Шло время. Пикан к таможеннику не заглядывал, сколь ни зазывал его сосед. Гаврила Степанович сильно не переживал: была работа – отдавался ей весь, выматывал себя так, что ноги не слушались. А вырвется день или час отдыха – гулял Степанович, будоража весь город.
Сейчас, обо всем забыв, соседи до изнеможения шили знамена, потом, устав от сидения, рыли невиданной глубины колодец.
…Потаповна умирала. С вечера знала, что помрет, всю ночь шептала в постели молитвы, мысленно благословляя детей, которых уж не доведется увидеть на этом свете. Встретиться бы в том, запредельном мире, сойтись всей семьею, забыв о зле человеческом, о муках, перенесенных на земле. Самоварчик поставить бы под райскими яблонями, шанежек брусничных аль пирогов с нельмой напечь. Рыбные пироги детушки сердечные любят. И сам Ваня поесть горазд. Намерзнется за день-то, надергает руки кайлом да лопатой – аппетит разгуляется. Ох, долго, видать, не кармливать родимых! Ну, пусть живут, грехи материнские отмаливают, чтоб не кипеть после в котле огненном. «Детки, детушки, помните ль вы меня?..»
– Ма-ама-а, – простонал Барма, лежа в темнице на волглой соломе.
Дуняша с Митей, поговорив о брате, которого увели прислужники Меншикова, мать с отцом вспомнили.
– Хоть бы одним глазком на них глянуть, – вздохнула княгиня. – Соскучилась – сил нет. И душа изболелась.
– Я тоже часто о них думаю. Уж лица забывать начал. Давно не видел, – отозвался Митя и снова заговорил о Барме. – Ты бы покучилась, сестрица, Борису Петровичу! Может, выведает он, что с Тимой?
– Кучилась – сам боится: говорит, в тюрьму угодить могу.
– Он?! В тюрьму?!
– Ага. Князь Меншиков к нам приезжал. Добивался чего-то. Борис Петрович не угодил ему. Теперь кается…
…– Глаза уж не прикроют, – горько размышляла Потаповна, устраиваясь под образа. – Ну, может, потом на могилку придут. Прости, Ваня, без тебя помираю. Докучать не люблю. Весь век свой старалась людям не докучать. Ты могилку-то сам не рой. Гаврилу Степаныча попроси, да поплачь, ежели всплакнется. Всплакнется, поди: жизнь-то бок о бок прожили. А помрем розно… Ништо, ништо. Я подожду тебя там. Ждать привыкла: с войны, с моря… теперь вот с пирушек твоих. К богу прилежен, а все ж не удержался – на грех потянуло…
Потаповна шевельнула рукой, которая стремилась к увлажнившимся слезою глазам, рука не слушалась, упала на вялую, на остывающую грудь. Слеза мешала видеть то близкое, что было перед глазами. Да что смотреть – это все известно: вот на божнице святой Егорий. Икону Фелицатушка благословила. Ее муженьком рисована. Под божницею – лавка, на этой лавке лежит сама. В углу, под гарусной скатертью, напротив печки, кровать. «Ох, Иванушка, ох!.. Грех-то какой! Давно ли мял меня на кровати… вот, помираю. Прости, прости бабу грешную! Хоть и слаба, хоть и обеими ногами за земную черту ступила, а плоть мимолетную радость вспомнила…»
– О чем, о чем я опять? – Потаповна сбилась, забыв о близком, о домашнем, еще раз дала отдохнуть мыслям и взором дальним, вещим увидала детей, всех троих рядом. Стоят детки на зеленом солнечном косогоре, вокруг снег. Зима по всей России – откуда ж зелени быть? Потаповна этому не удивилась. Возрадовалась лишь тому, что увидала детей ясно, поманила их к себе – обнять, проститься. Только Дуняша приблизилась. Из-за спины ее выглянула смерть, обыкновенная черная баба, чем-то похожая на Фелицату Тюхину. Только тем и разнится, что с косой. Выхудавшая и очень усталая: косить-то, бедной, много приходится – мрет народ. Пожалела ее Потаповна, улыбнулась, словно старой знакомой: «На меня не траться, Смертушка, не коси. Сама отойду. Вот токо детушек поцелую…»
– Ма-ама-а, – опять завозившись на тюремной соломе, простонал Барма. Задремал ненадолго. Проснулся оттого, что на лбу почувствовал почему-то холодный материнский поцелуй.
Митя с Дуняшей переглянулись. Каждый украдкой смахнул слезу.
Потаповна отошла, последним усилием сложив на груди бессильные руки. На губах ее, уже мертвых, жила непобедимая мудрая улыбка. Чему улыбалась – никто теперь не угадает. А улыбнулась Потаповна, радуясь, что никого в жизни не обременила. Даже руки в последнем кресте сложила сама. И – слава богу, слава богу!..
22
Борода закурчавилась, светлая, жесткая. Волосы свалялись, щеки впали. Глаза лихорадочно блестят: приболел Барма, наверно простыл. Пинелли отваживался с ним, поил водою, обогревал, сам не попадая зуб на зуб. Пищи им не давали, и Луиджи подумывал: не убить ли зайца, который тоже выхудал, – его кровью напоить больного. И убил бы, но не знал, как это сделать. Он никогда не убивал живых, природой созданных тварей. Луиджи Пинелли был атеист, мечтатель, бога искал в человеке, а не на небесах. Прожив более полувека, пока еще не определил, в каком месте помещается бог в человеке. Да и есть ли вообще в нем бог – сказать трудно. «Все-таки есть, пожалуй. Вот парень этот с зайцем, над всем смеющийся, во что-то верит, хоть за все время единого раза не перекрестил лба. И в бреду не бога, мать поминает. Ну, мать – мадонна, по-ихнему, богородица. С этой все ясно. Богородица, по Писанию, Христа родила, который тоже безотцовщиной не был».
Бедный мечтатель уж не первый год пытался перенести библейские притчи в обыденность, чтобы согласовать их со своей теорией. Теория была проста и потому, считал Пинелли, безупречна. Она заключалась в одной емкой, не поддающейся воплощению мысли: человек должен быть счастлив. Для этого ему нужно создать условия. Например, построить на земле невиданный город Счастья, в котором все до единого будут трудиться, и труд сравняет плебеев с высокорожденными. Все жители города станут Братьями. И все, что ни сделают, пойдет в общую копилку. Одежда будет проста и удобна, пища сытна и разнообразна, работа легка и желанна. Каждый из Братьев один день может побыть правителем города, все остальные дни, до конца жизни – обыкновенным гражданином. Правда, кому-то надо начинать этот город, кому-то нужно вложить деньги, и немалые. Луиджи выпрашивал эти деньги у множества богатых людей, его высмеивали или прогоняли; раза три, как вымогателя, сажали в тюрьму, даже в яму, наполненную водой. Но и вода не остудила его порывов, лишь приучила к сдержанности. Он, вообразив себя лукавым певцом сильных мира сего, начал сочинять хвалебные сонеты. Сонеты благосклонно принимали, однако платили за них скудно. Времена Мецената миновали. Тогда, сидя в очередной раз в тюрьме, он попросил себе глины и начал ваять, немало преуспев в этом величайшем из искусств. Правда, изобразив, как надлежало, испанского короля, был бит и едва спасся от виселицы. Жестокое лицо тирана еще более усугубил камень. Увидав себя высеченным из камня, король ожесточился. Итальянцу удалось бежать от него и от верной гибели.
В тюрьме он освоил карточную игру, но и за карточным столом не раз терпел жестокое поражение. Ловкие шулеры, случалось, раздевали его догола.
В России тоже не повезло. Памятник молодой державе, рвущейся из тьмы и дикости к цивилизации и просвещению, закончить не удалось. Царь умер, о скульпторе забыли, как, впрочем, и о самой России. Теперь не она рвалась из камня, ее рвали на части.
Мечтатель, однако, не унывал и, сидя с Бармою в подземелье, рисовал углем на стене выношенный в мечтах город. Подле Бармы, лежавшего на подстилке, сжавшись в комочек, дрожал зайка. Он, как и хворый его хозяин, потерял последние силы и, обманывая голод, жевал затхлую солому. Где-то там, за стенами каменного мешка, слышались хмельные выкрики сторожей, иногда вопли истязуемых, лязг цепей, скрип ворот, глухие удары. Заяц поначалу вздрагивал от этих незнакомых и страшных звуков, потом привык и стал бояться лишь черного, как и хозяин обросшего бородой, чудака, изредка смотревшего на него алчным и в то же время виноватым взглядом.
Пинелли вспоминал о зайце лишь тогда, когда отвлекался от своего замысла, сулившего человечеству всеобщее благоденствие. Для его достижения оставалась какая-то малость: собрать воедино людей, вдохновив их великой идеей, и начать с ними перекраивать этот оголтелый мир. Но прежде нажить несколько миллионов.
Вот зеленая роща перед городом, сотворенным из белого мрамора; вот лестница, ведущая на высокий холм, к главным воротам. Всяк, ступивший сюда, должен оставить помыслы о Дантовом аде, устроенном людьми на земле. У ворот любого встретят мудрые и великодушные наставники, проведут по хитрому лабиринту улиц, устроенному так, что, начав свое перевоспитание на первой улице, к последней человек приходит совершенно иным – прозревшим и образованным. И тут его ждет Храм науки. Впоследствии, сменив престарелых учителей, он сам примется учить вновь прибывших. Учителям же уготовано… Задумавшись, как быть с почтенными учителями, уже непригодными по старости к активной общественной жизни, Пинелли и не расслышал, как открылась тяжелая дверь. В сопровождении офицера и двух солдат вошел сам князь Меншиков.
– А где ж второй? – спросил он. – Мореход где?
– Так вот же он, – указал офицер на Пинелли.
– Этот грач? – брюзгливо скривился светлейший. – Ты много пьешь, Першин.
– Он назвал себя братом.
– Мы братья… по духу братья, – подтвердил Пинелли. И вдруг его озарило: «Почему бы не воспользоваться счастливым случаем и не попросить денег у этого сановника? Он сказочно богат. У него четыре города, множество деревень и, если верить слухам, огромные вклады в иностранных банках. Зачем одному человеку столько богатств?»
– Сеньор, вы не могли бы пожертвовать мне несколько миллионов для одного великого проекта? – спросил Пинелли, кланяясь князю, и без того принявшему его за сумасшедшего.
– Он точно спятил, – пробурчал Меншиков, сурово взглянув на Першина. – Мне брат его нужен, – сказал, ткнув пальцем в бредившего Барму. – И Юшков…
– Найдем, – пообещал Першин. – А с этим что делать?
– Гони прочь. Пока он не потребовал у меня все мое состояние.
– Сеньор, вы не поняли. Вот город Счастья… Я объясню вам… Позвольте!
Но солдаты уж волокли его к выходу. На стене остался недорисованный город. Светлейший дотронулся до него пальцем, хмыкнул и брезгливо отер палец платком:
– Ххэ, счастья! Ишь чего захотел, паршивец! Есть ли оно на земле, счастье? Я покамест не видывал… – Склонившись над Бармою, светлейший поднял его за курчавую бороду, всмотрелся, отпустил. Голова стукнулась о пол. Отступив в сумрак, раздумывал: «Глумился при всех надо мной… имя мое порочил. Убить, что ли? – лениво зевнув, отмахнулся: – Не стоит. Подохнет сам».
– Ему лекарь нужен, – нарушил молчание Першин. – Этот парень знает про Фишера, про Юшкова…
– Нужен – пошли, – приказал князь, отворачиваясь. – Да гляди за ним лучше, чтоб не утек.
– Ежели токо на тот свет, – ответил Першин, пнув в угол зайца.
– Сперва потолковать с ним желаю.
– Жив будет, – пообещал Першин. – А тех хоть под землей да сыщу.
23
Без брата Митя растерялся. Кирша, во всем разуверившийся, ежедень пьяный, был не помощник.
– Жи-ить неохота, – жаловался он, скрипя зубами. – В монахи пойду. Аль напьюсь…
– Да ты и так пьян в стельку, – осуждая, качал головой Митя. Потеряв Машу, сутками бродил по городу, искал следы ее и не мог найти.
– Ни коней у меня, ни сестры-ы, – ныл Кирша, наводя на лейтенанта тоску. – Сиротинушка я!
– Мне лучше, что ли? – взорвался всегда спокойный и застенчивый Митя. – Брат в остроге, невесту татарин отнял… И все, что было при мне, из-за тебя пустил по ветру. Молчи лучше!
Кирша не слышал его, бился головою о стенку, плакался на судьбу.
– Молчи, слышь? Кому сказано! – вскричал Митя и, столкнув ямщика на пол, уже спокойно потребовал: – И стены башкой не порть.
– Пошто бьешь меня? Меня-а, сироту-у! – обиделся Кирша и полез в драку. Силы были не равны, и в конце концов, помирившись, они сели за выпивку.
Пинелли нашел их пьяными и плачущими. Не спросив, где пропадал, почему худ и в щетине, ямщик и Митя принялись жаловаться ему на свои беды.
– Тут нужно помыслить, друзья мои, – успокоив их, сказал Пинелли. – Тимофея нет – это раз. Невесты твоей – это два…
– Ничего нет – это три, – безнадежно махнул рукой Кирша, полагая, что от итальянца никакого толку не будет.
– Три – это мы, – с воодушевлением воскликнул Пинелли. – И мы открываем наши действия. Но прежде нужно раздобыть немного денег.
– Опять денег? – ужаснулся Митя, которому деньги ничего, кроме несчастий, не приносили.
– Да, мой друг, – с покровительственной улыбкой кивнул Пинелли. – К сожалению, все в этом мире делается за деньги. Есть лишь один город на свете, где деньги презрели. То есть он в замыслах пока, – поправился тотчас – Деньги – лучшие слуги. Они откроют нам все двери, развяжут все языки.
– Но где их взять?
– Есть много способов раздобыть деньги. Один из них – карточная игра.
– Я в карты не умею… – признался Митя, при этом подумав, что вообще немного умеет, если не считать мореходства. А кто в нем теперь нуждается?
– Зато я умею. Вам с этим господином останется лишь… – слово «господин» Киршу покоробило, и Пинелли, заметив это, осекся.
– Зови его Киршей, – подсказал Митя.
– Кирша? Ну что ж, господин Кирша, – вы должны с Митей сберечь то, что выиграю я…
– Это нехитро! Ты токо выиграй! – оживился ямщик.
– Можете в этом не сомневаться, – итальянец привел себя в порядок, и все трое отправились в Тихий кабак. Здесь пили в меру, потому что был иной интерес: собирались, чтобы играть в кости, в зернь, в карты.
Пинелли толкнул низкую дверь, уводящую в подземелье, обернулся к спутникам, оробевшим у входа:
– Игры не признаю… нужда играть заставляет. Но будет время, – он вгляделся в сумрак, дохнувший нечистым, спертым воздухом, и уж в кабаке закончил: – Да, будет такое время, друзья, когда никто не станет доверять свое счастье азарту. Вы это увидите, как только я выстрою свой город…








