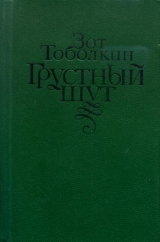
Текст книги "Грустный шут"
Автор книги: Зот Тоболкин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 21 страниц)
На самой середине к ним пал с неба усталый журавль. На спине его, в перья зарывшись, сидела малиновка.
– Ну вот, – перестав грести, сказал Барма. – Одного потеряли, двух заполучили.
Гонька бледно улыбнулся.
– Пташка-то пошто у него на спине? – спросила Даша.
– Выдохлась. Силенок-то мало, – пояснил Митя. – Журавль – птица добрая. Слабым в пути помогает.
– Ты запиши это, братко. Обязательно запиши и подчеркни толсто, – сказал Барма. – Люди должны знать про доброту птичью.
Даша принялась объяснять немому, как пользоваться пером и чернилами. Гонька оказался учеником способным. И уже через три недели вывел первые каракули:
«Кирша помер. Хороший был человек Кирша».
Журавль, отдохнув, полетел догонять стаю. Еще раньше покинула плот малиновка, прощально прокричав людям что-то веселое.
11
Глубоко, сыро! Владыка заглядывает в черный провал колодца – канат змеей бежит в бездонье. Там, где-то на недостижимой глубине, – копальщики. Они творят волю владыки, роют колодец в кремле. Далека тут вода, недоступна. Вот уж пятидесятая сажень пошла, а ее все нет. Что вниз упадешь – собственного падения не услышишь, что вверх, в твердь небесную лети – одинаково жутко, недостижимо. Летишь вверх (взглядом да мыслью) – яснее осознаешь присутствие бога. Есть он, есть вседержитель наш! Только что незрим, недоступен. Одним лишь праведникам себя оказывает. «Я, стало быть, недостоин, – оглаживая седую, вьющуюся бороду, вздыхает владыка. – Блужу и злобствую. Злобствую и блужу. Злоба от неутоленности телесной, блуд – все по той же причине. Гнет меня бес, ломает, справиться с ним не умею. Иной раз во время служения господу вдруг грянет шалая мысль. Человек же я, человек! Узрел с амвона смуглую молодицу, душой занемог. Спросить бы чья – у кого спросишь? Власть духовная вяжет. Примером пастве своей служишь. Хорошему учатся у тебя, и плохое (чему учить не надобно) перенимают твое же. Боже, боже милостивый! Горько, горько заблудшему пастырю. Душа, как пропасть эта, бездонна. На соблазны отзывчива. С годами слабеет воля. Дух уступает плоти».
Владыка задумался, не расслышал, как поднялась на канате тяжелая бадья. В ней – нос к носу – огромный мужик рыжий. Преосвященный отшатнулся, напряг память – где видел его? – но вспомнить не мог.
– Зябко там, – отряхивая землю с колен и с рук, утробным басом молвил мужик и, глядя на кремлев кабак, намекнул: – Копальщикам-то не худо бы погреться.
В иное время свободный от грешных мыслей пастырь позвал бы людишек – велел высечь дерзкого на архиерейском подворье. Сейчас лишь кивнул монашку, тот вскоре воротился с ковшом и жбаном монастырского крепкого вина.
– Доброе, доброе у тебя винцо, отче. – Мужик сам к вину не прикоснулся, дал тем, кто работал наверху, все оставшееся спустил в колодец. Владыка еще раз всмотрелся в мужика: статен, ядрен мужичина, хоть и одет неказисто. И в обращении волен. Похоже, из старообрядцев.
– До воды-то далеко ли?
– Не шибко, под подошвами хлюпает, – отозвался мужик. – Сажень-другую покопаем – выступит. Куды ей деться?
– Видал я где-то тебя, – морща чистый белый лоб под митрополичьей шапкой, сказал владыка. – Где – не упомню.
– Дак здесь, наверно, – усмешливо отозвался мужик, тронув окладистую рыжую бороду. – Колодец-то не в Архангельске рою – в твоих владениях.
«В Архангельске… – цепко отметил в уме владыка. – Стало быть, из поморов бежал. А может, сослан». Вслух же настойчиво спросил: – Имя твое скажи.
– Имя самое что ни на есть простое: Иван Пиканов.
«Слышал я это имя. Где слышал?» – владыка рассердился на худую память свою, на мужика, снова склонившегося над срубом. Чем-то задел его этот мужик: независимостью ли, силой ли. Лицо худое, схимническое, только без печати, которую налагает затворничество. Плечи армяк распирают.
– Пиканов, Пиканов… – владыка закусил тонкую, налитую кровью губу, раздраженно повел молодой черной бровью. – Не про тебя ли слух шел, когда со шведами…
Владыка не договорил: со дна колодезного опять показалось чье-то бородатое, но теперь смуглое лицо. Этого преосвященный узнал сразу: каменных и парусных дел мастер Гаврила Тюхин.
– Вода пошла, – сообщил Гаврила, но не владыке, по воле которого рыли колодец, а мужикам и Пикану, связывавшим последние звенья сруба.
– То и я говорил владыке, – кивнул Пикан, снова косясь на кабак. – Это дело не грех сполоснуть. Великий труд был, тяжкий.
И снова поспешил служка, и теперь вернулся не с одним, с двумя жбанами. Но, прежде чем ковш пошел по кругу, из колодца вынули еще одного копальщика.
– Гы-гы-гы! – загоготал тот, едва появившись. Это был известный дурачок тобольский Спиря. Любил он службы церковные, чтил владыку, и потому, увидав его, перестал сметать с себя мокрый песок, разиня рот, застыл на одной ноге.
– Подай вина мужику, озяб, – велел владыка.
– Сам вла-ды-ка, так-эдак! сам… ууу! – подняв палец, говорил дурачок и, словно гусь, стоял на правой ноге. – Блааслови!
– Бог благословит, – архиерей, будучи человеком умным, все-таки любил и желал производить впечатление и в людях – после ума – более всего ценил почтение к своему сану. Сан этот – признание его заслуг на церковном поприще. Он же велит быть владыке наместником бога на огромном пространстве Сибири. Люди, верящие в бога, почитающие церковную власть в пору разгула, лжи, безверия, – необходимые, главные люди. Все другие – почва, на которой ты сеешь добрые семена. Твоя ли вина, что из семян тех всходят плевелы. Служба господу трудна, многомудра, и твоя собственная вера проходит здесь великое испытание. Эти же, уверовавшие в твое назначение простодушные овцы, питают веру твою, придают сил.
– Бог благословит, – положив на Спирину голову белую тонкую руку, взволнованно, мягко повторил владыка. Голос его был гибок и приятен. Не зря же голосом этим заслушивалась паства. Взгляд владыки, размягченный Спириным изумлением, опять ткнулся в Пикана: «Ведь я в церкви его видел… С той смуглою дьяволицей!»
Владыка нахмурился, стер с лица хмурь, силясь вытряхнуть из себя ревнивые грешные мысли. Они не слушались, жгли сердце: «Не муж он ей. Еще раньше с другим видел…»
– Не ты ли на шведов войной бегал? – спросил Пикана, наконец вспомнив, где слышал эту фамилию. Юношей еще служил при патриаршьем дворе и прочел тогда в только что созданных царем «Ведомостях» известие о лихом набеге поморского попика, которого царь за дерзость отметил наградой.
– Ну, было, – нехотя признался Пикан, тревожась от усиленного внимания владыки.
– Где ж сан твой? Пошто сана лишился?
– Расстрига я… из старообрядцев.
– Кто расстригал? За какие вины?
– А никто… князь Юшков своей волей… Сослал с женою сюда. Дочь малую силой взял в дом.
– Князь не волен… То право властей духовных. В бога веруешь?
– Одной верой токмо и держусь. Верою да добротою людскою, – глухо ответил Пикан, замыкаясь в себе. Владыка понял, что расспрашивать дальше нельзя – болит у мужика что-то. Постепенно само все прояснится. Видно, обидели его, в Сибирь выслали, а вины за собой не знает. Надо пригреть гонимого, ободрить, и одним верным человеком станет больше.
– Зайдешь ко мне в середу, перед пасхой, – велел владыка, кивнув служке: возьми, мол, это на заметку. – Заходи без страха.
– Страх-то на дыбе оставил, – с горькой усмешкой сказал Пикан и, опустив плечи, медленно удалился.
– Досталось ему – иному на пять жизней хватит, – как бы извиняясь за непочтительное отношение к архиерею, пояснил Тюхин.
Владыка кивнул, еще раз напомнив, чтобы Пикан к нему наведался.
– А ты, – сказал он мастеру, – нарисуешь мне Страшный суд вон на том простенке. Сможешь?
– Дело знакомое, – ни единой жилкой не дрогнув, согласился Гаврила.
Весь город знал о неладах владыки с губернатором. Власть поделить между собой не могут. Ежели один говорит – стрижено, другой ему в пику утверждает – брито. Начали поутру звонить колокола – губернатор велит стрелять из пушек. Горожанам потеха: под рев колоколов, под грохот пушек идут службы церковные. Иной раз слов в проповеди не различишь. Зато весело глядеть, как соперничают властители. Вот владыка новую месть придумал: рисовать на общее обозрение Страшный суд. В аду, конечно, будет кипеть губернатор.
– Надо ждать, когда потеплеет, – сказал Гаврила, подумал: «А не выйдет ли мне это боком? Губернатор припомнит мое глумление над ним».
– Начнешь после пасхи на третью неделю, – отправляясь к себе, сказал владыка.
Во двор его, сопровождаемый казаками, въезжал возок. В возке были князь Юшков и Пинелли.
– Выясни, кто такие, – приказал владыка служке и, не дожидаясь гостей, скрылся за дверьми архиерейских покоев.
Пикан, выходя к Прямскому взвозу, услышал окрик. Кричал знакомец его, Малафей. Приблизившись к возку, увидел худого черного человека. С ним рядом сидел… поседевший князь. Два старых врага встретились снова.
12
– Орел кружит, – сказал Пинелли. – То знак добрый.
Высоко над их головами, над белокаменной звонницей, величаво и думно озирал землю белогрудый орлан. Он, верно, видел Пикана, встретившегося с князем Юшковым. Но не до людей ему было, как, впрочем, и людям не до птицы.
Орлан кружил над кремлем, над рекою. Люди кружили по земле, и круги их, случалось, совпадали, как совпали сейчас у князя и у Пикана. Только князь перегорел и потух, помор не покорился, шел бедам навстречу, ломал их. Они ломали его. Может, потому и не иссякал в нем родник жизни? И потому же Пикану трудно было признать в этом угасшем старике когда-то уверенного в себе, всевластного князя. Старик глядел на него пустым пепельным взором, не узнал. Узнав, всхлипнул, протянул руки.
– Где Дунюшка? – хрипло спросил Пикан. – Дочь моя где?
– Прости меня, про-ости… Изжили ее, – простонал князь и впервые за месяцы своих мук заплакал.
– Из-жи-ли… – Онемевший, ставший огромным и толстым язык Пикана едва шевелился во рту. Губы очугунели. Сел до шепота голос. – Из-жи-ли… За что? Кто дочку мою убил? – Пикан выхватил из возка князя, стиснул хрустнувшее под его пальцами горло. Еще мгновение, и князь расстался бы с этой опостылевшей ему жизнью.
– Не мучьте его, сеньор, – вмешался учтивый итальянец. – Он сам страдает. То недруги его. Ваши недруги. Они выгнали из дворца его дочь, сыновей ваших ищут.
«Значит, не все еще. Значит, чаша мук до конца не выпита? Мало им бед моих? Мало смертей? Дуняшину жизнь отняли? За что! За что-о?»
– А сыновья ваши скрылись, – досказывал между тем итальянец, оглядываясь, не подслушивает ли кто, и гладил заскорузлую Пиканову руку. От колодца на них посматривали Спиря, Тюхин и копальщики. Из башни недоверчиво косился сторож.
– Проходите! – хмуро требовал чернец-воротник. – Проходите туда или сюда – чо встали?
У поварни хлопотала дворцовая челядь: видно, спешила подать обед владыке, который не любил садиться за трапезу в одиночестве. Ныне зазвал гостей мирских: шведского офицера Вреха, местного богача из калмыков Кобылина да недавно сосланного боярина Квасова.
– Мы к владыке, – сказал Малафей. – Сиятельство под благословение хотел подойти.
– Недосуг щас владыке. Занят! Подите!
На звоннице грянул колокол, и в одночасье ухнула на мысу пушка: владыка и губернатор сели обедать. Садились за стол богатые посадские и бедные горожане. Бродячий люд, глядя из подгорной части на кремль, почесывая затылки, думал: «Не дернуть ли дальше в Сибирь аль на Север? Здесь тоже не рай. Можно, конечно, продать себя под заклад. Дак кабала, она везде кабала…» Не знали бродяги, что в град стольный прибыл заморский чудак Пинелли. Ему ничего не стоит устроить всеобщее счастье людей. Пока ж терпеть надо. Пикан вон терпит.
Горько Пикану, больно. Но и князю не легче. А сколько еще вокруг изломанных судеб, сколько нищих и погорельцев, сколько сирот и вдов! Много, много работенки для устроителя счастья. Да и не тем он занят сейчас. Он снова – в который уж раз! – повторяет Пикану, оглохшему от беды, историю князя, Дуняши, братьев, рассказывает о кознях светлейшего.
– Будь он проклят! Будьте вы все прокляты, мучители наши! – отпихнув итальянца, пьяно покачиваясь, Пикан спускался по взвозу.
– Эй! – окрикнул его Малафей. – Ты где обретаешься?
– В геенне, – оглянувшись, бухнул Пикан. – Не может же быть на земле такой окаянной жизни. – И ушел.
– Не должно быть, – поправил его Пинелли и подкрутил тонкие усики. – Интересный человек ваш родственник, глубокий, – сказал он князю. – С ним, пожалуй, стоит сойтись.
Пикан шел к своему опустевшему дому. Березки, высаженные вдоль взвоза, зеленовато заогневели, на свежих стволиках появились потные слезки. Внизу, по черной, просохшей возле корней земле, между тонюсеньких, как детские волосики, травинок ползали пятнистые божьи коровки, строчили извилистые швы муравьи. Из-под черного камня выбежала ящерка, уставилась на прохожих любопытными глазками.
Царская улица была в мужицкой непролазной грязи. Прохожие жались к заборам, вдоль которых тянулись узенькие тротуарчики. У горбатенького мосточка, над бурливым потоком, завязла телега. Хозяин выпряг лошадь, отвел ее на сухое место и теперь перетаскивал на себе мешки с мукою.
– Поможем? – догнав Пикана, кивнул на мужика Гаврила Степаныч. Пикан, всегда легко отзывавшийся на беду, прошел мимо. Может, не расслышал. – Ты это, Ипатыч, ты шибко-то не скорби, и так уж весь извелся.
Выбросив из телеги мешки, Гаврила помог вознице вывезти пустую телегу, догнал соседа, но домой они не зашли. Шли улицей дальше, к Тоболу. Фелицата Егоровна окликнула:
– Мужики, пельмени поспели! – Они не откликнулись. «Совсем от рук отбился, христовый! – подумала о своем муже. – Беда, беда!..»
Как избавиться от этой беды – не знала. На берегу толпился народ. Зеваки кричали, размахивали руками:
– Вот диво-то!
Над водою, углядев нерасторопного осетра, бил крыльями орлан. Вцепившись в него когтями, рвался в небо, но сил не хватало. И он долбил осетра клювом, рвал, взлететь не мог и все глубже вонзал в огромную, ошалевшую рыбину железные когти.
– Ну давай, давай, поднатужься! – соболезновал ему лядащенький мужичонка, в котором Гаврила признал верхотурского купчика-погорельца. Так и застрял здесь, бедняга, в загул пустился. С голоду не помер, однако на изжелта-бледном лице светилась жалконькая улыбка. Надо же, выражала она, вот рыба и птаха между собой чего-то не поделили. А вроде и небо велико и воды просторны. Теснят друг дружку, потому что все хотят жить. И я хочу. До весны дожил – не помру. А зима была тяжкая, впроголодь, впроморозь. Да, слава богу, минула.
Орлан уж не рад был, что вцепился в эту дюжую с гребнем спину, но птичья гордость не позволяла ему поступиться добычей. Он из последних сил тянул могучую рыбину вверх – осетр вниз, и крылья птицы уже подмокли.
– Посторонись, мухомор! – Гаврила отстранил мужичонку, подбежавшего к калданке. Вскочив в нее, схватил с днища надломленное веслецо, яростно, сильно погреб на выручку птице.
Осетр утянул орлана под воду, вынырнул справа от калданки. Гаврила тюкнул его веслом, но слабо, и рыбина снова метнулась вглубь. Через минуту всплыла. Орлан, почти полумертвый, держался по-прежнему цепко. Был он мокр, обессилен, но тем не менее оставался царь-птицей, неуступчивой и гордой. Гаврила еще раз со всей мочи звезданул осетра по носу, тот оглох и покойно расслабился. «Не выволочь обоих-то, лодчонка перевернется», – подумал он, но все же попробовал: калданка от первого же рывка хлебнула воды. Сняв кушак с себя, Гаврила повязал осетра за жабры, но и теперь лодка передвигалась едва-едва, черпала бортами воду. Пикан ожил наконец, отыскал другую лодку и мощно греб навстречу соседу. Вдвоем перекинули оглушенного осетра через борт. Орлана, глубоко вонзившего когти, высвободили только на берегу. Осетр тоже очнулся, забился от боли и, хлебнув воздуха, снова уснул, теперь уж сном вечным. Гаврила взвалил его на спину и, покряхтывая, понес домой. Пикан взял птицу. Орлан бился, клевал его руку, но скоро смирился и замолк.
– Вот и пирог Егоровне, в добрые войдем, – толкнув соседа в бок, подмигнул Тюхин. – С птахой-то как решим? Отпустим?
– Мне отдайте, – подскочив к ним, сказал мужичонка, первым заметивший битву осетра и птицы.
– Себя прокорми – ишь вытощал.
– А я тот Мартын, который потерял алтын, – пробормотал бывший купчик, просить, однако, не стал, зная, сколь круты здешние люди. Не худо бы разжиться на косушечку. Или ушицы осетровой отведать.
Гаврила, сочувствуя, вынул пятиалтынный, кинул купчику. Орлан снова затрепыхался, пронзительно вскрикнул.
– Сердится, что мало дал, – пошутил мужичонка.
– Не стоишь алтына – просишь полтину.
– Теперь, правда твоя, не стою. А до пожара лавку держал. Вон она, лавка моя, – указал он на пепелище, сморщился, высморкался и, кинув шапчонку оземь, пошел в Подкопай.
Там уж вовсю шумели. Через порог кого-то выкинули. Питух рвался обратно, шарил дверь, а дверь была с другой стороны.
– Ишь как привечают, – посмеялся бродяга. – Пойду и я за приветом. Спаси Христос, Гаврила Степаныч!
– Постой! Знаешь меня, что ли?
– Тебя все в низах знают. И я бывал с тобой в кумпанстве.
– А ну, стало, пошли на ушицу.
– Нет, Степаныч, я ноне тебе не ровня. Вот ежели разбогатею с полтины – зайду.
Купчик с гонорком оказался. Поклонившись, вошел в кабак, к своей ровне. Завелась монетка – пей, гуляй. Будет день – будет пища.
13
– Давай, братко, причаливай, – сказал Барма, завидев у берега чье-то суденышко. – Пойду поразнюхаю: что там да как. На этой плошке за черепахой не угнаться.
За лесистой косой припали к берегу, спрятав плотик в узкой протоке.
– Тима, – окликнула мужа Даша. – Поберегись там. Мало ли что.
– Двум смертям не бывать. С одной полажу.
– А все же возьми меня в попутчики, – спрыгнув на берег, увязался за ним Бондарь.
Хоронясь за деревьями, пошли. В лесу было тихо, чуть-чуть названивал родничок. Барма склонился над ним, подмигнул себе самому и припал к чистой серебряной водице. Язык ткнулся в холодную, мокрую галечку, слизнул песчинку с нее, попавшую меж зубов, зубы стиснули песчинку, и крохотный белый шарик с хрустом распался. Барма ополоснул рот, сплюнул. Свежо во рту стало, чисто. Хотелось упасть на эту проснувшуюся землю, закрыть глаза и – не просыпаться, пока земля сама не разбудит. Она разбудит, когда потребуется. Земля и все, ею взращенное, имеют свой особый язык. Вот свиристель прокричал, ему отозвавшись, тенькнула малая пташка. Слу-уша-аай! Барма поддался искушению, лег. Позади что-то хрустнуло. Он пружинно вскочил, метнулся пулей за куст. Но, увидев маленького лосенка, рассмеялся. Тот выскочил на поляну из осинника. В осиннике бурым холмом высилась лосиха, жевала ветки. Почуяв людей, замерла и с тихим мычанием повернула к ним голову. В глазах пыхнула тревога. Барма ласково успокоил:
– Чо испужалась, матушка? Пасись, набирайся сил. Мальчонку твово не тронем.
А сам, зазывно бормоча, мягкими кошачьими шагами приблизился к горбоносому доверчивому мальцу. Уши лосенка, короткие, еще не прилизанные матерью, смешно топорщились. На широком лбу шерсть стояла торчком. К надбровьям ближе она становилась короче, глаже, и так удивительно было видеть под ним большие темно-фиолетовые глаза, скошенные на человека. Лосенок фыркнул, прыгнул в сторону, но не убежал. «Тпрушеньки, тпрушеньки!» – приговаривал Барма и тянул к нему руку с цветком курослепа, сорванного в мокрой бочажинке. Малыш доверчиво мукнул, потянулся к человеку.
– Эй, берегись! – глухо упредил Бондарь. Сам спрятался за расщепленную молнией листвянку. Сохатиха, подбежав к человеку, не боднула его, лишь облизала детеныша. Барма подошел еще ближе, стал почесывать ее за ушами. Большой, в иное время сердитый зверь добро покачивал головой, морщил крутую шею, жмурился. Малыш уж забыл о Барме и, слегка выгнув спинку и отставив задние ножки, тычками сосал материнское вымя.
– Ну ступай. Оба ступайте. – Барма еще раз огладил лосиху, шлепнул детеныша и с явным сожалением ушел с полянки. Лосиха оглядывалась ему вслед.
– Гляди ты! – изумился Бондарь, несколько смущенный своим поспешным бегством. – Своего в тебе признала.
– Свой и есть. Ты из-за дерева-то разве не разглядел? – усмехнулся Барма и принюхался: наносило дымом и чем-то мясным, вкусным.
В низинке, у озера, было самоедское стойбище. У крайнего чума лежала большая куча добра: меха, мясные туши, малицы, бурки. Тут же стоял на коленях связанный старый самоед и глядел бессмысленными, испуганными глазами.
– Бог в помощь, – поздоровался Барма, подходя к костру.
– Кто будете? – хмуро оглянулся на него дюжий казак, верно, исполнявший ясашную службу. На всякий случай щелкнул незаряженным пистолетом.
– Мы-то? Потерпевшие мы. С товарами плыли из Сулей. Суденышко о камень разбило… Едва спаслись… Половину товаров утопили.
– Купцы, что ль? – недоверчиво ощупывая Барму хмурым, воспаленным после долгого запоя взглядом, допытывался казак. – Куда плыли?
– Дак вот к ним как раз и плыли. Поторговать хотели. Да вишь, речка-то шутку с нами сыграла.
– Товаров много?
– Вьюков, поди, двадцать. Да так, по мелочи кое-что: соль, порох, топоры, ружья. Медовуха, конечно…
– Медовуха? – встрепенулся казак, давно страдавший с похмелья. – А далече ли стали-то?
– Верст с пять понизу.
– Бери мой дощаник, пока я тут суд учиняю.
– В чем провинились они?
– Ясак лиходеи не платят.
– За доставку-то сколь возьмешь, служивый? Давай сразу сговоримся, не знаю, как тебя звать-величать.
– Терехой зови. Терентий Каменев.
– Славное имечко – Терентий. Дак сколь возьмешь с нас, христовый?
– Отдашь медовуху… Башка вразлом.
– Там много ее, Тереша. Всю-то не выпьешь. А выпьешь – затрещит того больше.
– Не твоя печаль. Там скажешь Егорке, помощнику моему: мол, я велел.
– Спаси тя бог, Тереша, – низко кланяясь, пел Барма, а ноги несли его к берегу. Казак и двое его помощников продолжали вершить суд.
Суденышко было невелико, но прочно и ладно сработано. Внизу, в трюме, спали вповалку человек десять из каменевской команды. Один, менее пьяный, дремал на палубе.
– Свяжи тех, которых не укачало, – шепнул Барма. – Токо без шума.
Шуметь – не шумели, но крайний, которому достался конец каната, проснулся. Бондарь треснул его кулаком по лбу, и он заснул еще крепче.
– Я их, как бусы, на одну нитку снизал, – сказал Бондарь, поднимаясь на палубу. – А с этим как?
– Отталкивайся!
Барма поднял якорек, уперся толстым шестом в берег. От стойбища, в чем-то их заподозрив, бежали каменевские казаки.
– Эй, постойте! – кричали они.
– Чо стряслось-то? – продолжая отталкиваться, спросил Барма. Дощаник уж отошел, и волна несла его по течению.
– Нас с собой прихватите.
– Прыгайте. Речка всех куда надо сплавит, – бросив на Бондаря быстрый взгляд, Барма придержал суденышко. Но едва казачьи головы показались над бортом, как недоверчивых служак тут же припечатали к палубе, связали и кинули в трюм. Проснулся наконец и кормщик Егорка, к которому велено было обращаться.
– Вы чо тут разоряетесь? – недовольно спросил он, потирая красное худое лицо. Над губою топорщились редкие на кончиках бурые усы, бороденка, тоже редкая и седая, была набекрень. В ней застряли хлебные крошки. – Как занесло вас на мой дощаник?
– Был твой. Теперь наш, – усмехнулся Барма, направляя суденышко по течению.
– У Терехи, что ль, перекупили?
– Не токо его, тебя тоже. Теперь мы твои хозяева.
– Слава те осподи! – истово перекрестился Егор. – А то эть с Терентием-то Макарычем сладу нет. Замаял он нас. Сколь горбим на его – привета не видать. Те, внизу-то, мои брательники.
– Все, что ль? – ахнул Барма.
– Все десять. Я старший. Служим псу этому по седьмому году. А петля все туже да туже, – жаловался Егорка, все еще не веря в свое избавление. – Взял в долг двадцать пять рублей – пять раз по двадцать ему отработал, Тереха долг не скощает.
– На берегу-то которые – тоже твоя родня?
– Не-е, те опричники его. Он зол, а те, псы, еще злее.
– Ну ничо, укротим. – Вручив кормщику весло, Барма заставил его подгребать.
– Паруса поставить бы. Ветер попутный.
– Поставим, дай срок. Вон люди, видишь? Забрать их надо.
С берега махали Митя и Гонька. Даша рвала на пригорке цветы.
– Вот и суденышком разжились. Как, братан, ничего суденышко?
– Ничего? – обиделся Егор. – Да мой батюшка покойный в Мангазею на ём бегал.
– Ну, стало, и мы побежим, – усмехнулся Митя. Повернувшись к Бондарю, сказал: – Кеша, плотик-то разобрать не мешало бы.
– Ломать – не строить. – Бондарь спрыгнул на берег, и скоро под ударами топора ракитовые связки разошлись. Бревна, так много проплывшие вместе, бежали друг от друга без сожаления.
– Спасибо, плотик! – кричала вслед бревнам Даша. – Ты служил нам долго.
– И долго и честно, – кивнул Митя, несказанно радуясь, что наконец-то и у него свое судно. Неказисто суденышко, а отчаянные предки наши не на таких ли плавали тяжкими северными путями? Да и теперь еще в неприветных студеных морях нередко встречают утлые эти посудинки. Ежели льдины их не разотрут – волне не справиться: нырки, вертки, живучи.
– Ставь паруса, и – с богом! – скомандовал Митя, ощутив под ногами прочную палубу.
– Постой, братко! Сперва команду поднять надо. Так, что ли, Егор? Буди матросов своих, знакомь с капитаном. Капитан-то, брат мой, Митрий Пиканов. Будете под его началом.
– А мне чо: чье судно – тому и служу.
– Нет, кормчий, так не годится. Ты по душе служить должен, ретиво.
– Дак чо, дак разе можно иначе? Море же, оно слаженности требует, – насупясь, сказал Егор.
– Откуда узнал, что пойдем морем?
– Дураков-то в нашем роду не было. Давай выпускай братанов на волю.
– Выпущу. А сперва суд наведем над вашим казнителем. Суденышко снова пристало. Барма послал Егора за бывшим хозяином. Тот, кончив суд, тискал самоедскую девку.
– Зовет тебя купец этот. Сказывал, будто дощаник наш перекупил. Я усомнился, – сказал Егор, подбежав к казачине.
– Перекупил?! Да где он капиталы такие возьмет? Да я ему… Щас буду, – затягивая пояс, бухтел недовольно Терентий. Пнув молчаливо лежавшего самоеда, велел: – Посторожи этих, чтоб не утекли. Я мигом.
«Эти» и не думали убегать. Девка, которую Терентий мял, тихонько поскуливала. Самоед молчал, ко всему готовый. Он не боялся ни смерти, ни обиды. Все едино скоро идти в холодный чум. Девок, дочек своих жалко. Замуж выдать их не успел. Возьмет их с собою этот злой русский, увезет неведомо куда. Двух старших так же вот увезли, и никто о судьбе их не слыхивал.
Барма, заметив, что Каменев близко, моргнул Бондарю: прими гостя как следует, сам отправился в стойбище.
– Глянется на коленях-то? – спросил старика, стоявшего на коленях. Разрезал ремни, но самоед и теперь не поднимался. – Ну стой, стой, душа рабья!
Увидев девок, поманил к себе младшую, замурзанную, но хорошенькую, поцеловал ее. Девка поначалу испугалась, потом и сама ответила ему поцелуем.
– Эх ты, пень! – выговаривал Барма старику, отупевшему от страха. – Девка вон сразу все поняла. Поняла? – снова целуя ее, спросил Барма.
– По-ня-ла, – подставив губы для нового поцелуя, сказала девчонка. – Сладкооо!
– Подсластил бы поболе, да некогда. Собирайте манатки и бегом отсюдова, – посоветовал им Барма. Егор, понимавший самоедский язык, перевел. – А Терешку вам на расправу пришлю. Судите его построже.
– Ты тоже с нами пойдешь? – спросила дочь младшая.
– Пошел бы. Есть другие дела. Да и жена у меня там.
– Я тебе другой женой стану.
– У нас это запрещено, – не без сожаления отказался от ее услуг Барма и разбросал кучу добра, собранного Каменевым. – Разберите, где чье. И ждите. Он скоро мокренький к вам явится. Решите с ним, как заблагорассудится.
Помахав девушке, Барма позвал с собою Егора и поднялся на судно. Там, потеряв прежнюю спесь, притихший, лежал на палубе Каменев. И без того больная его голова от «примочек» Бондаря разболелась еще сильнее.
– Супротив закона идете! Спросится с вас за это, – хрипло выговаривал он, со страхом ожидая, как с ним решат. Может, привяжут камень на шею и – в Сулею?
– Суд рассудит, – сказал Барма и велел выпустить на палубу братьев Гусельниковых. – А ты, братко, паруса раздувай. – Как раз ветерок шумнул, заскучав от безделья, надул поднятые паруса и погнал суденышко вниз по речке. Из трюма, заспанные, помятые, выползли десять братанов Гусельниковых. Руки их были все еще связаны, и вылезали братья по очереди, с помощью Егора. Их и на палубе не развязали: мало ли что взбредет мужикам в головы! Эти десять не в старшего: плечисты, угрюмоваты, на руках – не жилы, вервия. И как их таких могутных скрутил один-разъединственный человечишка, Терентий Каменев? Чем скрутил-то: несчастными двадцатью рублями. Покрепче, чем канатом, связал.
– Втолкуй им, Егор, что теперь они свободны, – сказал Барма, но братья не поверили. Кто ж, по рукам связанный, верит в свободу?
– А свободны, дак развяжи.
– Связаны им были, связанные и судите его, – указал Барма на Каменева. – И этих тоже. Чтоб суд ваш был злее. Купил за два червонца одиннадцать душ себе подобных. Какой участи за это достоин?
– На осину его! Башкой в воду! Топора шея просит! – вскричали братья.
– Ти-ихо! Тихо, говорю вам! – остановил их Барма. – Заслуживает он любой смерти. А токо пущай им сама судьба распорядится. Судьба аль самоеды на берегу. Раздеть лихоимца и – в воду!
Егор и Бондарь тотчас исполнили его приказание. Казак, донага раздетый, плюхнулся через борт и тотчас пошел ко дну. Оказавшись в студеной воде, вынырнул, замахал руками, опять окунулся, почуяв под ногами мель, облегченно перекрестился, но рано: на берегу его ждали туземцы. Молоденькая самоедка что-то кричала Барме. Тот, покосившись на Дашу, двинул бровями: «Молчи!»
– А теперь с этими решайте, – сказал о помощниках Каменева. – Ежели заслуживают – туда их…
– Невольные мы! Он нас неволил! – закричали в страхе два казака. Но освобожденные братья, в спешке забыв раздеть их, кинули за борт.
– Ну вот, ребятушки, вольны вы. Ступайте домой. Или – куда душа пожелает.
– Нет у нас дома, – ответил за братьев Егор. – Берите нас с собою. Мореходы мы добрые. Дело знаем.
– Это не мне решать. Вон командир наш, его просите, – сказал Барма, кивнул на Митю. – Я тут седьмая спица в колесе.
Митя строго оглядел мореходов: помятый вид их ему не понравился.
– Винишком балуются, – проворчал он. – По рожам видно. А у меня в команде никто не пьет.
– Истинно, истинно, – подхватил Бондарь, с тоской подумав, что на суденышке нет ни капли хмельного и от сухоты першит в горле.
– Вот, Кеша, к примеру, он сроду капли в рот не брал.
– Не брал, Митрий, твоя правда, – нестерпимо страдая, морщась, кивал Бондарь. А перед взором его рядами выстроились бочки, бочонки, и каждая, как в скиту, была наполнена вином. Холодные денечки миновали.








