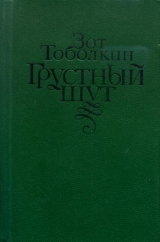
Текст книги "Грустный шут"
Автор книги: Зот Тоболкин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 21 страниц)
– Сестрицы не увижу-у… до-ома роди-ительского…
За соседним столом рядились два мужика. Один торговал у другого воз сена и требовал в придачу к нему сани.
– Без саней-то как поеду?
– На вершне, золотко, на вершне, – сладко выпевая слова, вился вокруг него гладкий, справно одетый мужик.
«Обойдет, сволочь!» – подумал Барма, примечая, что сладкоголосый все чаще подливает рябому, свою долю выплескивая под ноги.
– Пей, покуда душа требует.
– У души моей днища не-ет. У меня душенька бездо-онная!
– Нырнуть бы, а? – хихикнул сладкоголосый, предвкушая поживу. – Одним глазком глянуть, а? Вдруг и у твоей души есть донушко?
– В душу мою захотел, ирод? – Мужик рябой, словно и не пил, дал сладкоголосому в ухо. – На́ тебе подорожную! – Добавил еще.
– За что-о? – жалобно пискнул тот из-под стола. Видно, недооценил собеседника. Хотел объегорить – попался сам.
– В грязных пимах в мою душу? Там и без тебя всякий сброд шарится! У, ярыга! – Рябой опять замахнулся.
– А-а-а! – взверещал сладкоголосый и, не дожидаясь, кинулся на улицу, едва не сбив по пути рослого иностранца, когда-то игравшего с Пинелли.
– То-то, – зачмокал губами рябой и велел подать себе ковш. – Потроха разогреть не могу. Слабо ваше зелье.
Барма смеялся, ласкал зайца. Свалившийся под стол, что-то мычал немец.
– Тураки! Фсе русские тураки! – разобрал Барма глухое его бормотанье и с горечью подумал: «Дураки и есть. Пьем, деремся, воруем… Что нам мешает жить как людям?»
– Это ты про нас, харя ливонская? – услыхал Барма знакомый голос. Уже не в первый раз слышит его. Обернулся: к столу шел парень в зеленом камзоле.
– Митя, братко! Ты ли это? – опрокинув стол, вскричал Барма.
– Тима?! – Парень отпустил хрипевшего в его руках немца, стиснул в объятиях Барму и опять заплакал. – Не чаял увидеться, – бормотал он сквозь всхлипы.
А Барма тряс его, тузил по спине кулаками.
– Эй, эй! Не бей моего матроса! – К ним подобрался тот самый игрок, партнер Пинелли, зорко ощупал Барму оценивающим взглядом. Одет с иголочки, красив, уверен в себе, как всякий искатель приключений.
Недавно прибыв в Россию, Фишер купил себе у спившегося голландца шхуну и теперь собирал для нее команду. Митя подвернулся ему под руку одним из первых. Добравшись до Петербурга, он обнищал и обносился. Однако сумел сохранить карту и записи о недавно открытой земле Курильской. Хотел передать эту карту царю или адмиралу Соймонову, но его гнали от дворца прочь, смеясь над нелепой, жалкой фигурой. Проходивший мимо Юшков кинул, как нищему, монетку. Митя подобрал ее и, безнадежно вздыхая, отправился в кабак. Деньгу пропил и запродал себя Фишеру.
– Что, братко, и тебя купили? – усмехнулся Барма. – Дорого ль оценили?
– Харч да одежа. Эй, хозяин! Дай денег. Мне надо одеться.
– Ступай на корабль, – оттолкнул его Фишер. – Жди.
– Этой мой брат, – сказал Барма. – Не обижай. Понял?
– Этой мой матрос, – с издевкой отозвался Фишер. – Я подписал с ним контракт. Понял?
– Я уплачу за него.
– Мне матросы нужнее денег.
– Давай меняться – голова за голову, – предложил Барма и выволок из-под стола пьяного немца. – Вот тоже мореход опытный. Бери. И целковый впридачу.
– Согласен, – кивнул Фишер, возвращая контракт. – Осталось вернуть камзол.
– Отдай, черт с ним, – брезгливо поморщился Барма. Тронув парик, посоветовал: – И мочалку эту скинь.
– Я пошутил, приятель, – возвращая рвань, которой снабдил обнищавшего Митю, сказал Фишер, стараясь расположить к себе братьев.
– А мы не шутим, господин. И так уж дошутились: иноземцам себя продаем, – сухо отозвался Барма.
– Да, да. Это обидно, – согласился уступчиво Фишер. Из-за стола, однако, не ушел. – Что делать, в этом мире все продажно.
– Все, кроме чести и родины, – отрезал Барма и отвернулся. – Ну, Митрий, рассказывай: где был, что видел?
– Был я, братко, на острове Матмае. С Камчатки пробирался туда.
– Знал бы, с кем контракт разрываю, – больше бы взял неустойку, – пробурчал Фишер и навострил ухо.
– Тот остров русский теперь, – повествовал Митя. – Как и все Курилы. Когда Матмай обжили – в обрат побежали. Штормом нас отнесло. Сколь времени носило – точно не скажу. Запасы кончились скоро… Поумирали многие наши. Лишь троим берег увидать довелось. Да и то одного сразу же схоронили. Нас тамошние жители подобрали. Потом и товарища моего не стало… Я, вишь, жив-здоров, пирую с тобой, – невесело закончил рассказ Митя.
– На Камчатку-то как попал?
– С казачьей командой. Где водою шел, где сухопутьем. Хотелось до оконечности земли добраться.
– И добрались? – живо повернулся к нему Фишер, с растущим интересом рассматривая моряка. Потрепала его жизнь. Молод, а глаза в сетке морщин. Голос печальный. Должно быть, пережил много, терял многих.
– Добрался, – тихо молвил Митя. В голосе должна бы звучать гордость: совершил невозможное. Звучала горечь.
– Слава богу, под землю не забрался, – усмехнулся Барма. – Здесь-то какими судьбами?
– Домой пробираюсь. Да прежде хотел передать царю карту… тех мест.
– Простая душа! – усмехнулся Барма. – До царя, как до бога.
– Я помогу вам, сударь, – предложил свои услуги Фишер, почуяв наживу. – Мы близко знакомы с одним князем. Он вхож к царю. Давайте мне вашу карту! – Он вспомнил Юшкова, с которым по приезде в Россию мельком виделся. Правда, тот принял его сухо, пожалуй, даже враждебно. Фишер не удивлялся: бывший дворецкий стал влиятельным придворным. «Карту, – прикинул Фишер, – можно с выгодой продать. Надо только выманить ее у этих простаков».
«Простаки» не слишком спешили расстаться с картой и говорили о своем.
– Отец-мать как, живы?
– Выслали их, братко. Ратмана помнишь?
– Бориса Петровича? Что он?
– Его заботами. И меня пытал. Забил бы насмерть. Да Дуня спасла.
– Где она, Тима? Где сестра наша? – вскинулся Митя.
– Здесь, в доме Юшкова. Скоро увидишь.
«Юшкова»?! – чуть не вскрикнул Фишер. У братьев и у него оказался общий знакомый, тот самый князь, с помощью которого Фишер намеревался проникнуть к царю.
– Вон что, – повесил голову Митя. – Дорогая цена. Повидать-то ее можно? Пустят к князю?
– Пустят. Айда грязь сначала отмоем.
– Постойте! – остановил их Фишер. – Вы нуждаетесь в деньгах. А я богат. Я могу купить вашу карту.
– Та карта не для продажи, – сухо отрезал Митя и, стряхнув с плеча руку Фишера, вышел. Барма, показав иностранцу нос, выбежал следом. Кирша ждал их у повозки.
Проехав три или четыре переулка, они оказались подле бани.
– Я тут побуду, – сказал Кирша, боявшийся отойти от своих лошадей. Братья разделись и сразу нырнули в парную.
– А ты стал еще телесней, – разглядывая застенчиво улыбавшегося брата, выйдя из бани, бурлил Барма. – Куда растешь-то?
Митя, переминаясь с ноги на ногу, затравленно озирался, зная, сколь несуразен его костюм: фламандская шапочка, английский камзол, российские лапоточки да еще тулупчик с чужого плеча, забывший о дне своего рождения.
– Тише, Тима, тише! На людях-то не шуми! – увещевал он своего шумливого, возбужденного встречей брата, нарочно приглушая медленный низкий бас.
– А кого нам бояться, братко? Мы дома. Так, Зая? – вынув косого из-за пазухи, горланил Барма. Зайчонка от его громкого голоса, от раскатистого смеха испуганно вздрагивал, морщил кроткую глазастую мордочку.
Митя, отвернувшись в сторону, раскуривал трубку.
– Дак ты куришь? – изумился Барма.
– Приучился. – Митя оглянулся, как в детстве, бывало, после совершенного проступка. Табак в доме Пиканов – грех, который не отмолить.
– Жаль, тятя тебя не видит, – начал Барма и осекся. Потом печально добавил: – И не скоро ишо увидит.
– Ох, братко! Как рад я, что встретились! – Митя сильно и нежно привлек младшего брата. Мир раздвинулся, дал место двоим. А эти двое были одно. И кровь в них текла одна, и плоть от одного отца, от одной матери. Не кирпичик к кирпичику, не шапка к шапке – душа к душе, сердце к сердцу, и оба бились в лад, сильно и взволнованно. Оба были переполнены любовью к отчему краю, ко всему, что было содеяно в нем доброго и славного. – Много мотало меня по свету. Так много, что не упомню всего…
Митя стукнул лаптем о лапоть, уставился в бусую морозную даль. Там громоздились каменные дома, горбились мосты, а за ними – где-то за ними! – плескалось море. Пахло водорослями и влагой. И рыбы в нем жили, и тонули суда, и находили упокой пытливые и отчаянные мореходы. А часто пушки зверели, изрыгая огонь и смерть. Дрались из-за вод соленых люди, соленую кровь лили. А тем водам нет конца и краю. На всех досыта хватит, ежели придется тонуть. Мите доводилось тонуть дважды. Было море ему другом и недругом. Но никогда – собственностью. Оно, как воздух, которым дышит человек. Чей он, воздух? Ничей и всякого.
– Бывало, носит меня, качает… жить тошно! А я внушаю себе: рано! Побывай, Митьша, сперва в Светлухе. И, знаешь, выплывал из немыслимых круговертей. Кровь, что ли, звала? Аль мамкина молитва хранила?
– Сам-то молился?
– Случалось, когда гибель свою чул… – Митя потупился, вздохнул и захлопал пушистыми ресницами. Нечасто в дальних и тяжелых походах поминал он имя господне. Но когда поминал, то от души. Безмерно верил в такие моменты, что бог велик и всемогущ и не оставит в тяжелую минуту.
– Ну дак твори молитву, братко! – скатав плотный снежок, потребовал Барма. – Ежели сила в ней есть – снежок лба не коснется.
Митя улыбнулся: кабы всегда так испытывали!
– А меня вот и без молитвы никто не заденет! – бахвалился Барма. – Бери нож, бей в ладошку!
– Что ты, братко! – испугался Митя. – Зачем?
– Бей, говорю! – Митя послушно ткнул ножиком в его раскрытую ладонь. Нож вошел по самую рукоять. Барма закричал, заприплясывал, тряся раненой рукой:
– Уби-ил! Ох, уби-ил он меня-а!
– Тима, Тима! – изменившись в лице, испуганно морщился Митя. – Нечаянно я! Ей-богу, нечаянно! Сам же просил…
Уж сунулся к братьям какой-то ярыга, уж скучилась толпа любопытных и до всего охочих людей. Ей все равно – четвертуют ли человека, юродивый ли вытряхивает насекомых из своего рубища, лишь бы поглазеть.
– Ну чо вылупились? Брысь! – Барма разжал ладонь, на которой не было ни кровинки. В ладони лежала морковка, которую Митя принял за кинжал. Ярыга захохотал и тотчас же подавился: во рту у него торчала та самая морковка.
– Перепужал ты меня до смерти! – укорял Митя. Губы его дрожали, в глазах блестели слезы.
– Сказал же: мой нож меня не заденет.
– Забыл я, что ты на выдумки мастер.
– Человек без выдумки – пустое место.
Братья меж тем приблизились к дому Юшкова. На стук выскочил, что-то бормоча, дворецкий. Увидав нескладного мужичину в лаптях, в драном тулупишке, замахал руками: «Пшел, пшел!»
– Эй, чучело! – властно отстранил его Барма. – Скажи хозяйке – братья пришли.
Холоп отпрыгнул, заулыбался и отвесил поклон. Барма наддал ему в зад коленом, стал ждать. Из светлицы, заслышав шум и громкий голос Бармы, спешила Дуняша.
– Вот, Дунюшка, скитальца к тебе привел… От царя морского с поклоном, – тщетно пряча за спиной рослого брата, балаганил Барма.
– Митя! Митенька! – всплеснула руками Дуняша и обмерла в бережных братниных объятиях. – Знала, что воротишься… ждала.
Высоки потолки в княжеских хоромах, просторны горницы, но тесно в них, душно истосковавшимся друг по дружке людям. Улетают мысленно в Сибирь неведомую, к родителям. Митя – дальше еще, к ледяному мысу, на котором зимовал; маялся, грыз мерзлое мясо, рвал зубами свежую рыбу, как и туземцы, приютившие его. Жил в дымном чуме, делил ложе со смуглолицей скуластой женщиной. После, с этой же верной женщиной, Ариной, всякими неправдами пробирался к родному дому. Схоронил ее на Енисее-реке. От всего, что пережил, остались два корабельных журнала да грубо рисованная карта, которую Митя желал бы вручить самому царю, а потом побывать в родимой Светлухе.
Дуняше детство вспомнилось. Скорее, один день из детства: в тот день отправились в лес и заблудились. Было темно и страшно. Лишь через сутки Барма вывел их на светлую полянку. Дуняша радостно вскрикнула, вдохнула запахи разопревших под солнцем трав, вереска, который раньше казался обыкновенным кустарником, муравьиной кучи, в которой работящие хозяева исполняли свою неизбывную поденщину. Хотелось плясать от радости, а по лицу текли слезы. Они и теперь текли. Воротилось детство, что ли?..
Барма посмеивался. Что ему оставалось? Плакать не умел, тем более на радостях. Хотя надолго ль эта быстролетная радость? Разглядеть хорошенько – грустна, темна. Сестра любимая мается в золоченой клетке, как пташка певчая. Где-то бредут, если живы, родители по снегам нетоптаным. Смеху немного. «Живы, живы!» – внушает себе Барма, взором внутренним пронзая бессчетные версты.
…Лес увидал, густой, дремучий, мало отличный от светлухинского. Тут окраина города. В крайней избе рыжебородый мужик с насмешливым твердым взглядом. На него спозаранку ворчит голенастая, тощая старуха: страшноватая бровь сумрачно выгнута, другая бровь («Неужто хозяин приложился?») рассечена и не гнется.
– Буди гостей, Егоровна! Мечи шаньги на стол, – велит хозяин, поглаживая блестящий голый череп.
Нечаянные «гости» проснулись чуть свет, шепчутся едва слышно. Вчера зазвал к себе Гаврила Степаныч. Хозяйка недовольна.
– Не было гостей, и это не гости, – ворчит она. – Носит их по миру, как пух тополиный.
– Бровь-то не чешется, Фелицатушка? – кротко спрашивает хозяин и взвешивает на ладони волосатый бурый кулак.
Старуха дрогнула, отставив рогач, пала на колени:
– Прости, Христа ради, Степаныч! Не с той ноги поднялась.
– А ты смекай с вечера, чтоб знать поутру, на которую ногу ступишь, – добродушно советует хозяин. Он первый в городе, кто добрым словом обогрел ссыльных, завел их к себе.
– Не держи сердца на нас, Фелицата Егоровна, – подает голос Потаповна. – Не по своей воле странствуем. Развидняет – уйдем, приткнемся где-нибудь.
– Будь как дома, Потаповна, – приглашает хозяин. – Умывайтесь – да за стол. Уйдешь – обидишь…
…Видение было так отчетливо, так зримо, словно Барма сам лежал в этой избе на полатях, слушал разговор родителей и хозяев. Или уснул на минуту и увидал сон чудный? Что ж, пусть этот сон будет в руку!
– Садись, Тима! О чем задумался? – пригласила Дуняша. Уже и стол накрыли, пока душа Бармы витала в незнакомых дальних краях.
– Первым словом, – налив вина в чарки, себе – квасу, молвил Барма, – помянем родителей наших.
«За здравие или за упокой?» – подумали враз Дуняша и Митя.
Угадав их мысли, Барма усмехнулся:
– Живы они. Добрались благополучно. Токо что весть от них получил, – и подмигнул; глаз еще не открылся, а чарка уж показала серебряное донышко. – Теперь ты пригуби, Зая.
Взяв блюдо с капустой, полил его мадерой, поставил перед косым. Заяц робко оглядывался по сторонам, пока Барма не ткнул его мордочкой. Лизнул осторожно и захрустел капустой. Съел – глаза заходили, ноги разъехались в стороны. Дуняша и братья всё говорили, говорили и не могли наговориться. Беседе их помешал князь. Перешагнув порог, тяжело отпыхиваясь, плюхнулся на софу.
– Ух, тошнехонько! Петр Алексеич шестой день от себя не отпускает! На час вырвался… хоть дух переведу.
Несло от него потом, чесноком, винным перегаром.
Выпив квасу, глянул на братьев, позвал дворецкого и вышел сменить одежду.
– Оборванец-то этот зачем здесь? – спросил дворецкого, спрыскивавшего князя душистой водой.
– Сказали, брат Авдотьи Ивановны.
– Он же в море утоп…
– Таких и смерть не берет, – уловив неприязнь в голосе князя, угодливо хихикнул дворецкий.
– И ты зажился. А ведь глуп, – буркнул князь и, пригладив волосы, снова прошел к супруге.
– Здорова ли, Авдотья Ивановна? – спросил ласково.
– Слава богу. Сам-то здоров ли, Борис Петрович?
– Чуть что не кончился. За Тимой вырвался. Царица видеть его пожелала, – все еще отдуваясь и косясь на дико и пестро одетого Митю, говорил князь. Правой рукой оглаживал переполненный яствами живот, левой поглаживал по спине Дуняшу. – Чей будешь, молодец удалый? – спросил, словно и не догадывался.
– Братец старший, – сказала Дуня. Митя смущенно мялся, краснел, не зная, как себя вести с князем. – Воротился из дальних странствий.
– Экой могутной! Ну, обнимемся. – Обнялись по-родственному. Митя переусердствовал.
– Ух, медведушко! – поморщился князь. В животе заурчало, с камзола капнули на пол четыре серебряных пуговицы. – Не признал тебя сразу-то. А помню, встречались, – князь потер себе скулы, словно до сих пор не сошла боль, добродушно усмехнулся.
– То сгоряча было, Борис Петрович. Драться не люблю, – каялся Митя.
– Что было, то сплыло. Сказывай, где скитался?
– Сказывал уж, – заступилась за брата Дуня, силком усаживая его за стол. – Весь свет, почитай, объехал. О том сказка написана. И чертеж составил.
«Стало быть, и этот мне пригодится, – прикинул князь. – Сведу и его, нелишне».
– А ежели не пойдем? – сощурил бесовские глаза брат младший. В чужой душе, как в собственной, пасся. Плут опасный! Вроде с зайчонком забавляется, а все видит. – Не пойдем – быть тебе, князь, посрамленным…
– Твоя правда, Тима. Разгневается царица. Да ведь вам к царю-то не меньше меня надобно. Отличит, ежели в добрую минуту угадаем.
– По тебе судить, там не за ум отличают… за брюхо, – кольнул Барма.
– Ты! Ты! – потемнел князь, но тут же погас, заохал и рухнул на скамью. Барма, сидевший на ней, резко вскочил – скамья вместе с хозяином опрокинулась. – Глумишься? – спросил князь с обидой.
Барма, хоть и не сразу, помог ему встать.
– Сидеть с тобой не по чину.
– Не чинись, знаю тебя, – отмахнулся князь.
Проводив Дуню, велел принести братьям нарядную одежду: Мите – немецкую, в какую сам облачился, Барме – алый кафтан с белой опушкой, козловые сапоги, красную бархатную шапку, синие плисовые штаны.
– Облекитесь, и – со Христом.
– Я лучше в своем, – отказался Митя, которого все в этом доме смущало. На ветру, на виду у матросов – там все свои – чувствовал себя легко и свободно. Здесь и язык немел, и ноги терпли.
– Оденься, братко, – сказал Барма. – Твое – тоже не наше. И князь от этого не разорится.
– Верно, ребятушки, верно! Наоборот, в прибыли буду, ежели угодите царю и царице. Уж вы постарайтесь ради меня.
– Родителей-то наших когда воротишь? – спросил не ко времени Барма.
– То, Тима, не в моей воле, – признался князь и сказал правду. Царь более не жаловал его, к себе близко не допускал. Тому немало способствовал друг давний Александр Данилович.
10
Пиканов сдали в Тобольске начальству, а как с ними дальше быть, не знали, поскольку бумага затерялась у покойного Ефима. Чиновник расспросил, за что высланы, к какому приговорены наказанию…
Казак Малафей, человек многоопытный, надоумил: говорите, мол, на поселенье выпросились. На родине голодно.
Так и сказали.
– Ремеслом каким владеешь? – Чиновник особо придираться не стал. Мало ли кого сюда ссылают…
Люди родились, чтобы жить сытно и счастливо, а их гонят в Сибирь, словно в Сибири должны обитать одни преступники. Сколько таких бедолаг уж прошло через его руки! Иные, ловкие и живучие, пристраивались к какому-нибудь делу, богатели и жили безбедно. Другие терялись и кончали жизнь в кабаке или под забором.
Сибирь не для слабых людей.
Этот дюж. Кость крепкая. Хоть и видом суров, а лицо как будто честное и руки вон какие тяжелые. Потому и спросил про ремесло.
Пикан отвечал без запинки:
– Охотник, корабел, плотник.
– То ладно. Чуть погодя на обзаведенье получишь. А пока ночуй в съезжей. Аль у знакомцев. Есть знакомцы?
– Казак один. Поди, приютит. – Пикан имел в виду Малафея.
– Ступай. Утре явишься за пособием.
Поджидая Малафея, забежавшего к свояку, Пикан загляделся на колокол. Колокол был за решеткой. Ухо оторвано. «Наверно, со звонницы пал», – подумал Пикан, залюбовавшись отменным литьем.
– Не земляка ли признал? – спросил усмешливо мужик рыжий. Глаза маслились, голос тек медленно, густо. Видно, вышел из кабака, коих было тут великое множество.
– Про кого судишь? – не понял Пикан.
– Дак про него же, про страдальца безухого, – пояснил мужик, указал на колокол. – За звон бунтарский из Углича выслали. А его дед мой отливал.
– Чудно! – покачал головой Пикан. – Людей ссылают – понятно. Колокол-то при чем?
– Все при том же, – насупился мужик.
Слово за слово, разговорились. Не дожидаясь Малафея, Гаврила Степанович увел Пиканов к себе.
И вот уж хлебосольный хозяин за стол зовет. Потаповна хлопочет в кути, о чем-то перешептываясь с хозяйкой.
Не верилось им: в неволю гнали – оказались на воле. И вот уж надо идти в управу. Там посулили деньги на обзаведенье, корову, лошадь и птицу. Иван истово помянул в молитве ловкого казака Малафея.
– Долго ли лбом-то стучать будешь? – допытывался Гаврила Степанович, сам наскоро обмахнув просторный лоб. – Брюхо подтянуло…
– Дом на пригорочке ставьте – соседями будем, – советовала Фелицата Егоровна, забыв, что недавно еще ворчала на пришлых. По душе пришлись: опрятны, услужливы. Таких вот обходительных соседей ей и хотелось иметь. В городе всяких полно: в погребах и амбарах шарят. Под окнами дерутся. А этих к себе позвать не зазорно, и самим не худо в гости наведаться.
Мужики бражничали, негромко беседовали… Но вот заспорили о кресте, о каждениях.
– А мне, парень, все едино: что две аллилуйи, что три. Что фигушка, что двуперстие, – потягивая ядреное пиво, щурился насмешливо Гаврила Степанович. – Пока жив – не молюсь. Помру – и молиться не надо. Давай-ка медку в себя плеснем. До-оброй медок-от! Который хил, тот со второго ковша валится. Пей на здоровье, Иван Ипатьич! Дело – богу угодное. Завтре мужиков подряжу – лесу навалим для твоей избы.
– Бог тя, Степаныч, спасет. – Пикан поначалу осенял питье крестом, но скоро забыл об этом. И без креста пилось ладно.
– Бог – меня, я – тебя. Вот и станем все спасенные. Стерлядку-то подымай, соседушка, в горчичку ее да хренком примакивай. Сочна стерлядка! Так и просится к медовухе! Ну-ка, Егоровна, добавь!
– Резво начал – приостановись, – проворчала хозяйка, но больше для вида. И у нее на душе был праздник. Обе с Потаповной пригубили и теперь хрустели жареной гусятиной.
Стол, уставленный яствами, так маняще, так разнообразно пах, что бусый кот на нижнем голбчике, ожидая, когда о нем вспомнят, зажмурился и чихнул.
– Будь здрав, Буско! – пожелал Гаврила Степанович и кинул под стол гусиное крылышко. Придвинувшись к Пикану, задышал в ухо: – В новину-то не боязно было ехать?
Пикан не спешил с ответом. Сперва прожевал, потом смел со стола крошки. Молча выпили, бородой задевая бороду. Потек разговор.
– Не то слово, Гаврила Степаныч. Не страх донимал – обида! Отцы и деды в поморах белый свет увидали. Там же и успокоились. Нас с Потаповной от детей, от дома недруги отлучили. В неведомые земли загнали…
– Столь ли уж они неведомы? Апостол-то ваш, Аввакум-то, подале бывал. И тут его привечали…
– О том читал в «Житие», знаю, – кивнул Пикан, потом спросил осторожно: – Сам-то какими ветрами сюда занесен?
– Я тут родился, Иван Ипатьич. Тятенька мой из Углича. Приехал колокол выручать – наказ был от Углича. Да тут и помер.
Застолье долгое было. Беседа мерная шла. Насытившись, сходили в управу. Получили там все, что полагалось переселенцам. А утром, сбив артель, отправились на деляну.
11
Князь испугался, увидев перед собой этого человека, но теперь он был не лакей, а министр, пользующийся особым доверием царя. Собираясь лишь кивнуть ему, Фишер вместо этого низко поклонился.
– С чем пожаловал? – спросил князь холодно.
– Его святейшество поручил мне напомнить вам об одном обещании.
– Я что-то обещал ему? Ты путаешь, – желчно скривился князь, подчеркивая разницу между бывшим дворецким и всесильным вельможей. Фишер поклонился еще ниже: он знал, как меняет людей власть. Сам служил многим государям. Служил с выгодой. Но в Ватикане вместо жалованья получал папские благословения. И потому, отправившись с миссионерами в Россию, Фишер обчистил святых отцов, оставив им четки да требники. А на границе выдал за соглядатаев, что, между прочим, было совершенною истиной. На деньги, добытые у папских посланцев, купил себе шхуну. Осталось нанять команду, но, кроме священных книг и проигранной Пинелли табакерки, у него ничего не было. Он стал добиваться встречи с Юшковым. Эта встреча наконец состоялась.
– Я привез вам книги от его святейшества. – Фишер осторожно напомнил о шалой болтовне молодого дворецкого.
Князь ядовито усмехнулся: «Кто знает о ней, кроме нас двоих?» Человек, как известно, смертен. Борис Петрович пощупал нагрудный крестик, в котором хранил заветную пилюлю. Она очень легко растворяется в вине.
– Книг, мил человек, у меня и своих вдоволь, – наливая вино, сказал он. Пилюлю, однако, не бросил. – Пей!
Фишер мрачно усмехнулся, уставившись на князя подозрительным взором: отравленное вино при папском дворе – не новинка.
– Не бойся, пока… не отравлено, – успокоил Борис Петрович, пригубив первым. Этого «пока» было достаточно, чтобы указать Фишеру то, что и сам он знал: жизнь человеческая стоит немного. И потому стал словоохотлив. Слегка привирая за вином да за угощеньем, рассказал, кому и за сколько служил, какие оказал услуги. Князь тотчас понял, что совесть не слишком отягощает этого проходимца.
– А много ль тебе платил папа? – перебил князь его разглагольствования.
– Мало, сударь. Пожалуй, даже слишком мало, – признался Фишер, пообещав себе мысленно: «Но из тебя я вытряхну втрое».
Борис Петрович иронически хмыкнул: «Простаков ищет». Однако, подумав, решил использовать для своих целей этого продажного авантюриста.
– Я нужных людей не обижаю, если они мне верны.
– Я буду верен вам, сударь! – приложив руку к груди, воскликнул Фишер.
– А ведь ты не беден, – усмехнулся князь, показав немалую осведомленность. – Суденышко купил. Для каких нужд?
– Намерен торговлей заняться, – торговлей Фишер называл каперство: я дарую тебе жизнь, ты отдаешь мне свои товары. По кабакам и слободкам шлялось немало головорезов, из которых он собирался сбить команду. Обучив их, почистить купчишек и сплавать с товарами в Сибирь, где, по слухам, очень легко разбогатеть. – Но из всего, что было, – признался он, – осталась одна табакерка.
– И та, верно, не твоя, – тотчас угадал Борис Петрович. Помедлив, хмыкнул и рассмеялся: – Неужто святейшество поверил, что я продамся за табакерку?
– Но там, в Ватикане, вы так горячо говорили о… – начал Фишер.
– Я православный, – гневно перебил его Борис Петрович. – Я русский. Служу государю своему не за страх, а за совесть.
– Сударь, я ни минуты в этом не сомневался! – опять поклонился Фишер, скрыв невольную ухмылку, которая дорого могла ему обойтись.
Князь отпустил его, велев бывать у себя, а вскоре свел с Виллимом Монсом:
– Стань другом ему! Человек нужный.
Фишер легко сошелся с царицыным секретарем и часто приносил Юшкову ценные сведения. Но сейчас он явился некстати. Борис Петрович спешил во дворец.
– Фортуна благоволит к вам, сударь! – воскликнул Фишер, узнав, что Пикановы – близкие родственники князя. – У старшего, имени его не знаю, есть карта…
– Карта и у меня есть, – пробурчал князь, указав за спину. Там висела грубо очерченная карта, по которой в ратуше определяли, где и сколько собрано или еще не собрано налогов. Фишер, не ведая о том, напомнил Борису Петрозичу о недовольстве государя. Дошло до того, что главный прибыльщик не чист на руку. «Верно ли это? Ответствуй», – сказал как-то при встрече тихо, уставясь на Юшкова укоризненно. Доверял ему бесконечно. Так неужели и этот, как пес, преданный человек заворовался? «Ваше величество, – отвечал князь, – меня в незаконных поборах обвинить всяк может. Особливо ж те, кто сам ворует».
Понял Борис Петрович, что тут не обошлось без князя Меншикова, мстившего за «почепское» дело: городок взял в подарок от гетмана Скоропадского, присовокупив к нему малую толику земель. Не вмешайся царица, быть бы светлейшему на плахе. Каялся слезно, вину признал. А на Юшкова затаил злобу. Дошло до него, что главный прибыльщик запустил руку в царскую казну, присвоив себе сто или двести собранных с инородцев тысяч. О том проболтался пьяный Монс; Даша слышала собственными ушами. Тоже был зол на князя за неудавшееся сватовство. На прошлой неделе сватался. Даша заупрямилась: «Лучше в прорубь!» Жених знатный, и князь настоял бы, да краем уха слышал, что к Монсу благоволит сама государыня.
«Слишком благоволит!» – с двусмысленной усмешкой подтвердила княжна, посвященная в дворцовые интриги.
Князь тут же ввел в дом к Монсу своего человека. И не покаялся.
– …Ваша карта, сударь, прибыльщикам интересна, но не мне… А та, мореходская, стоит целое состояние, – снисходительно между тем улыбнулся Фишер, дивясь простодушию князя. – Если сбыть ее знающим людям, – добавил он осторожно.
Юшков слыхивал, что именно так наживался Андрей Виниус, ведавший Сибирским приказом: сбывал карты и сказки русских первопроходцев иностранцам.
– Если бы снять с нее копию, – продолжал Фишер, – я мог бы запродать ее шведам.
– Шведы – исконные враги наши. Негоже выдавать им секреты России.
– Рано или поздно этот секрет станет общим достоянием. А ныне может принести нам с вами некую весьма ощутимую пользу.
– На то моего согласия не будет, – круто отрезал князь.
И Фишер отложил разговор до более благоприятных времен.
– Следующая весть, сударь, вам более интересна, – начал он, но чтобы проучить князя за резкость, помедлил, достал табакерку и вложил в ноздрю щепоть табаку.
– Ну, – нетерпеливо требовал Борис Петрович. – Скоро прочихаешься?
– Почитая себя слугою вашим, спешу передать суть беседы с приятелем моим Виллимом Монсом. – Борис Петрович насторожился. Вот весть важная! – Хмельной Виллим сказал мне, что… – Фишер опять выдержал долгую паузу, но князь ничем не выдал своего жадного нетерпения. – Он хвастался тем, что имел успех у некой особы…
– Что ж, немец этот мужик телесный, – равнодушно зевнул Борис Петрович и обмахнул мелким крестом рот. – Молод и собой виден.
– Ее величество тоже заметила это и… оценила.
– Тщщ! – Князь пружинисто подскочил, изобразил испуг, хотя взликовал в душе и теперь ждал от Фишера весомых доказательств. – Нас могут услышать.
Подойдя на цыпочках к двери, прикрыл ее и, спятясь, приложил ладонь вороночкой к уху.
– Враги царицы много дали бы за то, чтоб это услышать, – усмехнулся Фишер, следя за манипуляциями князя.
– Чем подтвердишь сказанное?
– Пьяный Виллим показал мне колечко одно… с руки царственной особы. И – посланьице, – тянул Фишер, решив содрать с князя побольше. – Полагаю, вы оцените это по достоинству. Я должен платить команде, которую почти набрал.
– Заплатишь, – успокоил князь. – Поплывешь в Лондон. Там есть банкир один… с ним свяжешься. – Юшков прослышал о том, что князь Меншиков держит в Лондоне огромные вклады. Это надо разведать. И тогда всесильному фавориту конец. Пока ж с этим делом покончить следует.








