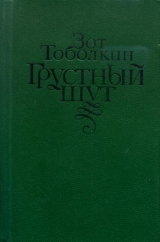
Текст книги "Грустный шут"
Автор книги: Зот Тоболкин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 21 страниц)
– Что, не берет? – усмехнулся Степанович. – Оно конечно: сей напиток для младенцев. Вели, Минеевна, чего покрепче подать.
Те же две девки на огромном серебряном подносе принесли целый хор бутылок.
– Вот это певчие! Токо глотки заткнуты, – расхохотался Степанович и принялся раскупоривать бутылки.
И – началось. Долго и усердно заливал смуту души Пикан. В питье воздержанный и суровый, тут вдруг размяк, почувствовал себя слабым. Отчего-то жалости захотелось, женской ласки. Словно жалость и бабьи руки могут оградить от всех жизненных передряг. Водка разогрела, распахнула замкнутую на амбарный замок душу. Водка да еще песня, которую завели сосед с Минеевной:
Бог те на помочь, девица,
Воду черпать, воду черпать.
Глубо́ка ли та водица,
Глубо́ка ли?..
Высоко, в самый потолок бился сильный, разлетистый голос Гаврилы Степановича, опережая страстный, из самых глубин душевных идущий призыв женщины. Разбегались голоса, потом сходились, сливались, как река с ручьем, текли вместе, то грустно, то озорновато журча, всплескивая. И складная песня, слова которой они мяли, вытягивали и обрывали, раскачивала внутри какие-то невидимые струны. Те струны звенели, как бы подыгрывая певцам. «Стихиры небось с таким рвением не поют!» – с неискренним осуждением думал Пикан. Сам, шевеля беззвучно губами, выводил повторы. Потом забылся, рявкнул во весь бас, заглушив оба голоса:
Чаще леса часты звезды,
Часты звезды-ы…
Рявкнул и застыдился, мнилось ему, осуждающего взгляда Феши. Она поощрительно улыбнулась, дивясь нерастраченной мощи Пиканова голоса. Да и не только голос, все в нем было пока сильно и неизношенно. И, пожалуй, всего с избытком.
– Пой, пой, Иван Ипатьич, – подбодрила женщина, ласково коснувшись его руки и вызвав в ней дрожь. – Складно ведешь… хора не надо.
– И колокола не надо – вон как гудит! – рассмеялся Гаврила Степанович, указывая на приплясывающую посуду.
– Да я и песен не знаю. Больше – молитвы, – забормотал, сбившись, Пикан. Проклинал себя за несдержанность, влез в чужую песню, а еще ранее – в чужой дом. Сидел бы с верной Потаповной, пимы починял да кросны настраивал.
– Э, чего там! Ноне не тому богу молимся, – отмахнулся Гаврила Степанович. – Покажи-ка, Минеевна, где голову оплеснуть. Горяча стала.
Посмеиваясь, они обнялись и ушли. Пикан скрипнул легонько лавкой, оправил бороду и чинно сложил на столе большие тяжелые руки.
– Что ж, так и будешь молчать? – усмехнулась Феша. – Спел бы!
– Сказал, не умею, – буркнул он, плеснув себе водки.
– Тогда я спою. Можно?
Пикан, взъерошенный и никак не пьянеющий, угрюмо кивнул и уставился на скатерть. Стыд жег, что с глазу на глаз остался с чужою женщиной и что против воли тянет на грех. А она словно не понимает или понимает все, но ко греху привычна, хоть и замужем, хоть и годами молода. Что старого-то да женатого с пути сбивать? Годами ровесник Степанычу. А тот… тьфу, блудень! Что-то долго голову освежает. Чью голову, в какой воде?..
– Ах, да не вечерняя заря спотухала, – завела проникновенно Феша. —
Ах, спотухалася заря.
Ах, да полуночная звезда высо́ко ли?
Ах, высо́ко ли звезда, высо́ко ли?
Ах, высо́ко ль звезда взошла?..
– Подпевай, что же ты? – знаком указала Феша.
Пикан не выдержал: обуздывая могучий свой бас на немыслимых низах, где человеческий голос терялся, повел повторы. И не утерпел в соседней горнице Гаврила Степанович, застегивая на ходу кафтан и рубаху, прибежал на песню. Чуть погодя, посмеиваясь, вошла Минеевна, и песню взяли в четыре голоса.
Долго-долго в тот вечер пелось им, беззаботно, весело пелось. Ушли за полночь, унося с собою радостные воспоминания о гостеприимных хозяйках.
Дома, как и отец когда-то, Пикан пал перед женой, смиренно поджидавшей его у окошечка, на колени:
– Прости, Потаповна! Прости, голубица! Весь день и полночи бесей тешил. Дьявольские песни играл…
– Бог простит, отец. Бог милостив, – гладя взлохмаченные, пахнущие чем-то незнакомым волосы его, говорила Потаповна.
Она тревожилась: не ушибся ли где. Слыхала, драка была. Муженек не утерпит, непременно ввяжется. Живой воротился, не битый, и то слава богу.
17
Россия кузницею была, великою кузницей, горн в которой раздул Петр Великий. На огонек горна со всех сторон на землю русскую текли мастера и ученые. Дымили тульские и московские заводы, из недр уральских извлекалась руда, возводились верфи и каналы, города и дороги. На строительстве одного только парадиза полегло столько русского люда, сколько не погибло его даже в Северной войне. Страшным, все поглощающим кладбищем стал любимый царем город – Петербург. Каналы и мануфактуры, начатые разными авантюристами, разоряли и без того опустошенную казну, подрывали народные силы. Лишь через годы, через многие годы – Петра уж не было – по тем каналам поплыли суда. Разорялись бесчисленными налогами и открытыми грабежами целые губернии; купцы и помещики скрывали огромные свои состояния, форты и рейды раскидывало бурями. Но царь твердой рукою вновь и вновь бросал миллионы рублей и сотни тысяч рабочих, слал во все стороны искателей руды, строил шахты и горные заводы, звал иностранцев, среди которых оказался скульптор Пинелли. Прослышав, что в России больше, чем где-либо, ценят таланты, он, не задумываясь, ринулся на восток. Приняли его хорошо, обласкали, велели сделать из уральского камня державный символ. Итальянец рьяно и без промедления взялся исполнять государственный заказ, тем более что за него сулили большие деньги. За какой-нибудь год с небольшим он вырубил туловище человека с молотом в руках. Что-то не понравилось мастеру. Хотел через канцлера заказать еще одну глыбу. Но его прогнали прочь. Канцлеру было не до Пинелли. Царь хворал и, как сказали, неизлечимо. «Дело-то на полпути остановилось!» – всюду доказывал горячий итальянец. Ему не внимали. Смертно обидевшись на правителей этой безалаберной, суматошной державы, он засобирался домой, не стяжав себе ни славы, ни денег. А камень – символ России – так и остался незаконченным: человек, из него высеченный, рвался вверх, а его засасывала болотная буча. Да, наверно, так и было. Много сил и сметки понадобится русскому человеку, прежде чем родина его вырвется из темноты и дикости. Об этом и о многом другом говорили Барма и Пинелли.
Безродный, бездомный скульптор привязался к русскому парню, а может, иные какие причины звали его во дворец Юшкова. Несмотря на житейскую мудрость, обретенную в долгих скитаниях, он все же не мог скрыть великого нетерпения и часто косился на дверь, из-за которой обычно появлялась княгиня.
Барма посмеивался.
Человек этот, бесстрашно пытавшийся одолеть время, которое упустил, обрести место под солнцем, хотя в собственной его стране было теплей и легче определиться, человек этот казался Барме не авантюристом, вроде Фишера, не гражданином мира, как тот называл себя, а заблудившимся ребенком. Он был не по возрасту силен, трудолюбив, умен, но беспомощен. В худом, длинном теле Пинелли обитала тонкая, чувствительная душа. Вчера, одержав какую-то, пусть даже самую маленькую победу, он торжествовал и воображал себя несокрушимым, а сегодня, оттого что кто-то, более сильный и ловкий, оттер его в сторону, терялся и взывал к справедливости. Не дождавшись ее, обвинял весь народ русский в глупости и варварстве.
– Живешь-то ты где? Не в России разве? – покачивал головою Барма. «Дите, чистое дите! Ищет везде виноватых. Ну и найдет, так что?» Итальянцу ж сказал: – Много тут вашего брата, и все ушатами грязь на нас льете…
– Грубо, мой друг… Особливо ж, когда старшего так поносишь.
– Грубо – понятно. Да разве вы, чужеземцы, уважительны с нами? – желчно возражал Барма. – А ведь из нашей чашки едите. Россия наша, верно, бедна, темна. Но дай срок, воспрянет, великий ум в ней проснется, вели-икая сила. Я в это верю. Поверь и ты, Леня…
– Мой друг сердится? – с мягким упреком улыбнулся Пинелли. Сильные пальцы его сдавили Барме колено. Они давно не держали ни молотка, ни резца, но были в мозолях. – Прости, если я не прав. Обида делает нас слепыми.
– На кого обижаться-то? На народ? Сам видишь, как он живет… Более семидесяти налогов платит. А Борис Петрович да светлейший уж другие придумывают…
– Тсс! – Пинелли пригрозил длинным пальцем, оглянулся. – Нехорошо, ежели хозяин услышит.
– Он и похуже того слыхивал, – беспечно отмахнулся Барма, играя фигуркой, которую только что вырезал.
– О-очень похожа на царицу. Да, очень! Ты, друг мой, талантлив, но у тебя есть один недостаток. Ты беден, как Иов. Или – как я. Но есть шанс один, – Пинелли наклонился к самому уху Бармы, зашептал, хоть никто их не слушал, но за спиною прошелестело платье – Дуняша, затем послышались усталые, медленные шаги. Так ходят старики или неудачники. Брат идет, низко опустив голову. А надо ли?
– А ну покажь, Зая, как по земле Пиканы ходят! – молвил Барма весело и столкнул с плеча скучавшего зайца. Тот спрыгнул, на мгновение пригорюнился, но, будто увидел посторонних, высоко задрал мордочку и горделиво прошелся на задних лапках. Получив морковку от Дуни, разгрыз ее и через стол махнул на плечо Бармы. Княгиня вскрикнула, рассмеялась испугу своему. Митя ужал голову под серым комочком, пролетевшим над ним.
– Что, братко, опять не пустили? – сочувственно усмехнулся Барма. – И завтра не пустят, – успокоил насмешливо, советуя не огорчаться из-за таких пустяков. – Леня вон тоже на поклон к царю просится. Где уж вам! Там стена из сановных задниц. Рожи к болящему повернуты, а в глазах – нетерпение: когда помрет, – кончил Барма с издевкой.
…Силою мощного воображения своего увидал царя – худого, с потною прядью на лбу… Рука бессильно свесилась с ложа, пальцы шевелятся, словно просят чего-то, глаза растерянно и слепо блуждают – не видят лиц человеческих. Где лица-то? Куда подевались? Кого любил, кто был предан – тех не пустили. Вокруг рожи, рожи… одни рожи! Глаза, как у кошек в темном подвале, горят огнем алчным. Царь вскрикнул. Над ним тотчас склонилась Катерина. Склонился Меншиков, чуть отведя нос в сторону. От умирающего шел тяжелый запах. «Однако, скоро», – подумал князь, и мысль эта, словно грифелем на белой доске, выписалась на его обрюзглом лице. Светлейший неприметно сжал локоть царицы. Из окружения кто-то толкнул своего соседа: «Примечай! Уж есть заместитель государю…»
«Поживем – увидим», – многозначительно хмыкал сосед, более других посвященный в дворцовые тайны, и натягивал маску скорби, ликуя в душе: государь, которого чтили, но еще больше боялись, слава Христу, отходит… Не растеряться бы, не упустить бы момент!
– Что надобно, Петенька? Пить? – сахарным голосом спрашивала царица, готовясь к скорбному плачу. Знала: царь – не жилец. – Или больно тебе? Где?
Царь дернул перекошенным ртом, дико повел глазами. На глазах выступили слезы бессилия. Не было в нем прежней силы, ярости не было; осталось одно зоркое зрение уходящего из жизни человека.
Этим зрением видел все, угадывал каждое скрытое движение бывших соратников и друзей, ни в ком не находил жалости. Меншиков радуется: пережил патрона. Царица копит неискренние слезы… «Неужто никто не пожалеет? Никому я не дорог? Никому? Никому?» – с горечью спрашивал себя царь, и эти вопросы еще скорее тратили его и без того почти истаявшую жизнь. «Улыбнуться перед смертью… солнцу или ребенку. А может, шутке веселой…»
Жестом прогнав от себя жену и царедворцев, долго лежал недвижно. Затем подозвал к себе лекаря, промычав невнятно:
– Бу-ма-у… – и пошевелил пальцами.
Катерина, уходившая от царя последней, тотчас угадала просьбу его, прыгнула обратно и вложила в немеющие пальцы перо. Бумага лежала на низком пюпитре.
– Голову, голову подыми! – зашипела на лекаря, и с силою, совсем неженскою, оторвала от подушки выхудавшее, но все еще тяжелое тело супруга, сунув за спину две пуховые подушки. Петр кивком поблагодарил.
– Теперь уйди, – почти внятно приказал царь и, приняв обязательный поцелуй, выслал и ее, и лекаря прочь. Знал: остались часы или даже минуты. Позади, как и впереди, – бесконечность. Прочь, слабость, прочь! Надо уйти достойно и гордо, как полагается государю. Все деяния, великие нынче, завтра будут судить трезво, без скидок; кто-то примет их, оценит нечеловеческие усилия, простит ошибки и заблуждения; кто-то отринет и вынесет суровый приговор. Легко судить, тяжко нести на себе этот немыслимый, хоть и бесценный груз – Россию. Тянешь вперед ее изо всех сил – за спиною кто-то тащит назад. Кому оставить ее? Кому? Кто будет равным или, даст бог, лучшим наследником?.. Нет заботника, нет радетеля, нет возможного владыки, чья боль, чья мудрость и чьи старания превзошли бы его собственные. Сын? О, как жестоко и неразумно предал он дело отца! Там, если правда, что есть мир загробный, встретятся, и он уж божьим судом судим будет. «Ах, Алеша, Алеша! Думал, другом мне станешь, бойцом и помощником. Стал супротивником и ханжой. Не к России стремился, напротив – от нее бежал. Все понял бы, все простил бы тебе, все, кроме этого. Потому и отдал суду, который…»
Рука вывела первые буквы: «Отдайте все…» На втором слове споткнулась. Теперь нужно решиться. Выхода нет. Решаться нужно!.. А мысли путаются, плывут… И кто-то должен еще плыть… Звал кого-то… Зачем звал? Уплыть бы! Хоть на день, на месяц сбросить непосильное бремя с усталых плеч, забыв, что ты царь… За все брался, чтоб страх одолеть. Бывали дни, бежал от престола, от дел государственных бежал… чтоб усталостью заглушить страх, прорывающийся перед каждым поворотным решением. Одним словом, жестом одним можешь отбросить Россию назад… Одолевал этот страх, думал… Возвращался к делам, словно камень, отпущенный на резине. Натягивал резину, когда бежал, – она притягивала обратно с удесятеренной силой. Хочешь или не хочешь, но рожден самодержцем и, значит, должен быть выше собственных страхов, выше слабости, свойственной каждому человеку. Государю быть слабым немыслимо!
Теперь не смерть страшит, не-ет! Смерть – избавление… Одна мысль мозг сверлит: кому, кому доверить Россию?..
«Отдайте все…» – перо выпало, рука брякнулась о пол… В глаза ударило багровое пламя; языки пламени копьями вонзились в мозг. От смертного холода лопнуло сердце… Темнота… Смерть или жизнь другая?..
Вмиг распахнулись все двери: смерть ждали. Она пришла. Придворные чуть ли не с криком ликующим устремились ей навстречу. Резвее всех Катерина. Вой раздался. Царицын вой подхватили в самых дальних закоулках дворца.
И только Нартов, Неплюев с ним да двое-трое Петровых питомцев, случайно допущенных в переднюю, плакали тихо и искренне. Петр был для них светилом. Светило погасло… Бедная, осиротевшая Россия! Когда еще явится подобный царь? Да полно: явится ли?..
18
Туман пал. Вся Россия была в тумане. Она не знала еще, что осталась без самодержца: ходила, кашляла, пела, переругивалась, выкатывалась из лавок и лабазов, мчалась на тройках, выкрикивая: «Бойся!» Вот и еще одна пролетела, сбила Митю, и уже по лежавшему кошева проехала левым полозом. Барма, успев вцепиться в задок кошевки, рванул кучера за ворот и, выдернув, стукнул его.
– Тимка-а-а! – не сразу прозрев от тумака, изумился кучер. Барма узнал в нем Киршу. – Ты-ы? Спасибо за угощение!
– И тебе, друг, спасибо: брата в землю втоптал. Поворачивай!
Кирша без лишних слов выпихнул из кошевки раскормленного и смертельно пьяного седока, погнал коней обратно.
– Ну вот, угробил братана! – Барма в сердцах еще раз ткнул ямщика в спину.
– Мглисто же! – оправдывался Кирша, почесываясь от его тумаков. – Кричал «Бойся!», разе не слышал? Эх, малый! Ты чо сомлел? – Ямщик затряс открывшего глаза Митю, тот застонал, вскочил было, но снова свалился.
– Ногу я… ногу, однако, совредил, – виновато проговорил, подымаясь с Киршиной помощью.
– Знакомцу моему кланяйся за это, – ощупывая ногу его, ярился Барма.
Мимо пролетали другие возки и кибитки. Ошметки снега из-под копыт, мелкие комья секли лица, иногда доставал чей-то бич.
– Сломал, похоже, – вздохнул Барма и, усадив брата в кошевку, спросил ямщика: – Дом князя Юшкова знаешь? Правь туда.
– С князьями знакомство водишь? Я и не знал. – Взмахнув бичом, Кирша едва не опрокинул какой-то возок.
– Знай теперь. И еще то знай: ежели нога у братана не срастется – голову тебе отвинчу! – посулил, уже остывая, Барма.
– Отвинчивай, – покорно вздохнул Кирша. – Я те по гроб жизни обязан.
– Гони!
Кони и без того летели, едва касаясь земли. Кто-то вскрикивал от испуга, медлительные ямщики уступали дорогу, пуская вслед Киршиной тройке яростную брань. А он гнал, не щадя ни людей, ни своих верных лошадушек. Если и треснет вдруг чья-то голова под копытом – эка важность! Время разве не так расправляется? Тоже давит полозьями – долго давит, весь век, отпущенный человеку. Тут смерть легкая, в одночасье.
– К князю-то не спеши… – вдруг придержал коней Кирша. – Мой дом ближе.
– Вези.
Зажигались фонари масляные, плескали желтым, а свету не прибывало. Туман от их желтизны казался еще более мутным. Близ фонарей как-то скоро и неожиданно выныривали человеческие лица, лошадиные морды, и тотчас кто-то стирал их, словно боялся, что могут запомнить.
Копыта цокали в темноте, мотались хвосты и гривы, дышали зябко во влажный воздух люди и лошади, содрогалась земля. Копыта цокали в тумане, а вверху, над туманом, плыла невидная тишина. И под землей, частью которой станет скоро самодержец всея Руси, тишина, покой, стыло. Еще не знают те, кто мертв, что в их несчитанном скорбном царстве стало одним больше. На мгновенье вспыхнула в небе звезда – зажглась некстати. Надо бы погаснуть, как только что погасла беспокойная, не щадившая себя жизнь.
Кирша не знал, что царь умер. Митя с Бармой о том молчали. Через туман, через время, через мрачные петербургские улицы летела тройка, а сердце царя остановилось. У Мити нестерпимо болела нога. Барма сочувственно похлопывал по плечу: «Ничо, братко, бывает хуже».
Перед тесовыми высокими воротами Кирша натянул вожжи. От сильного рывка коренник вздыбился, едва не ткнувшись мордой в воротный столб.
– Стоять, шельма! – ласково шлепнул жеребца Кирша, привязал к кольцу за повод. Взвалив на закрошки Митю, внес в избу. Тут было тесно, людно. Стоял хохот, гам. У очага, смутно высветившего кусок стены, сидели три девки и пели. Еще три возились в углу. Унять их было некому. Смуглая, синеглазая, с добрым лицом хозяйка – сестра Киршина – тотчас занялась Митей. Подружки ее смолкли и уставились на Барму. Он каждой подмигивал, одну ущипнул за щеку.
– Которая из вас моя невеста?
– Мы все не замужем, – басом сказала младшая, фыркнула, и девки дружно засмеялись. Она, по-видимому, и была в этой компании заводилой.
– Брысь, гулены! – прикрикнул Кирша. – Вот я вас…
Прикрикнул для порядка, поскольку девки и не моргнули, лишь чуть потеснились и снова таращились на гостей. Младшая, с басом, ухватила за ухо зайца, но вместо уха в ее ладошке оказался платочек.
– Ба-атюшки-и! Ко-олдун! – испугались девки и кинулись прочь.
Младшая бежала впереди всех, но у самых дверей уронила платочек. Приоткрыв дверь, схватила его и выставила голубой веселый глаз. На нее сзади налезали девки, таращились на «колдуна».
– Весело живешь! – сказал Барма хозяину.
Сестра Киршина несуетно, но ловко и скоро одела Митину ногу в валеное голенище, туго перетянула холстом.
– Веселится мышь, пока кот не слопал, – угрюмо отозвался хозяин, поник и задумался.
– На то и кот, чтоб мышь не дремала, – в тон ему усмехнулся Барма и спросил девушку: – Ходить-то будет?
– Ой, христовой! Как же не будет-то? Бегать будет! – Она погладила Митину ногу, заголенную почти до бедра. Краснея и смущаясь, тот украдкой натягивал штанину на ногу, обмотанную холстом. – Косточка не шибко переломлена… Ежели не трудить – скоро срастется.
– Оставь братана тут. Маша живо его вылечит, – предложил Кирша.
– И сам оставайся, – подала бас веснушчатая веселая девка. – Пужать нас будешь.
– Дак ты же не боишься, – рассмеялся Барма, ужав ее нос, высунувшийся из-за двери. Она, как ласка, оскалила мелкие зубки, цапнула Барму за палец. За дверью фыркнули. Улыбнулась и Маша. Была она подружкам своим ровесница, но выглядела взрослей и серьезней. У рта, чистого и свежего, натянулись ранние две морщинки, хотя лица Машиного они не портили, бежали к ямочкам, появлявшимся при улыбке, потом сжимались, делались отчетливей, и ямочки, вместе с улыбкою, исчезали.
– Чо бояться-то? – отпустив палец Бармы, сказала басистая. Подула на укушенный палец и, покраснев, добавила: – Ты вон какой баской!
– Ну вот, Тима, и невеста тебе, – усмехнулся хозяин. – Пойдешь за него, Верунька?
– Ты Машу отдай за него, пока татарин не увел… – сказала Верунька.
– Молчи, баловница! – строго прикрикнула Маша, отворачиваясь. Глаза ее наполнились слезами. Вытерев слезы передником, не поднимая глаз, спросила: – Ужин-то собирать, братец?
– Не хлопочи, хозяюшка. Мы пойдем, – остановил ее Митя.
Самому хотелось остаться. Теплом и миром веяло от нехитрого домашнего уюта. Сразу Светлуха вспомнилась. Никак она из головы не выходит. Да и чему удивляться – родное гнездо!
– К невестам после наведаемся, – посулил Барма и стал собираться.
– Можете не успеть, – вздохнул Кирша. На недоумевающий взгляд Бармы хмуро пояснил: – Маша обещана Шакирову за калым.
– Велик ли калым-то?
– Дом, кони, которых терял…
Барма сплюнул и, нахлобучив шапку, вышел. К воротам с улицы подвернул нарядный возок, устланный дорогим персидским ковром. Из него, кряхтя и отдуваясь, вылез толстый татарин, что-то буркнул татарчонку на облучке, толкнул его в спину и медленно протиснулся в калитку. Увидав хозяина, властно сказал:
– Машка дома? Видеть желаю.
– Куда ей деваться, – буркнул Кирша. – Дома пока.
Татарин, согнувшись в поясе, обеими руками поддерживая отвисший живот, взобрался на крыльцо и без стука, словно был у себя дома, рванул дверь.
– Он что, после Батыя остался?
– Юсупова-князя сродственник. Меншикову кунак, – опустив голову, сказал Кирша. Стыдно было ему, хозяину, русскому, выглядеть перед гордыми Пиканами униженным. Чужой человек пасется в доме… Что ж, он вправе: здесь все его.
– Он жених-то?
– Он, будь он проклят! – сквозь зубы процедил Кирша.
«Арина, Арина…» – Мите вспомнилась верная, беспрекословная камчадалка, отдавшая за него жизнь. Маша чем-то напоминала ее: такая же добрая, тихая. Возьмет ее жирный старый татарин, – может, разоденет, как Юшков сестру, в тереме будет жить. Да не хуже ли это смерти? Арина, Арина, душа чистая!
– Тима! Выволоки его сюда, – сказал Митя брату. – Маленько побеседуем.
– А, щас! – Барму дважды просить не надо. Если уж Митя решился говорить с татарином, отчего бы и не помочь ему – давно руки чешутся. Минуя ступени, запрыгнул на крыльцо, ворвался в избу, где все словно вымерло. Лишь в красном углу, не сняв малахай, отпыхивался татарин, призывая хозяйку:
– Машка, Машка!
– Нет ее, дядя, – сказал Барма, выдергивая его из-за стола: – Там она. Айда!
– Айда, пойдем, – согласился татарин и, не без помощи Бармы, оказался в сенках. – Айда… пойдем. Машка туда-сюда… женой будет, – бормотал он.
– Будет, будет, – сталкивая его с крыльца, поддакнул Барма. – Ну вот, братко, суди, как с ним быть.
– А так, – Митя снял с груди мешочек, в котором хранил Дуняшин подарок. Сдернув с татарина лисий малахай, вытряхнул ожерелье туда. – Это за коней… за дом. Хватит?
Татарин ошеломленно молчал, не понимая, чего добиваются от него эти незнакомые люди.
– Коней ему давал? – спросил Барма, указывая на Киршу.
– Давал, давал, – закивал татарин. – Кобылу давал, жеребчиков давал. Карош жеребчик!
– Ну вот, получи за них, – Митя тряхнул малахаем, в котором даже в эту пасмурь сияло дорогое ожерелье. – Довольно тебе?
– Товольно, товольно! – понимая, что торговаться сейчас невыгодно, да и ожерелье стоит и тройки и дома. – А мал-мало нетовольно.
– А, мало?! – Кулак Бармы приплюснул татарину нос. Быть бы битым Шакирову, да Митя удержал быструю руку брата.
– Не кипятись, Тима. Рассчитываться надо честно. Сколь должны – отдадим. Ну, сколь просишь еще? – спросил татарина.
– Машку тайте… Дом ваш, кони ваши… – бормотал татарин, любуясь ожерельем. – Подарю Машке!
– Оставь себе. Машка наша.
– Нехорошо, кунак! – забормотал татарин, но бриллианты ему нравились. Глаза восторженно моргали, лицо лоснилось. Почитай, даром богатство в руки плывет. Отчего же не взять? Дом и кони – цена небольшая. К тому же мена без свидетелей.
– Берешь аль нет? – теряя терпение, спросил Митя.
– Беру, кунак! Обязательно беру! Твое – мое, мое – твое… – Он выхватил из малахая ожерелье, издал восторженный вопль.
– Раз так, мы в расчете, – подтолкнул его к выходу Барма.
– Рахмат! – Татарин поклонился, забормотав не без придури: – Пришел – ушел, ушел – пришел… Кунак щедрый, кунак богатый… Рахмат! – что-то сказав татарчонку, отъехал, оскалившись, закричал издали: – Рахмат, кунак, рахма-ат!
– Ох и рожа! – проговорил Барма. – Вся из грехов вылеплена. – Вспомнив радостный вопль «рахмат», оглянулся на Митю: – А не надул ли он нас? Торговались-то без свидетелей.
– Мы разе не свидетели, ты да я…
– Нет, братко, похоже, мы дурака сваляли. Так это не делается. – Барма посмеялся собственной простоте: «Не купцы, так уж не купцы».
Кирша меж тем сбегал за сестрою, подведя ее к Мите, вместе с Машей упал на колени:
– Должники мы ваши, робята! Должники неоплатные… – бормотал он, ловя руки братьев.
– Встань, не дури, – пятясь от него, смущенно бормотал Митя. Стоять на одной ноге, а тем более ходить, было трудно. – Встаньте же!
– Нет, паря, так не годится. Не-ет! – вскричал Кирша. – Целуй им руки, сестра! Ежели кто посватает, не глядя, замуж отдам! И все это, – он указал на тройку, на дом, – ваше!
– Муж из меня, Кирша, неважный, – тронутый благодарностью этих простых людей, избавившихся от неволи, сказал Митя. – Моряк я, вечно в скитаниях…
– Ждать буду, – горячо, страстно сказала Маша и, смело подойдя к Мите, поцеловала его в губы. – Вот залог мой… другого нету, – и убежала.
– Ну, братко, – Барма толкнул Митю локтем, – кажись, попался! Но девка-то какая отчаянная! Ждать ей, что ли? Чтоб знала, что ждет не напрасно.
– Ждать, – тихо вымолвил Митя. – Пускай ждет. Она мне по сердцу.
– Тогда второй раз здоро́во, Кирша, – и братья поочередно обнялись с ямщиком. – Не зря, видно, сбил-то: родню почуял…
19
Гуляли, пели, угощали соседских девок сластями. Рядом с Бармой сидела Верунька, то и дело толкая его коленкой.
– Сирота я, – жаловалась Барме позже. – С теткой живу. Тетка гулящая. Возьми меня замуж!
– Взял бы, Веруня, да не могу…
– Присуха есть? – спросила девка, дергая Барму за волосы. – Ну, сказывай! Есть аль нет!
– Соврал бы, да язык не поворачивается, – с необычной серьезностью для него признался Барма. – Правда, не ровня она… Наверно, другому достанется…
Девчонка вывернулась из его рук, упала на пол и заревела. Ревела долго и неутешно. Барме наскучило. Подражая басистому ее голосу, прилег рядом, начал подвывать. По спине его прыгал зайка, фыркал, недоуменно водил ушами. Увидав зайца и плачущего притворно Барму, девчонка неожиданно рассмеялась.
– Тогда так возьми, – сказала она, срывая с себя сарафан. – Все сердце мне высушил…
– Жалеть будешь.
– О чем жалеть-то? Все одно теткиной дорогой идти. Будь у меня первый.
Митя с Машей молча сидели в соседней горнице. Он вздыхал, воображая себя на шлюпе, которого не было и, наверно, не будет, слизывая с губ соленую влагу, вслушивался в неторопливый скрип мачт. О нос судна крошились волны. Матовый горизонт обманно звал моряка, но не приближался…
– О чем думаешь, Митенька? – сидя за вышивкой, спрашивала девушка.
– Так, ни о чем.
– Ни о чем разе думают? – улыбнулась она, подойдя к лейтенанту. Растрепала волосы его, стала подле него на колени. – Несмелый ты… Вон братец твой не робеет…
– Тима смелый. Его все любят, – без зависти подтвердил Митя.
– Да ведь и я тебя люблю!
– Ну вот… поженимся.
– Ох, сокол мой! Скоро ли? Увидала раз – томиться стала…
– Скоро, люба моя! Вот токо на ноги стану… На одной-то ноге какой я тебе муж?
– Да хоть и совсем без ног – мой ведь! И лучше нет никого на свете! – Маша обнимала его колени, заглядывала в счастливые Митины глаза. Не привыкший к ласке, весь деревянный, Митя не смел шевельнуться, молча поглаживал ее волосы, а перед глазами море бесилось, клубились тучи, задевая о мачты. Куда-то пропал горизонт – от качки ли, от жарких ли Машиных поцелуев.
– Вот токо выправлюсь – и вместе на корабле, – бормотал он, шалея от ее ласк. – Поплывешь?
– Господи, да хоть куда! Только возьми меня поскорее!
Решили с неделю погодить, чтобы потом, когда Митя выздоровеет, немедленно обвенчаться. К тому времени станет ясно, состоится ли экспедиция. Если же нет – есть иное решение: податься вместе с Бармою к дальнему Чаг-озеру, отыскать клад, а дальше – жизнь покажет.
Барма всю неделю пропадал у Веруньки. Явился домой похудевший, с синими подглазьями. В глазах, немигающих, дерзких, ни тени смущения. Митя, напротив, краснел от его насмешек. Он уж начал похаживать с палочкой, хромал, но ступал на ногу уверенно и оттого был в отличном настроении. Печаль по усопшему государю утихла, хотя, в отсутствие Бармы, моряк, князь и Пинелли частенько прикладывались к стаканчику, от души поминая Петра Алексеевича. Князь тоже тревожился: верх взяли недруги. Пока им не до него, но скоро, наверно, вспомнят и начнут сводить счеты.
Утрами болела голова, как сегодня, и Митя, пить не приученный, маялся особенно. Он и сейчас морщился, хватаясь за голову, а чуть боль отпустит – улыбался: не за горами женитьба. Потом можно сесть на корабль, и – в путь, к крайним оконечностям государства Российского. О плавании помышлял ежедневно и досадовал на недвижность свою, но более всего печаловался, что ушел из жизни труженик-царь.
– Болит головушка-то? – рассмеялся Барма, увидев разгром на столе.
– Ох, болит! – простонал Митя и тоже рассмеялся, наблюдая гримасы зайца, обнюхивающего стол.
– Свожу-ка я вас в Кикины палаты. За государев счет опохмелитесь.
Одевшись, вышли в сумрачный день. Случалось, верно, и солнце проглядывало в эту стылую ветреную весну, но редко. Вот и апрель на дворе, но зябко, так зябко, что и под шубой дрожь пробирает. Со всех сторон – не защитишься – наскакивает ветер, сечет лицо ледяной крупой, уличным сором. Без царя улицы запустили. В фонарях нет конопляного масла. Мостики проломились. Подле домов навоз, падаль. И посреди улиц валяются раздавленные псы и кошки.
Кикины палаты – кунсткамера – в те поры бесплатно открывались для общего обозрения. Кто-то из расчетливых царедворцев установил входную плату, но царь, обычно прижимистый, сердито отчитал:








