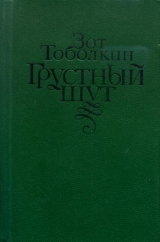
Текст книги "Грустный шут"
Автор книги: Зот Тоболкин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 21 страниц)
Мороз все наддавал, и сохатый, ухнув от его ярости, снес копытом осинку, только что им обглоданную, и, высоко вскидывая зад, рванул в распадок, где курился из-под снега неукротимый ручей. Ручей этот бесстрашно спорил с морозом и никогда ему не поддавался. Сохатый прежде пил из ручья. Вода на вкус была солоноватой и теплой, но в такую стужу тут можно, по крайней мере, залечь, и курной белый пар будет греть твои бока.
Набрякло, опустившись совсем, хмурое небо, и все миры, так тесно связанные с понятным нам миром, с землей, спрятались за гранью мрака. Из множества светильников, вечных и временных, остался единственный – костер в кедровнике, подле которого жались собаки и люди; не смея подойти, на них завистливо глядели олени. И только один, ручной и маленький, подбежал к мальчонке, ткнулся ему в плечо и выжидательно замер. Мальчонка, младший сын Тишки, вынес авке угощение. Собаки подле костра не шелохнулись. Лишь Спиря, косноязычный и страшный, борясь со словом, пытался донести божественную проповедь, сочиненную долгими, неустроенными ночами. Слова проповеди были звучны и красивы, но произносились отрывисто и бухтливо. Остяки, не знавшие по-русски, улавливали лишь отдельные темные слоги. Тишка силился переводить. Напряженно вслушиваясь в Спирино клокотанье, важно кивал головой, толмачил: «Так, так…», почти ничего из произносимого не улавливая А Спиря бухал, по частям вытаскивая из себя трудные, маловразумительные и потому особенно привлекательные слова:
– Кожу за кожу и все, елико имеет человек… так-эдак. Отдаст за душу свою.
– Кошу, Микуль, нато оттавать са кошу, – своеобразно и вещно истолковывал Иова простодушный Тишка. – Тушу са тушу. Ты мне три тушки оленьих толшен.
Бедный Спиря и не догадывался, что беседует с немыми. Он радовался, что на него вдруг нашло просветление и что Феша, хоть и не без труда, кое-как выучила его читать, а Пикан подарил старенькую Библию. Спиря шастал с этой Библией по тайге, нес божие слово. Бывало, в течение часа или двух он успевал втолковать не более полудюжины фраз, смутных и чем то пугающих. Остяки были терпеливы, усердно кивали и, не понимая, вслушивались. Спирино косноязычие впечатляло, а что не доходил смысл – их не трогало. Спиря толковал о душе – Тишка переводил туманные изречения Иова на простой и доступный меновый язык: не душа за душу, а туша за тушу. И может, в искажении этом было больше человеческого, чем в самом поучении, ибо не для того человек создан, чтобы за верность его и за веру милостивый бог доверил его глумливому дьяволу, а после всех испытаний с ног до головы покрыл язвами и паршой. Как же тут не возопить, не взроптать бедняге, в котором изо дня в день беспощадно убивают веру в справедливость. Иов устал и изверился, проклял день и час, в который родился.
Потрескивал жаркий костер, фыркали олени, ощелкивались от блох псы, вещал, спотыкаясь, Спиря:
– Тяжести гла-агол м-моих, так-эдак, кто стерпит?
Остяки добродушно и терпеливо кивали. Тыкался в нюк авка, требуя от мальчугана новой подачки.
Морозная, непробиваемая тишина нависла над тайгою. Лишь лепет костра да нудное Спирино бормотанье нарушали ее.
И вдруг – грохнули, разорвались небеса. Из непроглядного сумрака пролилась синева. Она-то и расколола заледеневшее небо. Спиря, указав на синюю заплату в небе, пугающе просипел:
– То знак господень, так-эдак! Молитесь, дети мои! – и упал на колени. Закрыв лица капюшонами, замертво упали остяки, охваченные священным ужасом. – Молитва наша дошла!
Спиря веровал истинно, истово. Не случайно же бог вразумил его и сделал своим избранником. Однажды Христос явился ему во сне и велел: «Иди и проповедуй!» – «Как же я стану проповедовать, Исусе? Я неразумен и сир!» – «Ты станешь разумен, – ответствовал сын божий. – Разум сотворит с тобой чудо».
После вещего сна Спиря уверовал в свое высокое предназначение. Он вместе с Пиканом и Фешей постигал Святое писание, а научившись читать, убрел в тайгу. Всюду, где он бывал, собирались инородцы. Его проповеди мало чем отличались от шаманских предсказаний. Но этот знак – гром посреди зимы – остяков напугал, и они уверовали в косноязычного пророка.
Благословив их, Спиря ушел, бормоча про себя: «Господь сподобил». Брел долго, изнемог и погиб бы, наверно, но наткнулся на зимовье, в котором пережидал стужу Семен Красноперов.
Спиря с размаху толкнул дверь, ввалился в избушку. Тут все, кроме таможенника, спали. Он снова сорвал крупный куш. Однако меха, сукна, лебяжьи шкурки и прочее дарить было некому. Нет Феши, исчезла Минеевна. Семен решил: «Приеду в Тобольск – заведу бабу. Службу брошу, ну ее к бесу! Сколько можно мотаться! Устал…»
Казаки всхрапывали. Из печи наносило мясным духом: испекли глухаря в золе, сварили рябчиков. Щи получились наваристые. Семен, не скупясь, сыпанул в них заморских пряностей: лаврового листа, перцу, сушеной зелени. Досыта наелся и подумывал, а не поесть ли еще, но с улицы человек ввалился, закуржавел весь. Лицо в пятнах ознобных, рот распух и одеревенел. Человек мычал невнятно, отрывая с бороды и бровей сосульки:
– Мменя… бог… от-ме-тил…
– Ясно дело, – усмехнулся Семен, признав в вошедшем тобольского дурачка Спирю. – Кто как не бог? Другой бы околел давно, а тебя никакая холера не берет. Жрать хошь? Вон похлебка.
– Так-эдак, – пробубнил Спиря, растирая залубеневшие руки. С них сыпались снег и коросты. Размяв пальцы, сел подле печки и открыл священную книгу.
– Успеешь о боге-то! Сперва о себе подумай, – посоветовал Семен, смертельно скучая в этой унылой избушке.
Собрав ужин, принялся угощать новоявленного златоуста. Спиря сдвинул на край стола щи, хлеб и водку, поправил свечку и стал водить толстым негнущимся пальцем по строчкам, снимая им темную мудрость библейского великомученика:
– Не-мощ-ный же… так-эдак… да изы-дет… из рук… силь-но-го…
– Чо уж так-то? Выдаешь в час по чайной ложке. Читай шибче! – требовал Красноперов, которого чем-то зацепили рваные Спирины откровения. И посмеивался, что слово божие несет полупомешанный, сам, верно, не понимающий того, что буровит, но ведь не зря, не зря зажегся он этим словом, и уж о нем по всей тайге слухи: «Пророк объявился новый!»
Семен долго ломал голову – кто этот пророк? Сперва на Пикана думал. Но не сходилось. Пикан в речи был разумен и гладок, этот – смутен и разумом некрепок.
Вот и встретился с «пророком». Годится он… для остяков темных. Ххэ, пророк! Взбрело же ему в башку! Ладно, встретился, дак хоть дорогу в Сургут укажет. Валяться тут надоело.
– Эй вы! – начал расталкивать он спящих казаков. – Подымайтесь! Хватит дрыхнуть Пророк к нам пожаловал.
Казаки зевали, потягивались, протирали заплывшие глаза. Спиря, не слыша их грубых шуток, читал.
– Ну, хватит! – прервал Семен, хватив на дорогу водки. – Веди в Сургут!
Наскоро прибрав в зимовье, вышли. Спиря повел их путем кратчайшим. Шли вдоль сосновой гривы, миновали кедрач, долгий распадок и скоро увидели заснеженную Обь. Теперь и без проводника не заблудишься: по льду иди хоть месяц, хоть два. Река во все времена года – поводырь верный.
К обеду следующего дня постучали в Пикановы ворота.
– Живой кто есть? – закричал Красноперов. – Отворяйте!
– Нету, – глухо отозвался Пикан, сидевший у стылой печки. – Живых тут нет…
В его жизни наступила полоса новых бед.
20
– Один, – входя в избу, удивился Красноперов. – Феоктисья где?
Пикан, плеснув в него печальной синевою, отмолчался: «Не окажу слабости, торжества ему не доставлю», – подумал о недруге, который тоже любил Фешу. Оба любили. От обоих ушла.
Красноперов ощупал печь – не топлена.
– И тут хвостом вильнула? – захохотал он зло. – Гулена, так ее распротак! С кем утекла-то? – хотел посмеяться над Пиканом, но не смеялось отчего-то. Сочувственно заглянув в потухшие Пикановы глаза.
– С Антипой.
– Молод, богат. С им не тягаться, – Красноперов положил на одну чашу свои и Пикановы возможности, на другую – Антипины. С богатым бессмысленно ссориться. А то бы нагнал Антипу в пути, отнял у него Фешу и зажил бы с нею, как жил когда-то, в почете и довольстве.
Одного не знал Красноперов: Антипа не был больше богат. Все нажитое завещал церкви. В его незапертом доме гулял ветер. А сам хозяин, устлав медвежьими шкурами возок, вчерашним днем подскакал сюда, схватил Фешу с ребенком и умчал. Она отбивалась, кричала, потом смирилась и замолкла. Не хотела признаваться себе, но ее тянуло к этому неистовому человеку, и Феша ничего не могла с собой поделать.
«Сука я, су-ука! – укоряла потом себя. – Променяла орла на сокола!»
Укоряла, но ехала и отвечала на его жадные поцелуи.
Антипа был молод, красив и любил до самозабвения. Все кинул ради нее и мчал, сам не ведая, куда мчит. Пикан любил спокойно и сильно. Он не безумствовал, как купец, а Феше хотелось безумства. Дерзость купца ее покорила.
– Воротись, Антипушка! – вновь и вновь уступая его ненасытной страсти, упрашивала она. – Вороти-ись! Венчана я…
Сама знала: если и воротится, это уж ничего не изменит. Прежнее невозвратно ушло. И во всем виноват он, молодец этот кудрявый. Откуда он свалился на ее бедную голову? Ушла от любимого или – только была любимой? Нет, нет, любила! Сама навязалась ему когда-то, сама в дом напросилась. Принял, согрел. Родила от него дочку…
«Сука я, сука! Нет мне прощения!» – целуя Антипу, плакала о минувшем Феша и улыбалась новому сильному чувству.
А Пикан?
Все отняла у него, все забыла.
«Сидит, наверно, в избушке, убивается, как после смерти Потаповны. Сам о смерти помышляет. Не могу я бросить его такого! Вдруг помер или в лесу замерз! Все из-за меня, подлой! Как жить с таким камнем в душе?»
– Воротись, Антипа! – потребовала решительно, оттолкнув исцелованное, счастливое лицо. В корзине пискнула и зашевелилась Ксюша, Ксения Ивановна.
– Не люб, что ли? – Антипа устало откинулся, выгнул крутую бровь. Не верил, что после случившегося она может думать о старом, о брошенном муже. То лист опавший Расшевелить хочет.
«Ах, плутовка! Да надо ли? Я и так от тебя без ума!»
– Не простилась с ним… – отрывисто бросала Феша. – Хочу проститься и… прощения попросить.
– Прощайся, но помни: ты моя, навеки моя! – Антипа вылез из возка, отвязал застоявшуюся тройку и вывел под уздцы на дорогу. Едва отстранился, Феша схватила вожжи, гикнула, – кони, сбив Антипу, понесли. Он оскорбленно завыл, зарылся головой в снег Лежал, пока не продрог. Медленно, со стоном поднявшись, выбрел на дорогу и потащился вслед за умчавшейся тройкой.
– Догоню же! – сказал, встряхнувшись, потер ушибленное плечо. – Под землей достану! Все одно моя! Моя до смерти! Помни!
И Красноперов решил догонять.
– Вот ежели настигну, что тогда? Моя будет, а? – спрашивал он у Пикана.
– То ей решать, – глухо отозвался тот. Для себя все решил. Что разбито – не склеишь. А вот дочку могла оставить. Больше-то ничего нет. Едва поверил, что все наладилось, и – обманулся. Ускользнуло неверное счастье! Воля да вера – вот опоры!
Думал, а воля ослабла. Вера пошатнулась. Истов был в вере, неломок, и все же сломался. Не лежит душа к богу. А сколько поклонов ему отбил, сколько выговорил молитв! Взывал к нему, ждал ответа и не получал. Надеялся: среди множества песчинок, именуемых людьми, господь снизойдет к одной ничтожной песчинке, к нему, смилостивится. Нет, нет милости! И за грехи, и за праведные дела награды равные: муки, которым несть числа. Словно для одних мук человек создан. Едва поманит краткая мимолетная радость и тотчас исчезнет. Боль и сомнения – вот вечные спутники его.
«Верно ли это? Верно ли?» – бессонными ночами спрашивал Пикан бога. Не получая ответа, роптал и сомневался.
Снова уселся за Библию, долго и придирчиво обдумывал каждую строчку и с ужасом для себя открывал, что в бесспорности святого учения сомневается. Сомнения начались с первой же страницы. И чем глубже вдумывался, тем больше они укреплялись.
«Но ежели нет бога – кто создал этот мир? Кто человека создал?.. Есть, есть бог! Тогда отчего он глух ко мне? Отчего глух к другим людям?
Отдал Библию дураку, взроптал… То грех. Да ведь не из одних же грехов я состою! Ты меру мне укажи, господи! Меры мукам моим нет.
Ушла Феша, дочь увезла… По греху ли возмездие? Я жил, как пташка, всяк час в трудах и заботах. Я не отринул тебя пока, токо охладел…»
– Айдате, робяты! – напряженным высоким голосом звал Красноперов. Решил: догонит беглянку. Догонит и отберет. Богат Антипа, да ведь и он не бедняк. – Айдате живо! Споймаем – всем по полтине!
– Роздыху не даешь, – ворчал угрюмый, длиннорукий казак, расчесывая седую заклочившуюся бороду. – А плата мала.
– Не скупись, Минеич! – поддержал товарищ его, мокрогубый, с веселыми плутоватыми глазами. – Можно и по целковому.
– Добро, будет, как вырядили, – расщедрился Красноперов, решив, что добыча того стоит. – Поспешайте!
Но не успели выехать из ограды – у ворот захрапели кони.
– Явилась, гулена!
Минуя Красноперова, Феша вбежала в избу.
– Иванушка, горький мой! Ох, как я виновата перед тобой! Вины не смыть…
– Сердцу велеть неможно, – взяв дочку, молвил Пикан. – Больно, что ушла, однако неволить не стану. Стало быть, лучшего выбрала.

– Лучше тебя никого нет! – говорила Феша, обнимая его колени.
– Нет, а сама под другого легла, – скрипуче рассмеялся Красноперов.
– Молчи ты, дудка усохшая! Тебе ли бабу понять? Вместо глаз алтыны.
– Тебя и алтынами наскрозь вижу. Сучка, и ничего больше! Вяжите ее, робятушки. Конуру ей найду…
– Не тронь, – неожиданно заступился Пикан и отстранил подступивших к ней казаков. – Силой не приручишь.
– Заставлю – ноги мыть будет и той же водой напьется, – хорохорился таможенник, снова подав знак команде.
– Сказал, не трогать! – задвигал бровями Пикан. С ним рядом стал Спиря. Казаки нерешительно запереглядывались. – Ты ее раньше потерял, – проговорил тихо, с болью. – Я токо что. Кому больней?
– Я нищей взял ее в свой дом, – проворчал таможенник. – Ты схитил…
– Решит к тебе – держать не стану. Она в выборе вольна.
– Уж лучше головой в омут! – с ненавистью глядя на таможенника, выкрикнула Феша.
– Коли так, ступай. Дочь мне оставь. Антипе другую родишь, – решил бесповоротно Пикан.
– Не лишай доченьки, Ваня! – взмолилась женщина, снова падая на колени. – Сми-илуйся, молю тебя!
– У тебя Антипа. У меня – никого.
– Куда я без Ксюши? – рыдала Феша. Пикан был неумолим. – Без нее мне не жить.
– Сама путь себе выбрала. Ступай. Дочушку боле не увидишь, – сказал последнее слово Пикан. Ему никто не перечил.
– Кесарю кесарево, так-эдак, – пробормотал Спиря.
Феша, старея на глазах, обессиленно поднималась. Поднявшись, укоризненно выдохнула:
– Жесток ты, Ваня! Половину сердца моего вырвал. Жесто-ок!
– Молчи! – взорвался Пикан, не выдержав мучительной этой пытки. – Я – половину, ты – всё на куски разбила, – пророкотал он, сдерживая себя. – Ступай с богом.
Феша низко ему поклонилась и тихо молвила:
– Прощай, Ваня. Береги доченьку. Вырастет – скажи ей обо мне. Мол, до последнего часу…
Постояла, словно надеялась на что-то, и, опустошенная, бледная, пошатываясь, вышла.
Красноперов моргнул одному из казаков: «Не зевай!» Но Пикан тоже был непрост:
– Проводи, – сказал он Спире. – Дом этот оставляю тебе. – И вышел, взяв с собой девочку.
Уехал он, куда – никому не сказал. Но следы вели на север.
21
– Быстрей! Быстрей! – торопил Першин, словно командовал тут он, а не Митя.
– Успеешь на тот свет, – невозмутимо отвечал лейтенант, срисовывая только что показавшийся лес, светло и торжественно возвысившиеся над ним горы. Этот чудак забавлял его неистовым рвением безукоризненного, ни о чем не рассуждающего служаки. – Займись лучше делом!
– А я чем занимаюсь? – обижался Першин оттого, что люди эти его службу не считают делом. Ловить крамольников и отдавать на правеж – почтенное, издревле узаконенное занятие. Першин сознавал себя слугою закона, и, стало быть, те, кто объявлен вне закона, должны перед ним трепетать. Они же не только не трепещут, но даже не замечают его, что-то измеряют, записывают, срисовывают, подолгу изучая и описывая зверей, птиц, породы здешних деревьев. Гусельниковы и Бондарь заботятся о пропитании, устраивают бивуаки. Барма и Ядне промышляют охотой. Мите помогают Гонька и Замотохины люди. Только он, Михайла, ходит как неприкаянный. Впрочем, его дело ловить, выискивать, чего бы это ни стоило. Через месяцы изматывающих гонок, через моря, через снега, через леса и топи, через голод и смерть чуть ли не в одиночку преследует беглецов поручик. А кто по достоинству оценит, кто до конца поймет верную ищейку? Кто и когда воздаст ей должное? Возводят одну хулу. А не мудрые ли мужи государства, оберегая державную власть, в первую очередь налаживают сыск? Стало быть, он, Михайла Першин, – недреманое и всевидящее око государства. И – день настанет! – старания его оценят…
Першин размечтался. Воспаленное воображение уж рисовало ему невиданные перспективы. Будто стал он во главе всего сыска и люди самых высоких рангов – полководцы, министры, дипломаты, архиереи и прочие сановники – выстраиваются в очередь, чтобы попасть к нему на прием. Очередь вытянулась через весь Невский, конца ей не видно. Желающих хоть отбавляй. А идут все новые, чтобы Михайла учинил сыск, и сами попутно доносят. Уж некуда записывать, уж изнемогают от свалившихся сведений писцы, а доносов все больше и больше… К измученным писцам добавил дюжину свежих, к той дюжине – полусотню, потом – сотню, но и эти выдохлись и смотрят на Першина молящими глазами: «Дай дух перевести!»
У-ух, голова закружилась от прекрасных и безудержных мечтаний!
Поручик возвратился на землю, услыхав насмешливый окрик: Барма и дикарь этот, которого Михайла принял за немца, вернулись с добычей. Ядне тут ожил, повеселел. На купленных у Янгурея оленях признал свои метки.
– Оленей твоих вернем, – обещал Митя. – Потерпи до Тобольска.
– Ненец я. И ты ненец, – двумя руками схватив его руку, растроганно забормотал Ядне. По впалым, изрезанным складками щекам – серебряные дорожки.
– Почему же ненец-то? – возражал Митя. – Я русский.
– Ненец, – пояснял Гусельников-старший, – по-ихнему значит человек.
– Эко, нашел чем гордиться! – проворчал Бондарь. – Че-ло-век… А тебя кто грабил? Не ненцы ли? Человек! Хха! Зверь и тот меру знает. Человечьей жадности меры нет. Человек! Ишь ты!
– Ненец! Ненец! – упрямо повторял Ядне.
Он был привязчив, как ручной олененок, авка, постоянно бегавший за Гонькой. И Гонька к маленькому оленю привык, баловал его, кормил с ладошки. Олень да Иванко – две его слабости. Из-за них стал небрежно вести журнал. Иванко ровно понимает, что говорит ему Гонька, мельтешит пухлыми ручонками, улыбается. Сегодня у него банный день.
Под горою, в затишье, Барма с Бондарем соорудили баньку Дело нехитрое: отыскали впадину меж скал, засыпали снегом и накрыли шалашиком. С самого утра горит там костер, греются гранитные камни. Камни Барма бросает в воду. Вода, пузырясь, пенится, булькает. Бьет в ноздри хвоей и древесной смолкой. Пахнет распаренной шкурой, которой накрыли нарту в шалашике. Даша облила нарту холодной, потом теплой водой, разделась и стала купать сына. Иванко улыбался, во рту поблескивали тускло крохотные резцы.
– Ох, едок будешь! – щекотала Дарья Борисовна сына. – Ох, мужик! Поревут от тебя девки!
– Не угорели? – окликнул снаружи Барма. – Спинку не потереть?
– Ну тебя! – притворно рассердилась Даша.
Он заглянул в «баньку», чихнул, сморщился: плутовская, веселая рожа!
– Уж ладно, входи, – схватила мужа за нос, и впервые они вымылись вместе. Впервые увидели друг друга нагими. Жесткое, словно из бронзы отлитое тело Бармы и нежное, словно белое облако, Дашино тело породили вон то маленькое прелестное существо, агукающее в деревянном корытце. Машет всеми четырьмя крылышками, словно летит, и сердца переполненных счастьем родителей устремляются за ним.
– Ладный парень! Токо ты и могла такого родить, – с силою стискивая жену, ликовал Барма.
Вселенная замерла на мгновенье, которое для всех прочих длилось не менее получаса.
– А если опять понесу, Тима? – обессиленная, светлая, пахнущая паром, хвоей, материнским молоком, спрашивала Даша. Глаза ее были широко раскрыты, но видели только губы Бармы, всегда твердые, насмешливые, сейчас – нежные, улыбчивые.
– Рожай, Даня, чтоб больше Пиканов было! Чтобы Русь жила… Рожай!
– Чо ты все о Руси? Жила она и жить будет.
– Рвут ее, Даня, воруют, – посуровел Барма. Помолчав, стал одеваться. – Пойду. Там уж, верно, потеряли меня.
– А я еще погреюсь маленько. Стосковалась по бане.
– Грейся. После приду за вами.
– Сама дорогу найду. Тут близко.
– Гляди.
Ушел, негромко напевая.
«Невесел он чо-то. И песни грустные, – вслушиваясь в затихающий голос мужа, думала Даша. – А мне славно! Мне ничегошеньки боле не надо. Был бы он да Иванко…»
У входа кто-то фыркнул, заскребся.
– Кто там? – Даша накинула шубу, выглянула. – А, ты, – улыбнулась авке, отыскавшему ее. Видно, заскучал малыш без Гоньки, который весь день занят с Митей. – Заходи, – она впустила олененка. Хлебнув горячего тумана, тот прянул обратно. – Жарко? Ну там жди.
Но, вытолкав авку, долго еще нежилась в тепле, плескала водой на сына. Выйдя на улицу, изумленно ахнула: буранило. С неба валились тяжелые хлопья. Даша слизнула павшую на губу снежинку, рассмеялась.
– Ну, веди, – сказала жавшемуся к ней олененку. Она рассмеялась: «Как славно быть матерью! Как радостно быть женой такого необычного человека! Будь благословен плод чрева моего!»
Олененок брел, подставляя бочок снегу. Снег облепил ему лоб, холку, правую половину головы. Он отряхивался, мерз и все плотней прижимался к женщине.
– Дай-ка я обмету тебя! – Даша остановилась, смела с него снег, прикрыла плотней лицо сына. – Спи, крохотка! Спи, зернышко! Что, авка, может, вернемся? Буран-то лучше переждать в бане.
Олененок, однако, заупрямился, вскинул зад и отпрыгнул играя: «Что ж? Догоняй!»
– Не балуй! Иди обратно! – прикрикнула на него женщина. Он не подчинился. Отбежал дальше. – Заблудишься, дурачок! Попадешь волку на ужин.
Но стоило ей шагнуть – авка отбежал еще дальше Выговаривая разыгравшемуся авке, Даша то настигала его, то отставала. Наконец, рассердившись, прижалась спиною к дереву и перевела дух. «Что деется-то, господи! Ни земли, ни неба… А я тут в догонялки играю – нашла время. Надо возвращаться. Пойду следом своим, пока не замело. Уж порядочно утрепала…»
Пошла обратно, но след с каждым шагом пропечатывался все меньше и скоро совсем пропал под толщей снега.
«Не заблужусь, – подбадривала себя Даша и шла, но шла уже не в ту сторону. – Баня-то подле горы. А горы вон там…»
Думала, что идет к горе, а уходила в урман. Закружилась, гоняясь за авкой. Он, шалопутный, не убегал уж теперь а пугливо жался к ней, вздрагивал. Дальше было не до олененка. Одна мысль – выйти, не простудить ребенка – заслонила весь мир. Она спешила, уходя все дальше от горы, от бани, чувствовала, что идет не туда, меняла направление металась, кричала. Но крик ее глох.
– Тима, родненький! Ти-имушкааа! Не теряй меня! Не теря-аай! – молила она.
Барма искал ее, все искали, даже Першин. Но тренированный нюх ищейки здесь был бессилен.
Место, где Даша, обессилев, упала, было плотно заслонено от людей мятущейся белой пеленой. Казалось, рушится божий мир, вскипает белыми бурунами, и человек в этой неуемной яростной мгле – всего лишь жалкая капля.
Собравшись в баню, Даша оделась легко: шаль да шуба. Пожалела сейчас о малице. В ней и в снегу ночевать не страшно: «Да, может, буран-то скоро кончится? Сяду, пережду…»
Вырыв бурками яму, припала к земле, уронив с собой рядом авку. Иванко заворочался: наверно, промок. Даша напряглась, стряхнула с себя в мгновение ока наметенный сугробчик и выпросталась из шубы. Сдернув нагретую жарким телом исподницу, спрятала под шубой сына, распеленала. Тепленькое, мягкое тельце было трогательно и беззащитно. Даша чуть не расплакалась от умиления, но строго одернула себя и тщательно перепеленала сына.
Снег уж проник к ней под шубу, таял на теплой коже. Накрыв пеленкою грудь, Даша легла на бок, положив сына между собою и авкой.
– Ну вот, – наговаривала Иванку, – теперь нам тепло. Теперь, буран, хоть до утра бурань! Мы с сыночкой не замерзнем.
Притиснув ребенка, дала ему грудь. Иванко зачмокал, больно прикусывая сосок острыми зубешками. Эта маленькая сладкая боль заставила Дашу улыбнуться. Запев баюльную, она усыпила Иванка и скоро задремала сама.
– Спи, мой сыночка! Спи, крохотка! Тятя нас ищет. Найдет… найдет… – шептала она.
Их нашли на второй день. Ядне увидел издали волка, разрывавшего лапами снег.
– Они там, – сказал он.
Барма, сам страшней волка, принялся разбрасывать снег. Сперва наткнулся на авку, высвободил его и услыхал голос сына. Даша, отдавшая ребенку все тепло своего тела, уже застыла.
– Как же так, Даня? – упрекал Барма любимую. – Как же так? Ушла, не простилась… Чем я виновен перед тобой?..
22
Душа певчая омертвела. И если б не сын, не Иванко, не нашел бы Барма места себе на земле. Все брел бы и брел, все нес бы и нес ее, оглохнув от горя. Глаза, быстрые, дерзкие, вытекли в слезах. И – вместо них два мертвых зеленых камня. Лицо онемело, и вспух изрезанный темными морщинами лоб.
– Уймись, Тима! Ее не воротишь! – сам безмерно страдая, уговаривал Митя, пытаясь усадить брата в нарту.
Барма не слышал его и никого не слышал, нес через лес свою бесценную ношу. Следом скакал верный друг Зая, виновато трусил авка, а уж за ними тянулся аргиш. На первой нарте, жалея Барму, сокрушенно качал головой Ядне. Бондарь прижимал к себе напуганного Гоньку, оглушительно сморкался. Братаны Гусельниковы, бесшумные, точно тени, напоминали о себе изредка: когда полагался привал. Ими вполголоса распоряжался Егор. За братьями ехали Замотохины люди. А позади всех тащился Першин.
– Упустил девку-то, – переживал он. – После спросят: пошто не всех изловил?..
– Схоронить ее надо, братко, – отважился сказать наконец Митя. Глядел мимо Бармы, боясь невыплаканного им горя. – Давай схороним. Кеша отпоет.
– Понесу дальше… пока есть силы… – Барма поднялся и, не дожидаясь, когда снимется обоз, ушел.
– Езжай следом, – велел Митя самоеду. – Мы догоним.
Так и тянулись гуськом за Бармою, пока не увидали небольшое селеньице. В крайнем доме, видно совсем недавно срубленном, молились. И все вдруг вспомнили, что сегодня Рождество: Христос родился – Даша скончалась.
«Деревня эта – Кулема, – записал позже Гонька. – Живут в ней люди прежней веры. Народ вольный, приветливый. Здесь Даню нашу отпели, похоронили, пока Тима спал. Устал он, три дня нес ее без отдыха.
– Хороните, – велел Митя, проснется – не даст.
И мы схоронили. Все ревмя ревели. Жалели соловушку нашу. Она всяк день песней встречала. И меня грамоте научила. Худо без нее! Хуже всех Тиме. Кой день сидит на могилке».
– До Тобольска много ль пути? – пытал Митя румяного, крепкого старика. Старика звали Ефрем Кулемин. Он первым углядел это место. «Тут и поселимся», – сказал. И разбежались дома по берегу озера, прячась за высоченными кедрами. В полуверсте Обь размахнулась. Однако на виду у реки дома ставить остереглись. Все лучше, когда подальше от стороннего глаза.
– От Кулемы-то? – приятным добрым голосом отвечал Ефрем, лаская жавшегося к нему внучонка. – Дак немало. Ден, поди, пять бежать, а то и поболе. Сперва Самаровский ям будет, от его вверх – напрямки пойдет дорога…
Поблагодарив старика за гостеприимство, Митя приказал собираться в путь.
– А чо вам? Оставайтесь. Люди вы, вижу, незлые – уживемся. Тут всего вдоволь: рыбы, птицы. Девок у нас незамужних много…
– С делом мы, дедушка! С важным государевым делом. А то бы остались. Вы за могилкой-то приглядывайте.
– Присмотрим. Первая могилка в Кулеме, – вздохнул старик и напомнил: – И вы нас не забывайте.
– Лед сойдет – ждите, – пообещал Митя, хотя не знал, как еще сложится в Тобольске. И Тима упрямится, никак не стащишь его с могилы. – Великое горе, а нам дальше идти.
Взяв у Гоньки племянника, отправился с ним на кладбище.
– Пойдем, Тима! Или забыл наш зарок?
– Мне дальше нет пути, – покачал головой Барма, прикладывая к щеке мертвый, мерзлый камень.
– Тогда и я здесь останусь, – решил Бондарь, которому жизнь в Кулеме пришлась по душе: ни попов, ни ярыг. Всем правит сход. Он же решает все вопросы. Угодьями не ограничивают: бери земли, сколь подымешь. И налогов тут нет. Правда, каждую тридцатую часть приходится отчислять общине: для вдов, для сирот, для хворых и немощных.
Таков нехитрый уклад деревеньки. Долго ль продержится он – бог весть. Но цепкие щупальца ярыг до кулеминцев пока еще не дотянулись. В лесу пристроились, а берег близко. И лед по весне тронется…
– Ежели братаны отпустят, то и я останусь, – ни на кого не глядя, сказал Матвей. Он уж присмотрел себе девку.
– И я, – не отстал от него Степша. Причину сказал другую. – Я Тиму тут одного не брошу.
– Не сметь! Не сметь! Всем в Тобольск! Всем до единого! – закричал Першин, боясь, что беглецы уйдут из-под самого носа.
– Клещ быку велеть может ли? – рявкнул Бондарь, отшвыривая поручика. – Ишь присосался к нашей шкуре!
– Братцы, вы без ножа меня режете! – вскричал в отчаянии Митя. – Собирались вместе плыть, оплечь держаться… Без вас я дальше Тобольска не уплыву. Тима, братко, как мне быть-то?
– Оплечь, говоришь? – Барма поднял голову, через силу улыбнулся. – Оплечь и будем держаться. От слова не отступим. Помните, клялись живота не щадить Отечества ради? То великая и священная клятва. Презрен, кто клятву сию нарушит! – оглядывая товарищей своих, гневно закончил Барма.
Иные подумали: «Не ты ли первый стал отступником?»
– Я первый из вас отступник, – предупреждая нарекания, признался Барма. – Судите меня. Слаб стал и забывчив.
– Разе же мы не понимаем? – вздохнул Егор, пораженный тем, что двое младших вдруг надумали остаться в Кулеме. Идет время: Матвей и Степша давно не дети. – Люди же мы…
– Так. Истинно, – загудел Бондарь, подавший пример отступничества Матвею и Степше. – На твоем месте хоть кто голову потеряет. А ты не теряй, Тима. Ты помни: с тобой мы! До последнего часа.
– Мала для нас Кулема, – поддержал его Митя. – Нам всю Россию подай! Всю, как есть, до рубежа крайнего. А тот рубеж мы сдвинем. Не силой оружия, нет, – волей да упорством!
Барма передал сына Гоньке, усадил на плечо зайца, и над кладбищем, над тихой, затерянной в снегах и лесах Кулемой зазвенела песня, сочиненная для Даши, для братьев:
И в горе и в радости я не один:
Со мною везде мои верные братья.
И счастлив я буду до самых седин,
Удачлив я буду до самых седин:
Со мною всегда мои верные братья.
И если свалится какая напасть,
И если беда приключится —
Мне братья мои не дозволят упасть!
О братья, не дайте в полете упасть!
Мы вольные, верные, гордые птицы.
Есть солнце над нами. Свети нам, свети!
Питай наши души нетленною силой!
Я счастлив, о братья, что все мы в пути!
Я с вами вовек не устану идти
По весям и далям родимой России.
И в горе и в радости я не один:
Со мною всегда мои верные братья.
И счастлив я буду до самых седин,
Удачлив я буду до самых седин:
Со мною везде мои верные братья.
– И ты со мной, Даня, – закончив песню, тихо молвил Барма. – Здесь тело твое, которое я любил… А душа – с нами. – Завозился, запищал Иванко. По лицу Бармы, только что сильному и вдохновенному, пробежало облачко. – Прости меня, Даня. И – отпусти… Мы сюда воротимся.








