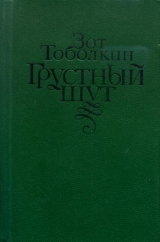
Текст книги "Грустный шут"
Автор книги: Зот Тоболкин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 21 страниц)
– Он самый, Самсоний. Токо не волосом, как библейский простак, – умом беру, – без страха усмехнулся хозяин и прикрикнул на дюжую исстеганную бабу. – Манефа, распорядись! Гость прибыл. Зайди в дом мой, гость дорогой.
Спирю не пригласил. Да и не пошел бы к нему Спиря: взяв ребятишек-братьев на руки, он расхаживал по ограде и что-то наговаривал им ласковое. Привязчив был Спиря и всегда голубил детей, которых сам не имел. Зимою, увидав худо одетого нищего ребенка, кутал его в свою шубу, сам и в Никольские морозы ходил в дерюжке.
– Дух от тебя… – поморщился Самсоний, когда оказались в его тереме. Было здесь светло, солнечно. От трав пахучих, невидимо где спрятанных, шел дивный освежающий запах. В горке стояла золотая и серебряная посуда. На полу и на лавках настелены ковры. На окнах занавеси китайского шелка. В золоченой клетке певчая птица.
Богато, ярко живет поп. Вон и книг у него, наверно, не меньше, чем у самого владыки. «Книги-то не церковные, – тотчас отметил Пикан, – должно быть, латинские. Да что с него возьмешь – греховодник!»
– Сходи в баньку, и – сразу за стол, – подмигнул Самсоний. Пикан заупрямился.
– Не с миром к тебе пришел, с обличением.
– Я голоден. Пока не напитаюсь – слушать не стану.
Пришлось уступить.
Вскоре Пикана позвали в баню. Баня была просторная, с предбанником и мойкой. Истосковавшись по венику, Пикан сразу прошел в парную. Выпив ковш-другой квасу, плеснул на каменку, едва не захлебнувшись пахучим паром. Лег на полок, еще выпил квасу. Квас показался чуть-чуть горьковат. Тело, опахнутое жаром, томилось и отдыхало. Устал, крыльца надергал в плавании. Плывешь вроде по течению, река тащит, а весла не отдыхают. Груз в лодке немалый: одежды, книги, иконы. Да и людей трое.
Устал, устал… А путь долгий. И сколько народу разного встретится, и сколько разных неожиданностей! А как с распутником с этим быть? Детей истязает, с Марьи вон какую взял плату. Да и с одной ли только Марьи? Вон как раздул кадило-то! В доме одной живой воды нет. Не худо кормится за счет прихожан. А святостью тут и не пахнет…
Пар поутих, спал… Пикан опять плеснул квасу, похлестал себя веником и снова вытянулся на полке. Сам не заметил, как задремал. Снилось: плывет по реке, берегов не видно. И вода на Иртыше золотая, словно солнце влилось в русло, и поток чудный влечет вперед Пиканову лодку.
Никогда не плавал по золотым рекам. Тепла вода, радостна, и плещет волна сине-золотая, и жаркие брызги ее охлестывают усталые плечи.
«Это же веник… пахнет так славно! Запах березы, мяты, смородины…» – лениво просыпаясь, думает Пикан. Не открывая глаз, бормочет расслабленно:
– Ты, что ль, Спиря? Стегай шибче.
Перевернувшись на спину, открыл глаза, охнул, увидав над собою Манефу. Стояла с веником, голая, влажная. Рука вздымалась – под мышкой вился темный пушок.
– Ты что ж, негодница, оголилась?
– Велено парить тебя, лежи, – привычно растирая его раскаленное, жесткое тело, одышливо говорила Манефа. Растирая, касалась то грудью твердой, то бедром. Парила снова, мяла напряженные мышцы и поливала теплой водой. «Чужая баба, нехорошо», – думал Пикан, а было как раз хорошо, дремно, и он опять забылся и медленно погрузился в сладкий сон. Зимою хаживал в общую баню. Там мужики и бабы вместе. Монахи с монашками любят бывать в городских банях, за грех это не считая. «Я с Фешей тут, – сквозь дрему бормотал Пикан. – Жена законная…»
– Бил меня, теперь люби, – незнакомо, густо говорила женщина.
«Что ж голос-то у ней такой грубый?» – вяло вслушивался Пикан, оправдываясь:
– Разве я смею? То примстилось тебе, голубка.
– Врешь, бил, – хрипло, глухо твердила женщина, кусая ему губы.
А в голове мутно, в сон клонит. Не знал, что в квас Манефа добавила сон-травы. Заснул Пикан и проснулся грешным.
– Ступай прочь, бесстыдница!
– Когда захошь – приду снова, – накинув рубаху на себя, шепнула Манефа. Обвив Пикана жадными, сильными руками, впилась в его губы.
– Прочь!
Кое-как одевшись, пошатываясь от стыда и душевной боли, выбрел из бани.
«Ну вот, обличил… Кобель окаянный!»
Минуя дом и хозяина, смотревшего с веранды в трубу подзорную, выскочил за ворота, едва не сбив остяка, продавшего ему калданку.
– И ты в гости присол к Самсонке? Добрый селовек всегда к доброму приходит, – остяк был навеселе и что-то бормотал еще. Пикан уловил лишь несколько слов: – Он икону мне продал. Хоросая икона! Детей взял, кормит-поит…
– За сколько же он продал тебе икону?
– Не знаю. Больсая икона, красивая! Плацу, плацу – все мало. Детей взял… – Остяк пьяно всхлипнул и указал на ребятишек, с которыми играл за оградой Спиря.
– Твои?!
– Мои, мои. Самсонка взял. А я ему за икону опять деньги принес.
– Ну пойдем. – Решительно дернув остяка за руку, Пикан заволок его во двор.
Хозяин по-прежнему изучал через трубу противоположный берег. Там голубела кедровая роща, у самой воды стояли чумы, дымились костры, паслись олени.
– Далеко ли видно? – с затаенной яростью спросил Пикан.
– Далеко, ясно. Умный человек трубу придумал. Купил у шведского морехода. Как банька, гость дорогой? – как бы между прочим поинтересовался Самсоний. – Не угорел?
– Хороша банька. Даже слишком. Скажи мне, отче преславный, за сколь икону ему продал?
– Теперь уж не помню. Не то за две, не то за три сотни. Может, уж все четыре набежало. Деньги-то он не отдал, проценты растут…
– Отдам деньги, – путая плечи, крестился остяк. – Вот, принес…
Подал кожаный, прошитый оленьей жилкой мешочек. В нем звякнули монеты: наверно, вся его выручка.
– И ни копейки не пропил? – усмехнулся Самсоний.
– Маленько пропил. Косуху, да косуху, да опять косуху.
– Чистое дитя! Ну как такому не отпустить грехи? – принимая кисет с деньгами, качал головой Самсоний. Крикнув бабу из дворни, велел покормить остяка и Спирю. – А ты в горницу проходи, – учтиво пригласил он Пикана.
«Со всех сторон обложил, – подумал Пикан, но вошел, решив: «Грех нечаянный. После перед владыкой покаюсь. Гнева его не убоюсь. А этого на чистую воду выведу…»
– Икона-то и вправду, что ль, хороша? – спросил, выгадывая время.
– А вон, гляди, – хозяин указал на изображение Троеручицы. В ней показалось что-то знакомое. «Лицо-то как будто Минеевны!» – изумился Пикан.
– Продал… а икона у тебя пошто же?
– Тишке она ни к чему. Да и проценты не выплатил. Пока не выплатит – икона моя. Так уговаривались, – Самсоний плеснул себе и гостю перцовки, выпил, с хрустом зажевал грибком. – Я так смекаю, отче, ему со мной век не расквитаться. Вот и пущай гнется, баранья башка. Уму-разуму учится. Я, грешный, в одной ряске засаленной сюда приплыл. Теперь вот домком обзавелся. Лошадей три дюжины, две тыщи оленей, дворня…
Пикан поднимал посудинку, но не пил. После всего, что услышал, комната вдруг поплыла перед глазами, хозяин раздвоился. Два языка бахвалятся, два рта заглатывают грузди и четыре глаза, как челноки в основе, снуют, по двум лицам. А ведь и один этот алчный рот невозможно насытить.
«Будет ли подлости человеческой предел? Пошто один долит другого? Пошто слезы один глотает – дорогие вина другой? Все созданы одинаково, по образу и подобию божию, все перед господом равны. И спрашиваться будет со всех единою мерой…»
– Тебе не страшно, Самсоний? – прервав разглагольствования хозяина, страдая, спросил Пикан.
– Суда божьего? Аль земные страхи имеешь в виду?
– Себя самого не боишься?
– С собою живу в любви и согласии. Трудней с паствой. Она разная и чаще всего глупая. Где хитростью не возьму, там припугну гневом господним. Ежели вседержитель не в силах – подпущу девку аль вином подпою. Вино, богатство, блуд – вот три идола, которым поклоняется все человечество. Помни об этом, Иване! Для Руси и вина одного довольно. Вино – тринадцатый наш апостол. Ни Моисей, ни Илья в красноречии с ним не сравнятся. Царей спаивали, цари спаивают…
– Да, полно, русский ли ты, Самсоний? – ужаснулся рассуждениям его Пикан. Уж больно страшны и беззастенчивы его мысли. Ни жалости в них, ни сочувствия к человеку. – Забыл о бессмертной душе своей? Ведь спросится после…
– То не скоро, – усмехнулся Самсоний, растирая просторный, чуть порозовевший от выпитого лоб.
Пикан страдал от его слов, но возразить было нечего.
– До последнего часу, отче, не раз покаемся. А пока пей, греши, но радостно. Грех тем и сладок, что удовольствия в нем великие. Без удовольствия глупцы грешат. Мы с тобой – люди умные. Как девка-то? Пришлась? – За столом им прислуживала Манефа и, заходя со стороны Пикана, то и дело касалась его. Пустое сонное лицо ее ожило, большие выпуклые глаза проснулись и зацвели синь-травою. Принарядилась Манефа, стала стройней и выше, походка сделалась плавной, движения округлыми. – Ишь как липнет к тебе, дьяволица!
– Дак чей ты будешь, Самсоний? – допытывался Пикан, словно от этого что-то могло измениться.
– У греха, как и у подлости, родины нет, – усмехнулся Самсоний. – Есть родословная и то сомнительная. Воровство Евино, Адамово воровство… С тех пор и крадут люди, научившись у праотцев. Кто больше и ловчее крадет, тот в почете и славе. – Самсоний наливал себе часто и опьянел, но разум его был ясен. Он не терял рассудка и спокойствия в споре, тем и силен был и интересен. – И не главный ли из воров – князь Меншиков! Не глупи, отче! Власть любого берет в союзники. И любого недруга с пути сметает. Метет, и все, – Самсоний ткнул тонким пальцем в черную полку, на которой стояли его книги. – Вот умы с древнейших времен: Гесиод, Аристотель, Плутарх… Христа еще не было, они уж писали…
– Божиих проповедей не знали, – убежденно возразил Пикан. – Христос был первым и наилучшим проповедником.
– Темный ты человек, отче! Не по плечу груз на себя взял – поучать. Поучающий должен быть выше разумом всякого из толпы. Тебе ль, темному, тягаться со мной? Когда не ведаешь простых истин, – боднув головою, желчно спросил Самсоний. – Мне спорить с тобой скучно. Могу токмо снисходить к темноте твоей.
– Простые истины я знаю. Они в заповедях священных: не убий, не укради…
– Возлюби ближнего своего, – ядовито подхватил Самсоний и, скрипнув зубами, хватил бокалом о пол. – А ближний меня полюбит, вот как Манефа тебя? Ближний за любовь мою плюнет мне в душу. Уронит и растопчет! Бабка сказывала: видела, Стеньку Разина казнили… Плевали в него, палками и камнями швыряли, яко в зверя лютого. А он, зверь-то этот, добра хотел людям!
– Супротив венценосца выступил. Власть от бога, – бухнул Пикан и смутился своей расхожей мысли. Жест, которым прервал его Самсоний, был яростен и презрителен:
– Молчи! Про тебя самого знаю. С Гаврилой Тюхиным вы дружки…
– Гаврила праведный человек, слабого не обидит.
– И я праведный был! Да изверился. Сколь ни делал добра людям, за добро получал одни оплеухи. И решил: стану жить для себя. Как цари живут в богатстве и роскоши, как князья и отцы православной церкви.
– Антоний – праведник. Он и направил меня сюда.
– От зорких глаз спрятал. Знает, дурости в тебе слишком. Окажешь дурость – хребет сломают. Не поп ты, не праведник. Чужую рясу надел, Иване. Ты бунтарь… Кабы Разин опять ахнул, и ты бы за ним увязался. Сам до Разина не дорос, терпения много, дерзости мало.
– Не боюсь на земле никого, – обиделся Пикан, но яд сомнения, пущенный в душу Самсонием, уже ослабил его, растлил. Задумался Пикан, оглянулся на свое прошлое.
– Мало – не бояться других, надо себя не бояться. Любить себя надобно и позвать за собою людей. Тогда и сможешь взобраться на высокую гору. Таков был Разин: любил себя. И на других любви хватало. Икону-то Гаврила мне отдал. Изограф отменный! – до предела раскалив Пикана, Самсоний, будто и не пил, из-за стола вышел трезво и прямо, снял Троеручицу, подал ее Пикану.
– Пошто же ты продал ее?
– Деньги нужны были. Как раз дом строил.
– Иконы не продаются.
– Лик этот прекрасный – человек изобразил. Чем икона лучше картины? Видал мадонн латинских? Цены им высокие! У нас на Руси людей продают дешевле. Пошто о том не горюешь?
– Ты же купил и ребятишек остяцких, – жалким, осипшим голосом укорял Пикан. В голосе не было ни силы прежней, ни уверенности. Сломал его подлый поп, принизил и оголил душу. В душе – срам, и тут уж не до проповедей. Отослать книги Антонию, кресты и свечи ему же. Самому век в грехе доживать. – Отдай икону аль деньги Тихону. Деток его отпусти на волю…
– Деньги верну, куда мне деньги? А ребятишек схочет ли домой взять? Я не купил их, как братья наши – за полтину душу скупают. Хворых, завшивленных подобрал. Грамоте учу. Да оба ленивы. Особливо младший. Я человека хотел из дикаря сделать…
– Отдай. Отец плачет.
– Будь по-твоему, – уступил Самсоний, едко улыбнувшись. – Мне забот меньше. Но ежели встретишь в тайге недруга, который выстрелит в тебя, – знай: это спасенный тобой ребятенок. Или – брат его. Отдам. А икону оставлю. Люба мне икона.
– Ишо просьба к тебе великая. Вот это все отошли владыке, скажи: не оправдал его надежд, поддался искушению дьявольскому. Прости меня, господи милостивый, прости!
Пикан поднялся, униженный и несчастный. По большому почерневшему лицу его текли медленные мутные слезы. Глаза одичали, растерянно смотрели на мир, в котором собрался сеять доброе. Мир не нуждался в его доброте.
– Не убивайся, Иване! Дале греши. Грех доведет до святости, – весело, беззаботно сказал Самсоний, качнув Пикана за каменное плечо.
– Молчи! Ты! – гневно, яростно выкликнул Пикан. – Растлил душу мою, молчи! Теперь один путь – от людей подальше, чтоб скверна моя их не коснулась. Уйду – скажи о том владыке. И Спирю приюти…
– Слаб, слаб человек русский, – грустно качал головой Самсоний. – А мощь-то какая! Неуправляемая глупая мощь! Эх, мыслить вы не научены! Мыслящий человек широк! Изверившись в одном боге, он выдумывает другого. Да лучше бы он в себе его искал, – бормотал, опьянев, Самсоний.
Пикан уж его не слышал.
Выйдя за ворота, тихонько, воровски крался по улице, боясь, что за ним увяжется Спиря. Увязался не Спиря, девка Самсониева.
– Эй! – догнав его, заговорила она. – Приходи ко мне вечером. Или – скажи, куда прийти.
– В ад! К сатане! – сильно, без жалости оттолкнув ее, оскалил зубы Пикан и, перешагнув через упавшую, побежал от нее крупными волчьими скачками.
Лежа в пыли, Манефа смотрела вслед. Блекло-синие глаза ее еще светились надеждой.
«Встретимся, – вывернув глупый коровий глаз, шептала она. – Мы с ним опять встретимся».
На террасу с «Золотым ослом» Апулея вышел Самсоний, велев Манефе созвать всю дворню. Среди дворовых людей Затесались Спиря и Тишка. Самсоний читал им вслух вольную латинскую прозу и после каждого особенно сочного пассажа заставлял всех кланяться.
На сторожевой башне в Тобольске трубил князь.
7
Трубач трубил…
Матвей Гусельников возился подле пушчонки, смазывая ствол, примерял ядра. Для серьезного боя пушка была маловата, но Матвей вычистил ее, смазал. Любил он твердость железа и его умение быть человеку послушным. Железо не рассуждало. Матвей рассуждать был горазд. Но более всего любил он расспрашивать.
– А скажи, к примеру, – спрашивал Бондаря, – для чего существует власть?
– Власть, – охлопывая только что собранную из белой клепки бочку, отозвался без удивления Бондарь, – чтоб ее почитали.
– Разе боле некого почитать? Я вот родителев своих почитал, пока живы были. После их – Егоршу, тебя, Митрия Ивановича, – возразил Матвей, глядя на него своими чистыми и вечно изумленными глазами. Человек этот никогда не переставал изумляться, и потому его занимали самые простые истины, понятные для всякого другого. Он спрашивал, откуда произошла земля и почему не залили ее воды морские. Митя разъяснял ему, но не всегда эти разъяснения, почерпнутые из умных книг, Матвея устраивали. Он искал каких-то иных, очень простых и четких ответов, отвергая ученое глубокомыслие. Если не находил и не получал – расстраивался, и тогда ясные детские глаза его заволакивало слезой. В такие часы Матвей становился опасен, тревожить его остерегались.
– Не понимаете вы, – бия себя в грудь, укорял он братьев, грозил кулаком людям, небу, морю, которые не могли разрешить его сомнений. – А как жить без понятия?
Молчало холодное небо, невозмутимо, как до рождества Христова, плескалось море, втихомолку посмеивались люди, а он, чудак, маялся и страдал. Лишь Гонька да Бондарь воспринимали его всерьез, и Матвей любил их беззаветно. Гонька рассказывал Матвею странные, на ходу сочиненные истории, и под ласковый говорок мальчика Матвей засыпал. Ничто так не утешало его, как сказки.
– Власть – это насилие, Матюша, – ласково внушал Митя. – Необходимое насилие.
– Власть – бессмыслица, – возражал Барма брату.
– Хоть насилие, хоть бессмыслица – не признаю никакой власти, – кричал Бондарь. – Хочу найти землю, где власти нет.
– Там и людей нет, наверно, – усмехнулся Егор. – А ежели есть, дак как они живут без царя, без власти?
– А как щас мы живем – никакой на корабле власти? Хорошо, вольно живем.
– Наша власть – капитан.
– Он брат наш, не власть, – возражал Матвей, но его прерывал большак.
Вдали, спустившись к воде, темнела странная продолговатая туча.
– Не земля ли там? – спросил Егор капитана.
– Похоже, – ответил Митя, доставая подзорную трубу.
– Косатка! – закричал Степша.
– А вон другая, – заметил Егор.
– Там их не две – табун целый, – передавая трубу ему, уточнил Митя и взял руль вправо. Ему доводилось встречаться с китами. Иногда они вплотную подплывали к неосторожным рыбакам и, балуясь, топили лодки.
– Стрельнуть бы, – сказал Матвей, у которого при виде добычи морской зачесались руки. – Стрельну, а?
– Я вот те стрельну! – пригрозил Егор.
Судно с кормы рвануло, вздулись наполненные ветром паруса. Оттуда же, вслед за ветром, пошли волны, нарастая с каждым валом. За ними, черная и взлохмаченная, налетела туча.
– Убрать паруса! – скомандовал Митя, но накатил высокий, как гора, вал и едва не опрокинул шхуну. – Скорей! Скорей!
Спеша и захлебываясь в соленой воде, братья кинулись к вантам и реям. Другой вал, еще грозней и выше, накрыл суденышко, жалкое и маленькое среди разыгравшейся стихии.
– Вот я тебе! – отплевываясь, пригрозил Матвей морю. Зарядив пушку, жахнул в третью, чудовищной высоты и силы волну. В шуме, в грохоте моря слабый выстрел его потерялся. Волна придавила собой корабль, выворотила мачты, смела с палубы канаты, ящики, бочки. Одной из бочек Матвея сбило за борт. Оглушенный, почти захлебнувшийся, он все же успел вцепиться в края посудины. Матвей забормотал молитву: «Боже милостивый, буди меня грешного…» Набежавшая волна бросила его вместе с бочкой к берегу.
Шхуну несло туда же. Налетев на рифы, она с грохотом развернулась, дала течь. Видно, непрочен был пиратский корабль. Егор Гусельников и Митя с трудом удерживали его по курсу.
– Там берег пологий! Держи туда! – кричал Митя, напрягаясь из последних сил.
Вывернули, и их снова швырнуло на скалы, а с острова катился встречный вал. Еще мгновение, и он перебросит разбитую, потерявшую управление посудину обратно в море.
– Якоря бросайте! Живо! Эй! Якорями за скалы цепляйтесь!
Барма, Бондарь и все, кто был на судне, кинулись исполнять его приказание. Кинули якоря, обмотали скалу толстым канатом. А вал встречный разбился о другой вал, погас, зашипел, в водовороте его закружились щепы, бревна и доски.
– С этой стороны укрепы ставьте! Штыри, бревна, что попадет… Ты, – велел он брату, – погляди, как там Даша.
В суматохе, в шторме о ней забыли. Продрогшая, злая, Даша сутулилась в трюме на мокрых раскисших шкурах. В зияющее отверстие хлестала вода и виден был клочок неба.
Шторм наскочил, пролетел мимо. Увидав заглянувшего в трюм мужа, Даша закатила ему оплеуху.
– Ох! – взвизгнула, скорчившись. – Оюшки… – шепнула испуганно: – Помираю…
– Кто умирает, тот разве дерется?
– Что, если б унесло меня? Стенку-то вон как продырявило!
– Ты и в море не пропадешь, – вынося ее на волю, утешал Барма.
– Дальше, дальше! Дальше отсюда! – требовала женщина.
Барма не понял.
Команда спешно разгружала судно. Он кинулся на подмогу. Дашино горло распирал крик. В черном небе – видела ясно – образовалось светлое пятнышко и заплясало в воспаленных, в вывороченных болью глазах. Глаза скользили, выкатывались из орбит и ни на чем не могли остановиться. Рот был закушен, рвало болью руки и ноги. Под ногтями запутался седой мягкий мох.

– Иди туда – худо ей. Не видишь, что ли? – отослал Барму Митя.
– Пойду. Видно, укачало Борисовну.
– Рожаю ведь я! Рож-жжаюуу! – вся извиваясь, взвыла Даша.
Барма схватил ее на руки, бегом кинулся в глубь острова.
– Рожай, – мягко опустив ее на мягкие, нетоптаные мхи, сказал с нежною дрожью в голосе и оправил бессильно провисшие мокрые пряди, от которых пахло морем и чем-то новым, уже материнским. – Рожай, доля моя! – Он плавно оглаживал ее напряженное чрево, не мигая, глядел в глаза. – А пока спи, засни. Засни ненадолго. Боль пройдет. Пройдет боль, Дашенька, верь мне.
Шептал еще что-то, тихое, ласковое. Она заснула. И чудилось ей снова море, но не это – студеное, страшное, – иное, лазурное, среди теплых скал и вечнозеленых деревьев, на которых пели красивые веселые птицы, с цветка на цветок порхали бабочки, жужжали пчелы. Она и Тима вышли из моря, и кто-то маленький держал их обоих за руки. Ручонки его, крохотные, с тонкими пережимчиками, были теплы и розовы.
– Кто ты? – спросила женщина, целуя маленького человечка. Он не ответил, звонко и весело рассмеялся.
– Ааа! – разбуженная новым приступом боли, зверино выгнувшись, взвыла женщина.
И вдруг ей стало легче.
Теперь уж не она кричала, кто-то другой, от нее отделившийся, слабенький и мокрый. Она улыбалась устало и просветленно и немощно тянула к нему ослабевшие руки.
– Кто там? – спрашивала едва различимым медленным шепотом.
– Сын! Иванко! Ишь крикун какой! В мамку! – показав ей младенца, радостно оскалился Барма. – Теперь двое ругать меня станете…
– Дай его мне, дай!
– Обожди… Дай человеку умыться, убрать с себя все лишнее.
Прокалив на костре топорик, Барма отнял пуповину, перевязал ниткой и, укутав сына, подал его Даше.
– Сын у меня! Охо-хо! Сы-ынн! – заблажил он на весь остров.
Мужики бросили разгрузку и, схватив на руки счастливого отца, стали подбрасывать.
Митя, вскочив на искореженную палубу, зарядил пушку и выпустил в светлеющее небо ядро. Шипя и ворочаясь, оно летело над волнами, пока не затерялось где-то в пространстве.
Гонька записал в журнале:
«Ураган был. Смыло Матюшу. Нас выбросило на неведомый остров. Тут сын у Тимы родился, Иванко».
8
Пропал один матрос – явился другой. Он явился под ураганный вой. Купелью его стал океан, крестными – Митя, Бондарь и братья Гусельниковы. Радуясь крестнику, печалились о Матвее, которого все любили за доброту и наивность. Из одиннадцати братьев он был, наверное, самый бесхитростный, самый бескорыстный. Что ни попросишь, не задумываясь отдаст. Его так и прозвали: «Возьми». И вот не стало «Возьми», и каждый из братьев, бодрясь при строгом Егоре, наедине вздыхал и лил слезы. Да и сам Егор втихомолку всплакнул не один раз. Из всех братьев больше других отличал Матвея и Степшу; были малыми, возил на закрошках, спасал от отцовских подзатыльников. Ах, Матюха, Матюха! Как же ты оплошал-то? Ведь не раз в море хаживал, а тут слизнуло волной, словно несмышленыша. Больно уж часто задумывался, вопросы разные задавал к делу и не к делу. Истинно младенец! Вот и у смерти, поди, интересовался: «Зачем призвала раньше срока?»
– Давайте на острове поищем, – предложил Митя.
– Сперва устроиться надо, – возразил Егор, которому тоже не терпелось кинуться на поиски брата. Однако порядок есть порядок.
– Чо устраиваться-то? Вон плавник – натаскаем, будет избушка, – оглядев берег, сказал Бондарь.
– А Дарья с младенцем до той поры на ветру стынуть будут?
Среди перенесенного со шхуны имущества нашлась более или менее сухая шкура. Егор приказал братьям рыть яму. Барму, поглупевшего от счастья, вместе с Бондарем послал вылавливать бревна. Бревна, связав, установили вокруг ямы конусом, аккуратно обложив дерном. Из тонких жердей сколотили дверь, обтянув ее шкурой. Внутри изладили нары, вместо печки приспособив железную коробушку.
– Крыша на первый случай есть, – приведя в это убогое жилище Дашу, сказал Егор.
Запогремливал огонек, на «печи» закипел чайник. Барма привязал к потолку корзину. Натолкав мха в нее, постелил сверху оленью шкуру.
– Чем не княжеская постель? Лежи и правь струю в небо. Весь остров твой отныне, сынок!
Даша, распеленав «хозяина острова», накрылась пеленкой, и все услыхали сладкое чмоканье.
– Пойду пройдусь, – сказал Митя, все еще стеснявшийся Даши. – А вы перенесите остатки с судна.
Все вышли.
Даша склонилась над сыном, мявшим губами сосок. Лицо ребенка было напряженно и сосредоточенно, ручонка крепка, а красный лобик наморщен. «Как у отца морщинки-то», – отметила Даша, коснувшись губами мягкого лба, покрытого длинным белым пухом. Иванко еще сильней свел морщины, больно куснул за сосок.
– Тима! Он же зубастый! – оторвав сына от груди, заглянула в ротик ему: там синели три крошечных зуба – два внизу, один вверху. Губы, потеряв грудь, всасывали воздух, шлепали. В углах вялого и еще бесформенного рта вскипали молочные пузыри. «Господи, неужто он будет большой и красивый?» – изучая некрасивое лилово-красное личико сына, думала Даша, жалея ребенка, которому еще так много расти, болеть и плакать.
«Не дам ему плакать! Будет балагур, как тятька!» – решила она, проникнувшись горячей, но еще не материнской нежностью. А он уж закрыл блекло-голубые, в младенческой пленке глаза; пальчики, словно цветочные лепестки в безветренную погоду, успокоились и замерли.
Запеленав уснувшего сына, уложила в зыбку, стала покачивать. Скрипели ремни, корзина. Пахло мхом, углями, сырым деревом. И еще чем-то пахло, незнакомым и близким. Даша не сразу поняла – сыном!
Спит, чуть слышно посапывая, как маятник качается на ремне зыбка. А Тима молчит, вороша мягкую заячью шерстку. Лоб опустился, набрякли морщины. Из-под густых ресниц совсем не видно глаз. Закручинился, что ли? На него часто находит. То весел, то сумрачен вдруг станет. Причин смуты его Даша часто не понимает.
– Может, я в тягость тебе?
– Не о том мои мысли, – усадив ее на колени, улыбнулся Барма.
– А все другое нестрашно, – продолжая покачивать зыбку, вскинула голову Даша. Ничто прочее ее не пугало. И стужа, и неудобства в пути, и разные тяготы – все, все по силам рядом с ним, а теперь и с Иванком.
– Лишил я тебя всего. Княжна ведь. Иванко мог стать княжонком. В терему жил бы, на шелках спал.
Даша шлепнула мужа по губам:
– Глупый! Зачем он нам, терем? Зачем шелка без тебя? Все, что надо, имеем. Вон даже остров – наш. Не поскупись, еще один подари.
– Не поскуплюсь! Подарю! Все острова безымянные ваши будут! – вскричал Барма, вновь оживая.
Вот женщина! Вот душа русская! Другая нытьем бы извела. Даша все переносит с улыбкой.
– Даня, сказка моя! Возьми жизнь, всю, до капельки! Выпей!
– Выпью, – Даша соскользнула с колен, сунула в дверную петлю кочергу, но спохватилась: – Нельзя ведь, Тима! Токо что родила.
– Успеем, женушка! Время-то наше! – целуя ее, бормотал Барма.
– Все наше, без остаточка? Никому не отдашь?
– Никому, – клятвенно заверил Барма.
– Другие девки у тебя были?
– Другие?! – Барма оскорбился, беззастенчиво соврал: – Никогда в жизни!
– Ни единой?
– Ни одной.
– Ну если и были, – не слишком веря ему, уступила Даша, – то все равно я всех лучше.
– Да уж точно!
– Ага! – перебила Даша, щелкнув его по лбу. – Значит, все-таки были?
– Запамятовал, – истово врал Барма, удивляясь ловкости, с которой жена его изловила. «Наперед умней буду!» – выбранил он себя.
– Пусть. То прошлое. Отныне мы у тебя: я да Иванко.
– Ты да Иванко! – отдалось эхом в Барме. – Ты да Иванко, – повторил он опять и легонько отстранил Дашу: в дверь кто-то скребся.
– Матюша вернулся, – сказал Гонька с улицы.
– Жив, значит?! – вскричал Барма, толкнув дверь ногою. – А мы его оплакивали.
9
Зелены, богаты леса здешние. А светлухинские и чище и спокойней. В этих мнится невысказанная угроза. Вот кедр, распялив дупло, гудит утробно: «Какое лихо вас сюда занесло-о?» Что ответить старому кедру?
– Поистине лихо. Не своей волей в Сибирь попали. Прости, что незваными пришли.
– Ты чо с ним как с живым? – смеется Феша.
– Он разе мертвый? – грозя пальцем, возражает Пикан. Не дай бог, кедр услышит! Обрушит на головы град шишек аль беду какую накличет. – Живой он, Феша. Все понимает, все видит.
– Види-ит?! – Женщина смущенно накрылась платком, вспомнив, как у костров таежных под задумчивый шелест деревьев, под гомон любила мужа. «Да разве то грех? – одумалась сразу. – И звери и птицы любят друг дружку. Любви стыдится один человек. Чо ее стыдиться-то? Природой назначено. И сам господь повелевал род продолжать».
Бог русский виделся ей пресветлым и добрым, в чистом и белом одеянии, в пышных седых кудрях, как у Вани.
Улыбнулась мыслям своим, провела рукою по загустевшим опять волосам Пикана. Статочное ли дело: мужика с богом сравнила? А разве не бог он? Разве не дал все лучшее, что есть на земле? Любовь дал… И вот младенец во чреве бьется. Скоро явится на свет. Придется делить любовь между отцом и младенцем. Как эта река разделилась на два русла. Разделилась, мельче стала. Фешина любовь меньше не станет.
Желт, мутен Иртыш. Не за то ль землероем его прозвали? Бежит на север и тоже о чем-то думает. И рыбы в нем плещут. Их стерегут чайки. Иртыш вытянулся большим змеем – голова неведомо где, у самого океана, хвост в тех краях, из которых пришли Фешины предки.
Велика, пространна Сибирь! Иртыш ее всю поперек промял. Если уползет куда – след глубокий оставит. Вон остров зеленым листком посреди реки плавает: деревья на нем густые, травы, багульник. Затерялся в черемухах соловей. О ком тоскуешь, соловушка?
С ближнего песка глухарь снялся, просвистела пара уток. Над самою водой бунчат комары. Чайку, плавающую около лодки, облепила мошкара. Плывет птаха, оплескивает себя водою, под взнявшимся крылом шелковистый пух.
Карбас скользит по воде легко, Пикан чуть заметно перебирает веслами, уперев ноги в днище. Приятно плыть, когда нет цели, когда глазам своим да крепким рукам доверился. Ты – жизни своей хозяин, и все это суровое, дикое пространство – твое. Его не делили на части, одним понятием обозначено – Сибирь. Край дерзновенных, вольных людей. И сходятся здесь пути-дороги, нечаянные встречи случаются, как с князем, к примеру, или с Минеевной.
Звонко ль дуется князю в дуду? Стоит на сторожевой башне, яко архангел, провозвещающий Судный день, трубит. Ни страха перед грядущим – всего уж натерпелся! – ни раскаяния. Сам в звук превратился, в придаток трубы.








