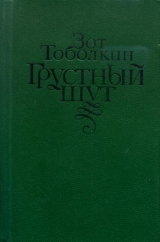
Текст книги "Грустный шут"
Автор книги: Зот Тоболкин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 21 страниц)
– Упал он духом, – шепнул Матвей большаку. – Теперь не засмеется. Скоморох в ём умер…
– Скоморох умер – человек остался. Он и будет служить Отечеству, как поклялся, – строго возразил меньшому Егор. – А ты вот от клятвы отступился. То, Матвейка, негоже…
– Какой же вы веры, детушки? – поинтересовался Ефрем, когда путешественники собрались в путь. – С виду вроде православные, а молитвы ваши мне неизвестны.
– Русской, дедушка, – улыбнулся Митя. – Молитвы те сочиняет нам Тима.
– Добрые молитвы. Списать бы…
– Спишем, – кивнул Барма. – Мне Гонька поможет. Ты с нами Ядне оставь, – сказал он брату – Через день-другой догоним.
– День-другой? – встревожился Митя: вдруг Барма передумает и останется в Кулеме. – Что так долго?
– Молитв-то я сочинил немало, – усмехнулся Барма. – Сколь есть, все передам людям.
Аргиш ушел.
Барма с сыном, Ядне и Гонька остались и к началу третьего дня дописали последнюю песню. Песни Бармы пришлись кулеминцам по душе. За то не раз отлучали их от церкви, во всеуслышание передавали анафеме, а кулеминцы из поколения в поколение несут в сердце своем безбожные молитвы, дополняют их, сочиняют новые и каждый год поют над могилой Даши.
– Езжайте со Христом, детушки, – благословил путников старый Ефрем. Провожать их вышли все жители Кулемы. – Езжайте, да по земле ходите с оглядкой. Ноне рытвин на ей мно-огое множество.
– Мы, дедушка, падать привычны, – играя желваками, отвечал Барма. – Но горе тому, кто нас уронит. Молитвы-то наши не забывайте! – крикнул кулеминцам на прощание.
– Не забудем, сынок, не забудем! – обещал Ефрем и обещание свое сдержал.
Олени тронулись, понесли. И вдруг грянула давешняя песня Бармы:
И в горе и в радости я не один:
Со мною всегда мои верные братья.
И счастлив я буду до самых седин,
Удачлив я буду до самых седин:
Со мною везде мои верные братья…
– Слушай, Иванко, слушай! – наказывал сыну Барма, глазевшему на него из вороха шкур. – То праведная молитва!..
23
Два бородатых рослых старца продольной пилою распиливали на плахи бревно. Когда один из них выпрямился, Михайла Першин выкатил изумленно свой единственный глаз. Было отчего: в одном из старцев поручик узнал светлейшего, каким-то чудом оказавшегося в Березове.
– Батюшка! – вскричал Митя, увидав другого старика. – Ты ли это?
– Митрий?! – Пикан от неожиданности выронил пилу. – Неужто ты?
– Я, батюшка, я самый! – обнимая отца, взволнованно говорил Митя. – Вот где свиделись! Мама-то где?
– Не дождалась вас мама. Господь призвал, – вздохнул Пикан, и оба перекрестились: – Царство ей небесное! Какими ветрами сюда, сын?
– Шальными, батюшка, поистине шальными. С Тимой вместе бежим из Питера. Да вот… – узнав Меншикова, Митя споткнулся на полуслове, отступил. Мыслимо ли такое? Всевластный князь, перед которым недавно еще трепетали, оказался в этом, богом забытом краю.
– Вы ли это, господин генерал-фельдмаршал?
Князь, не шибко ловко тесавший бревнышко, разогнулся, ответил смиренно и просто:
– Я, голубчик, я… А ты кто таков будешь?
– Не помните? Встречались не раз…
– Может, и было, – нарочно не узнав Митю, вздохнул князь. – Да то быльем поросло. Сядь со мной, лейтенант, – нечаянно проговорился хитрец. – О душе побеседуем.
«Поздновато хватился», – хмурясь, подумал Митя, однако присел.
– И ты из мореходов? – князь лишь теперь снизошел до Першина, который пучил на него изумленный глаз, шлепал губами.
– Да как же, – заговорил он наконец, дивясь столь скорой забывчивости светлейшего, – не по вашей ли милости мечусь по свету? Першин я! Михайла Першин!
– Першин? Нет, не упомню. Знавал одного Першина – тот был губернатор. Умер, кажись, царство ему небесное. А ты жив, – словно сожалея об этом недоразумении, покосился на поручика светлейший.
– Жив, жив! – обрадовался Першин. – Враги твои пойманы. Все пойманы, до единого!
– Врагам своим я давно простил. К загробной жизни готовлюсь. Вот церковь строим – благое дело. Поди и ты, малый, совершай на земле дела благие, – отослал светлейший поручика и вновь принялся ошкуривать бревнышко. Ошкуривал тщательно, как когда-то разлюбезное отечество, наживая бессчетные миллионы. И вот ни к чему они оказались. Казна выплачивает страдальцу по десяти рублей на день. Бедность свою, которую всяк трудовой человек русский счел бы неслыханным богатством, Александр Данилович переносит стоически, тюкает топором да распевает стихиры. Чего ж больше-то? Святая, непорочная жизнь. До людей ли тут? До жалкой ли их суетности?
Вон идет один по Березову – узнал его князь, сразу узнал, но не подал вида! – пучит загоревшийся безумием глаз и выкрикивает:
– Першин умер! Враги торжествуют! Умер Першин! Врагам на радость.
Не того ждал бедняга. Чего только не натерпелся, пока достиг благословенного Березова! Все вынес, как и положено, а что в награду? «Поди, поди…»
И вот бредет он вдоль стен острожных и бессмысленно оповещает:
– Першин умер… Врагам на радость… Умер Першин… Так и скажите.
Светлейший, сидя на бревнышке, рассуждал о тщете мира, но нет-нет да и всплывало в памяти былое:
– Бывало, и министры в передней ждали. А вы простые люди, и я вам рад. Как там, в России-то?
– Давно мы оттуда, – осторожно, боясь напомнить о себе, о той сцене в Дашином доме, когда Барма непочтительно обошелся с князем, сказал Митя. – Раньше тебя…
– Бунтуют? Пьют? – Митя в ответ пожал плечами. – И не спорь, – словно с ним и впрямь спорили, загорячился, замахал руками князь. – Сам знаю, бунтуют и пьют. Разбалован народишко! А России работники нужны. Я вот князь, и то работаю!
– В кои-то веки раз можно и поработать, – усмехнулся Пикан. – Сам говоришь, России работники нужны. Князья – нахлебники, – не дав возразить светлейшему, сурово заключил: – Россия после смерти царя – храмина недостроенная. Стены возведены – крыши нету. И нет строителя наиглавнейшего. А без строителя…
Мысли Пикана приняли опасное направление. Александр Данилович с ловкостью канатного плясуна перевернулся с ног на голову, стал распинаться в верности трону. Потом шутливо закончил:
– Мы ж строим с тобой! А ты говоришь, нет строителей…
– Кто строит, а кто пристраивается, – проворчал Бондарь, неприязненно разглядывая светлейшего. Ведь вот был же когда-то после царя первым человеком в государстве, теперь – шут гороховый. Собственной тени боится.
Между тем подкатил Барма. После объятий и недолгих расспросов сел на бревнышко, дав деду внучонка.
Узнав о цели их путешествия, Пикан поднялся и пошел собираться в дорогу.
– Церковь-то как же? – встревожился светлейший. – Церковь-то мы не достроили!
– Сам достроишь, Александр Данилыч. Я сынам своим суденышко строить стану. То важнее!
– Едут, открывают… Куда едут? Зачем открывают? – потирая кислый пористый нос, бормотал Меншиков, втайне завидуя людям, через все невзгоды пронесшим одно желание: бескорыстно служить Отечеству.
«А мне и тут славно! Никуда не стремлюсь, ничего не желаю. Вот божий храм дострою, то зачтется…» – думал, издали наблюдая за хлопотами Пиканов.
Легки на ногу эти люди! Только что были в пути, и – снова в путь наладились. А путь неблизкий и нелегкий. Что движет ими? Что гонит? Какая страсть? Неужто и впрямь любовь к России? Кто и когда научил их этой державной любви?
– Ну вот, построите вы судно. Путь новый проложите. Дале что? – светлейший не удержался, подошел и спросил о том, что его больше всего задело. Как же так: простые люди, а вот стремятся к тому, что ему, князю светлейшему, непонятно.
– Дальше? – удивленно пожал плечами Митя. Неужто и это объяснять надо? – Дальше новые пути открывать станем.
– То дело славное. Честь высокая, – кивнул светлейший. В душе усмехнулся: «Все пройдет, как лед на реке. И вас забудут. Меня уж забывать начали, а я не вам чета был!»
– Я фигуру ему не отдал, – спохватился Барма, остановив нарту. Соскочив, бегом вернулся к светлейшему. – Ты в шахматах смыслишь, Александр Данилыч?
– Игрывал, – пробормотал князь, брюзгливо отвесив тяжелую нижнюю губу. Крепился, а по щекам, против воли, катились мутные слезы. Слез оказывать не хотел. «Вот, думал, уезжают они. А я остаюсь. Помру здесь, наверно!»
– Возьми на память, – Барма сунул князю фигуру, заглянул в лицо снизу. – Ферзь называется. Первое лицо при государе. Лишней оказалась. Может, напомнит кого, – и побежал догонять своих.
Фигурка искусно сделана и сразу узнается.
«Эх, малый! – горько вздохнул светлейший. – Давно уж я не первое лицо при государе. Да и государя-то нет…»
Взяв топорик, тюкнул по бревнышку, икнул, всхлипнул и – уж не для чужих ушей – старчески обреченно взмолился:
– Святый боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас…
– Помрет скоро, – сказал Барма спутникам.
Позже Гонька запишет:
«Тима прав оказался. Летом, когда наш шлюп плыл на север, князя в живых уже не было. Похоронили его во дворе им же начатой храмины. Умел начинать покойник, а завершать так и не научился».
24
Давно ль колодец в кремле рыл? Давно ль таскал владыку за бороду? Не месяцы – века минули.
Заброшен колодец. Владыку бог призвал. Губернатора – Петербург. Пушки стреляют теперь в свое время, колокола звонят – в свое. Новый владыка и новый губернатор между собой не ссорятся, живут в полном согласии, как и положено сильным мира сего. Зачем же простым смертным дурной пример показывать?
Едва заступив на должность, губернатор тотчас отправился в Софийский собор и первым подошел под архиерейское благословение. Владыка в тот же день повелел стереть с кремлевской стены Страшный суд, породивший многие толки, а живописцев – Тюхина и подоспевшего к той поре Пикана – засадить в острог. Благо, все под рукою.
Щедры, великодушны властители к отечественным талантам! Пикану с Гаврилой отвели закут с видом на площадь. Сквозь зарешеченное, снаружи закованное железом окно в пробитые дырки виден кремль златоглавый. Славен, светел он отовсюду! Плывут в небесной синеве купола его, башни и звонница. Мощно высятся неприступные стены. Когда отворяются ворота, как на ладони отчетливо виден дворец и торговые палаты. В посаде Барма народ потешает. Остановился подле толстого лотошника, взял пирожок на пробу. Вокруг тотчас собралась толпа. Его и зайку уж знали в городе.
– Ты чо их, – разламывая пирожок, изумился Барма, – вместо мяса монетами начинил?
И верно: из пирожка выпал золотой.
– А-ах! – в одну грудь завистливо задышали зеваки. Самое бы время опохмелиться! – Везет человеку!
– Продай-ка еще пяток, – купил и в этих обнаружил по золотому.
Толпа кинулась вразнос скупать пирожки. Торговец лег на лоток, охватив его руками, яростно завопил:
– Не трог! Баба спьяну начинку спутала! Не трог! Все мои-и!
Толпа заворочалась гневно, зароптала. По рядам шел новый воинский начальник, майор Ложкин, мордатый, дюжий. Дав по зубам одному, другому, сдернул лотошника с лотка.
– Кыш, дьяволы! Кыш, не подходите! – визжал тот, суча ногами. Не разглядев, кто перед ним, пнул майора в промежность.
– Ппес! – взревел Ложкин, приплясывая от боли. – Куда бьешь? Кого?
К торговцу подскочили драгуны.
– Не трог! – охраняя добро свое, на всю площадь вопил лотошник, отбиваясь от нападавших.
Под шумок кто-то и майору поднес.
– Ааа! – взвыл Ложкин и стал тузить правого и виноватого.
– Что там за шум? – выглянул из конторки Кобылин.
– Лотошника убивают, – ответил приказчик, постукивая кулаком о кулак.
– Что ж ты столбом стоишь? Беги на выручку! И ты ступай, Кузька! Неладно, когда торговый люд обижают.
Побежал бы и сам, но как-то неловко степенному человеку. А руки, прости господи, чешутся.
– Как там наши-то? Держатся? – время от времени спрашивал Яков Григорьевич, прислушиваясь к шуму. Тревожась, кинул на подмогу еще десяток людей. Сам взобрался на башенку и окриками подбадривал оттуда посланных.
Ложкина подмяли, кинули в бочку с дегтем. Подчиненных его месили, как тесто. Из острога, им в помощь, выскочили стражники. Из-под горы подоспели драгуны. Весь базар ощетинился кулаками. Трещали скулы, крошились зубы. Хрип, треск, стон, топот…
Майор выбрался наконец из бочки, оставляя черные потеки, пополз вдоль мучного ряда. Барма сыпанул на него из мучного куля. Заяц, сидевший на его плече, ухмыльнулся. Сам Барма не смеялся.
Между рядами медведь носился, где-то вылакав четверть вина. Опьянев, уронил чан с пивом, принялся крушить мясные лари.
Из дворца наместника за суматохой следил губернатор. К нему прибежал с запиской монашек. «Не пора ли унять смуту?» – тревожился владыка.
– Сия смута нам не опасна, – велел устно передать губернатор. – Пускай смутьяны друг из дружки дурь выбивают.
Владыка кивнул, услыхав ответ, и продолжал службу. Паствы в церкви поубавилось. Грянули, словно в престольный праздник, колокола.
– Бей! – слышалось отовсюду. – Шшитай им ребра!
– Не тех бьют, – сокрушался Барма, вожделенно поглядывая на дворец. – Ништо, и до этих доберемся.
Медведь, напуганный рокотом звонниц, сиганул прочь, драгунские кони, увидав его, вздыбились, роняя всадников, затем понесли. На упавших топтались охочие до драк люди тобольские.
– Круши их! Жми! – тесня рассвирепевших драгун, бесновалась толпа.
Текло вино, кровь, масло… В углу базара гудели пчелы. Привез пасечник на продажу, но, не утерпев, ввязался в драку. Барма подхватил кадь с тягучим свежим медом, принялся вымазывать им драгун и стражников. Вскочив на прилавок, накинул кадь на драгуна, крушившего оглоблей налетавших на него посадских, и открыл ульи. Тучи пчел устремились на волю.
– Летите! Летите за взятком! – напутствовал их Барма, накрывшись мокрой кошмою.
И вот вой истошный раздался. Драгун, стражников, да и всех прочих драчунов словно ветром сдуло. Все кинулись наутек.
Барма не смеялся.
Уйдя с опустевшего рынка, направился к острогу. Наверно, видят его отец с Гаврилой! Хоть бы знак какой подали. Вдруг донеслась негромкая песня:
Я летал, сиз-ясен сокол, по поднебесью.
Я бил-побивал воронье-коршунье.
Ох, щадил да и жалел я мелку пташечку…
– Тятя! Тять! – оживился Барма, узнав голос отцовский. – Я тебя слышу! Я тебя выручу! Жди!
– Дочушку береги, Тима, – прогудел в ответ Пикан. – Меня бог не оставит. От Митрия есть вести?
– Как уехал по снегу – ни слуху ни духу.
– Авось воротится.
– Тошно мне видеть тебя в неволе, тятя!
– Скоро за подаянием в город выведут. Там и свидимся…
– Народ подыму, а вас вызволю! – зная, как непросто взбунтовать народ – это не драка, – сулил Барма.
– Жди, Тима! Надо, чтоб Митрий с добрыми вестями воротился. Нам тут терпимо. Так ведь, Степаныч?
– Жируем, – невесело хохотнул Тюхин. – Слыхал, песни поем?
– Сиживал, знаю, – насупился Барма. – Ладно, думать буду. Может, и придумаю что.
Поговорить им не дали.
От реки, по тропинке, гуськом подымались опухшие от кулаков и пчелиных укусов стражники. А над острогом, облюбовав себе Соколиную башню, вились пчелы. И на земле, совершив благое дело, ползали и умирали пчелы.
Мимо храма провели вымазанного в муке и дегте Ложкина. Ехавший к обедне губернатор выглянул из возка:
– Это что за чучело? – спросил у драгуна.
– Дак это, вашество, майор наш, господин Ложкин.
– Софочка, узнаешь сего доблестного кавалера? – Губернатор велел ближе подъехать к воздыхателю своей ста реющей супруги.
– Фуй! Какой гадкий! – Губернаторша брезгливо зажала платочком нос, опустила шторку.
У церковных ворот столкнулись с Кобылиным. Уступая путь губернатору, купец оглядел побоище, лукаво ухмыльнулся.
– Что, Яков Григорьич, – вполне верно оценив его улыбку, поинтересовался губернатор, – пошумели твои людишки?
– Народ озорной, ваше сиятельство, – уклончиво ответил купец. – Да и служивые круто взяли. У нас к этому непривышны.
– Ништо, попривыкнут, дай срок. До расправы двое похваляются, после расправы – один… Да мы и тому язык прищемим. Но я не с драчунов начну, с зачинщиков, – добродушно похлопав купца по спине, намекнул губернатор.
«Сиятельство-то мягко стелет», – поежился от его прикосновения купец, повернул было обратно, но услыхал в храме крики.
Посреди церкви кричал какой-то человек черный.
– Ни знатность, ни чины высокие, ни ордена не дают вам права на величие, – падали слова его в притихшую толпу. – Великим человек может именоваться токмо тогда, когда он любит народ, заботится о народе, болеет за истину.
– Вывести! – моргнул свите своей губернатор. – И без него полно смутьянов.
– Ваше сиятельство, – признав в кричавшем Пинелли, выдвинулся вперед Кобылин, – он в уме поврежден. Токо что из богадельни вышел.
– Ежели поврежден, на что ему истина? Истина здоровым нужна, крепким разумом.
– А где таковые? – бесстрашно усмехнулся купец, решив спасти итальянца. – Не эти ли? – указал на чиновников. Те льстиво улыбались, кивали, стараясь обратить на себя внимание. – Дак они спиною крепки да ишо одним местом. Отпустите беднягу, ваше сиятельство. Вреда от него нет.
– От него нет вреда, а от проповедей бунтом попахивает. – Губернатор махнул рукою, и ваятеля поволокли в острог. Там для истины места вдоволь. Нечего ей по церквам шастать.
…Зен-зен. Звякают кандалы. Тихо, печально бредут колодники. Горожане, зная почти каждого, крестятся, вздыхают сочувственно и подают милостыню страдальцам. Навстречу мужу вышла с корзиной Фелицата Егоровна. Корзина полна пирогов и шанег. От бабки Агафьи вынес ребятишек Барма.
– Слушайте, слушайте, люди, вещую музыку! И вы, детки мои, слушайте, – говорил во весь голос.
Ему внимали.
Зен-зен, зен-зен… Названивали цепи. Дети улыбались. Барма скрежетал зубами.
– В другой раз отобью вас тут же. Будьте готовы, – прошептал Барма отцу и Гавриле.
С горы во весь опор скакал Ложкин.
– Кто выпустил их? – кричал он, размахивая саблей. – Назад! В острог!
– Что, отмылся? – усмехнулся Гаврила. – Рано, рано.
Дав шпоры коню, Ложкин врезался в строй колодников. Жеребец вскинулся на дыбы, сверкнула сабля. Коню под копыта угодил Пинелли.
Передав ребятишек Агафье, Барма кинулся к итальянцу.
– Леня, Леня!
Но тот был мертв. Из рассеченного черепа хлестала кровь.
– Убил, нелюдь! – ахнул Гаврила, прянув к майору. – Ох, коротка моя цепочка!..
– Я растяну ее, дядя Гаврила. – Барма кошкой прянул на майора, вышвырнул его из седла.
– Беги, Тима! – крикнул Гусельников Степша, ударив целившегося в Барму солдата.
– Спасайся, сынок! – приказал Барме отец. – Беги! Ты нам на воле нужней.

Барма перемахнул через прясло и ускакал. Ночью, тайком пробравшись в город, со всеми простился. Гонька был последним, кто его видел.
– Береги дружка моего, – вручив мальчугану зайца, сказал Барма. – А я ухожу.
– Возьми и меня с собой! – запросился Гонька. Барма улыбнулся и покачал головой.
– Ты брату понадобишься: А мы с Иванком души сухопутные. Обними его. Авось встретимся где-нибудь на краю России.
«Где край тот? – писал загрустивший Гонька. – И суждено ли мне Тиму увидеть? Добрый он человек, веселый. Да жаль, веселья его лишили».
25
Дымы, как волосы молодиц, вьются, ветер треплет их и треплет. А город стоит на юру, жмурится окнами. И в каждом окошке чья-то судьба. Город прочно и на века врос в сибирскую землю. И только кремль над землею возвысился. Кремль да еще острог. И в стылых каморах тоже люди. Томятся, поют песни под звон кандальный.
Сюда и другой звон доносится. То с верхнего посада текут на юг торговые караваны. Иртыш-батюшка, с Тоболом соединившись, спешит на север. За ним кинуться бы да цепи уговаривают: зен-зен…
Бондарь в слободе оружейной стал своим человеком. Братья с плотниками сошлись. Замотохины люди подружились с татарами. Шныряет Митина артель по городу, сеет в людях лютое недовольство. Уж трижды нападали на острог, но были отбиты. Нового воинского начальника в один из выездов загнали в женский монастырь.
Несчастья, одно за другим, стали преследовать и самого губернатора. То крыша в спальне обрушится, то рухнет вместе с каретою мост, и под глумливое улюлюканье горожан его сиятельство вместе с супругой выкупается в сточной канаве.
Владыке по ночам стали являться черти. А хор церковный вместо «Коль славен» грянул однажды:
И в горе и в радости я не один:
Со мною всегда мои верные братья.
И счастлив я буду до самых седин,
Удачлив я буду до самых седин:
Со мною везде мои верные братья
– Выпустите их! – взмолился владыка. – Пока мы сами не заразились крамолой.
И Пикан с Тюхиным вышли на свободу.
А вскоре вернулся из Петербурга Митя. Он привез деньги и снаряжение. Ему посодействовал в хлопотах известный мореход Федор Соймонов, уломали Адмиралтейство.
Отслужив молебен, артель принялась строить шлюп. Строили лето, зиму. Весною, за ледоходом, наладились в путь. Купец Кобылин снабдил экспедицию провизией.
– Кому потворствуешь, Яков Григорьевич? – тихонечко спросил губернатор.
– России, ваше сиятельство, – простовато ответил купец. – Токмо России. Сам Петр Великий благословил их в поход!
Запела труба на сторожевой башне. Торжественно грянули колокола.
– Трубит ишо князюшка-то! – усмехнулся Пикан, вздымая над собой дочку. – Гляди, Ксюша, сколь миру высыпало! Все нас провожают.
– С богом, братцы! – сквозь счастливые слезы улыбался Митя. Радовался предстоящим испытаниям.
Воздев паруса, шлюп взял курс на север.
– Без них спокойней, – благословив отплывающих, облегченно перекрестился владыка.
– Смотри, Гонька, и запоминай! – говорил Бондарь, толкая в бок юнгу, на плече которого сидел заяц. – И напиши про нас правду. А ишо про то напиши, как искали мы светлую землю. Где та земля? – вздохнул он с тоскою. Вздыхал, а походу радовался. Может, движение-то и есть самое высокое счастье, а палуба плывущего шлюпа – благословенная земля?
Но Гонька думал иначе.
– Она там, Кеша, где Иванко и Тима, – сказал он, поглаживая прильнувшего к нему зайца.
– А где они, Гоня? – спросил Пикан по секрету.
– На краю России, – с неколебимой верою ответил мальчик.
Плывет шлюп под звон колокольный, плывет, раздвигая пределы Сибири.
А Гонька шепчет косому:
– Мы услышим про них, Зая! Услы-ышим!
Заяц, чихнув, облизывает лапы. Может, не зря он чихнул-то, и все сбудется?
– Сбудется, сбудется, – рокочут колокола.
1975—1982 гг.
Кармак – Тюмень – Речкино








