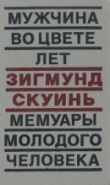Текст книги "Кровать с золотой ножкой"
Автор книги: Зигмунд Скуинь
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 23 страниц)
Паулис был сметлив и расторопен, голову имел светлую, но ему недоставало той крестьянской хватки, которую Август все еще чувствовал в себе и которую много лет назад приметил в Якабе Эрнесте. Петерис из всех сыновей стоял ближе к земле, не разменивал себя, подобно Паулису, на побочные увлечения, но и в нем не оказалось того сита, что крупноту отсеивает от мелочи. Атис в этом отношении вообще не подавал надежд, был чересчур тщеславен, чтобы осесть на земле. Чем-то был похож на Эдуарда: ему легко давались языки, он запросто решал сложные задачи, читал умные книги, хотя и был, в общем-то, прямой противоположностью двоюродному брату. Атис мечтал не о переустройстве мира, а, как он. сам выразился, о «приобщении к непреходящим духовным и бренным материальным ценностям». Он вошел в доверие к новому пастору, прилежно читал из его библиотеки книги в кожаных переплетах. Атис радовался всякому поводу наведаться в поместье. У барона тоже была богатая библиотека. Как ни странно, Атис и к ней нашел доступ.
Война затягивалась, и Августу всерьез пришлось считаться с возможностью, что сыновей заберут в армию. При штурме Пулеметной горки и в боях на Тирельских болотах латышские стрелки понесли большие потери. Прошла мобилизация еще нескольких возрастов. Все разговоры Паулиса начинались так: «Если я к тому времени не уйду в стрелки», «если я еще не надену мундира». Однако в Зунте раздавались и другие голоса: дескать, и немецким, и русским солдатам надоело воевать, дескать, «эту бессмысленную бойню завшивевший солдат закончит снизу». И, будто в подтверждение подобных слухов, среди сторожевого взвода на набережной Зунте начался мятеж. Хорошо знакомые зунтянам солдаты прошлись по главной улице с красным флагом, распевая «Интернационал», а прапорщика Кровопускова по прозвищу «Смирно» заперли в подвал. О волнениях, демонстрациях и мятежах рассказывали приезжавшие из Риги и Петрограда.
Август, Паулис и все Вэягалы стояли за революцию хотя бы потому, что в новой волне видели продолжение прежней революции, возмездие за пепелище посреди двора их усадьбы и трупы на соснах городского парка, за смерть Якаба Эрнеста и расклеенные объявления о розыске Эдуарда.
В сентябре стало известно, что немцы предприняли новое наступление на Ригу.
– Припомни мои слова, генштаб битком набит предателями, уж теперь германец как пить дать сядет нам на шею, – объявил Паулису Янка Стуритис. – Ты как знаешь, а я еще разок попробую пробиться.
В тот же день он исчез. Паулис счел себя обиженным. Несколько дней ходил хмурый и бледный. Отец об одном талдычил: овсы не кошены, весь хлеб на полях. К тому же была Аустра, которой он пообедал и которая его ласкала так горячо, что при одном воспоминании сладко обмирало сердце. С Аустрой шутки плохи, она ему напрямик сказала: «Если бросишь меня, утоплюсь. С прижитым ребенком меня не увидят». В том, что Аустра от него понесла, уверенности не было, но его уход в стрелки она могла истолковать по-своему.
В Зунте опять появились беженцы, теперь уже из близких мест. Несколькими днями позже Паулис, перевозя с поля последнюю рожь, заметил вдалеке облако пыли. Затем воздух содрогнулся, и на дороге с оглушительным грохотом взметнулся столб песка и пыли. На полном скаку мимо пролетело несколько шестерок взбешенных и взмыленных коней; сквозь пыль и дым, еще не осевшие после взрыва, Паулис разглядел орудия. На опушке леса, неподалеку от «Вэягалов», батарея заняла позицию и открыла ответный огонь. После каждого выстрела дергались и откатывались стволы орудий, изрыгая языкн пламени. На крыше дома Вэягалов, в слуховом окне обосновался наблюдатель с дальномером. Командир артиллеристов, смуглый южанин, нервно пощипывая франтоватые усики и острую мефистофелевскую бородку, сообщил, что вот-вот должна подойти пехота и они тут будут стоять насмерть. Всем посторонним он от души советовал убраться, пока не поздно.
Он еще не кончил говорить, когда сипящий воздух как бы просел от непомерной тяжести, и немецкий снаряд вырвал из кровли дома здоровенный кусок, засыпав двор обломками досок, лоскутами жести и едкой пороховой гарью. Перестрелка продолжалась несколько часов. После каждого попадания кровля дома Вэягалов становилась все пестрее и прозрачней.
Август и Паулис грузили по телегам вещи. Петерис и Атис вязали в узлы одежду. Только Элвира, обхватив руками голову, валялась на кровати и плакала навзрыд.
Пехотинцы так и не явились, артиллеристы на пригорке сами вырыли петлистую траншею. Под вечер, когда Вэягалы тронулись в путь, полил дождик. Быстро стемнело. Паулис, зажав между колен футляр со скрипкой, выехал первым.
– По дороге заверну к Ноасу! – крикнул он. По соседству с Особняком Ноаса жила Аустра.
Зунте было объято паникой. Мостовые в осколках стекла и черепицы. Повсюду закладывали лошадей, готовились к отъезду. Горели почта и дом Микельсона. Ревели животные, звенели возбужденные людские голоса.
Семейство Аустры как раз выезжало за ворота. Паулис лишь успел сказать, что разыщет их на первом же привале.
Ноас как раз закончил что-то закапывать в саду. Что именно, понять было трудно, он стоял с лопатой в руке, а вокруг желтел влажный и свежий песок.
– Пора выезжать, – поторапливал Паулис.
– Сначала дело надо сделать. – Притомившийся Ноас с шумом дышал, его широкая грудь поднималась и опускалась, подобно кузнечным мехам.
– Да разве не все уже сделано?
– Всякое дело любит аккуратность. Черной землицей присыплю, чтоб не бросалось в глаза.
– Это мелочи!
– Из-за них-то все частенько идет прахом.
Ноас втиснулся в свой капитанский мундир с золотыми пуговицами и направился к дому.
– Вещей у меня будет немного, – сказал он. – Моряцкий мешок, и все.
Перед тем как уехать, Ноас вывинтил пробки из электрической сети и старательно закрыл дверь. Постоял, приложив левую ладонь к притолоке, потом сказал:
– Смотри же, халупа, держись!
Дорога оказалась запруженной подводами, нагнать остальных Вэягалов ни в тот, ни на другой, ни на третий день не удалось.
Как-то утром, когда желток солнца едва поднялся из дымки горизонта, опять загромыхали пушки. Снаряды посыпались в самую гущу упряжек, началась суматоха. Лошади ржали, пучили глфза, ломали оглобли, вставали на дыбы. Люди разбегались кто куда, падали на землю, летали по воздуху. Паулис попробовал свернуть с дороги, направив воз через канаву, к пригорку, где после первых заморозков чернело поле невыкопаниой картошки. Волною взрыва его швырнуло в кусты. Нога у Ноаса запуталась в вожжах. Жеребец Мелнис как бешеный носился по бороздам, волоча за собой Ноаса, покуда не выбился из сил и повозка не застряла в топкой речушке.
Как оказалось, немцы их обошли. Беженцы, похоронив мертвецов, не спеша тронулись в обратный путь к своим покинутым домам. Тогда-то Паулис повстречал своих. Ноас лежал на телеге, то приходя в себя, то снова впадая в беспамятство.
В Зунте воротились на исходе серого и дождливого дня. Общими силами внесли грузного Ноаса в Особняк, к счастью оставшийся нетронутым.
– Спасибо, – проговорил Ноас. – Ключи положите на стол. А сами убирайтесь, убирайтесь же, не теряйте попусту времени. А ты, Паулис, задержись, покуда дух не испущу. Иокогама, Алабама, хотелось бы умереть на морс. Слышь, Паулис, я тебе завещаю пуговицы от своего мундира. Бери ножницы, срезай.
Антония вопросительно поглядела на Августа – можно ли такое считать связной речью, как тут быть, послушаться или нет? Август понял; пришел последний час Ноаса. Ему хотелось остаться, но ведь он был – Вэягал – горд, самолюбив. Не оставаться же, раз брат сказал «убирайтесь».
– Пошли! – произнес Август, беря за руку Антонию. – А ты, брат, крепись!
Ноас умирал неохотно – в три приема. На рассвете Паулис закрыл ему глаза и по давнему обычаю Вэягалов на том месте, где Ноас испустил дух, заколотил в половицу гвоздь. Затем, как было велено, срезал с капитанского мундира пуговицы – девятнадцать с кителя, четыре с брюк – и, насилу сдерживая слезы, позвякивая пуговицами в кармане, вернулся на хутор «Вэягалы».
И Август той ночью спать не ложился. Сплетя пальцы, ходил от сарая к коровнику, от коровника к риге, от риги к амбару. Сделает круг, и опять все сначала, – не переставая думать о жизни и смерти брата.
– Ах, Ноас, Ноас, – вполголоса сам с собой рассуждал Август, – отчего тебе так не везло, почему ты был всегда один? Всю силу свою, свои мысли, желания, даже любовь выпаливал направо и налево, куда придется. А сам с чем остался? И в шумной толчее ты бывал одинок. Выстроил дом, который детям твоим не нужен. Послушай, боже праведный, я так скажу: обошел ты счастьем человека, если он свой последний час вынужден встречать в одиночестве – пусть даже в кровати с золотой ножкой!
8
Мрачная полоса поражений не сломила веры Эдуарда в победу революции. Получая очередную весть о павших в борьбе, замученных в тюрьмах товарищах, он уже не сжимался, не вздрагивал, как прежде, а проникался еще большей жаждой победы. На весы было брошено все: пережитый стыд, выстраданная боль, пролитая кровь. И то, что ему, как беглецу и бродяге, приходилось скитаться по миру. В пору своей первой ссылки, совсем молодым, он в душе посмеивался над старшими товарищами, тосковавшими по родным местам. Телерь Эдуард знал: завоевать победу означало вернуться домой. Прочие представления о победе скрывались за такими установками, как «свержение царизма», «мировая революция». Но итог победы воображение рисовало совершенно четко: он входит во двор хутора «Вэягалы». Ясный солнечный день. На вековом ясене от легкого ветра поскрипывают качели, на травке изрытого курами двора дремлет пес Дуксис. Вокруг ни души, но кто-то сейчас появится, еще мгновение…
Выдворенный из Англии сроком на девяносто девять лет, Эдуард объявился в Германии. Там он намеревался собрать боевую группу проверенных товарищей, чтобы из камер смертников Рижской центральной вырвать несколько руководителей подполья. Но Эдуарду Вэягалу пришлось уехать в Америку: слишком хорошо был он известен европейской полиции.
После разгрома революции 1905 года поднявшийся шквал по всей Европе разметал революционеров с полей и холмов Латвии. Сегодня каждый школьник знает, что Райнис в ту пору находился в Швейцарии, Скалбе в Норвегии, Янеон-Браун в Брюсселе, Курций в Париже, Рудольф Берзинь в Дании. Наслушавшись рассказов о стране безграничных возможностей, беженцы потоком хлынули за океан. Около пятнадцати тысяч латышей тогда перебрались в Соединенные Штаты. В индустриальных районах и на Атлантическом побережье насчитывалось десятка два латышских социал-демократических групп с двумя тысячами членов.
Стояла осень, и все двенадцать дней плавания грязновато-серые, как помылки, океанские валы то заслоняли собой небо, то приоткрывали зиявшие под ними бездны, а над ними скользила стальная скорлупка, кренясь с боку на бок и треща по швам. Пассажиры размещались в трюмах, где из неструганых досок были сколочены в четыре этажа помосты. Судя по въедливому запаху, в предыдущие рейсы в этих трюмах перевозили лошадей. Не обращая ни малейшего внимания на враждебные акции своих двуногих соседей, шныряли крысы. Помощник штурмана с наглой ухмылкой утешал перепуганных женщин тем, что, хотя и мало радости видеть голые крысиные хвосты, однако само по себе присутствие крыс добрая примета, свидетельство того, что корабль благополучно прибудет в порт. Особый смысл его слова приобрели на седьмой день плавания, когда временно вышел из строя судовой двигатель.
Плавание Эдуард перенес довольно сносно, хотя с детских лет к водной стихии испытывал неприязнь. Позднее это чувство в нем закрепилось несчастьем Якаба Эрнеста и собственным побегом с отцовского корабля.
На тринадцатый день, поутру, когда должен был показаться Лонг-Айленд с много раз виденными на картинках небоскребами и статуей Свободы на переднем плане, все заслонил собой туман. Судно, подавая протяжные гудки, целый день простояло на якоре. Туман рассеялся только под вечер, открыв румяный закат и переливавшееся огнями побережье.
Эдуард смотрел по сторонам, не в силах сдержать охватившее волнение, как будто лишь теперь, когда пароход осторожно, будто на ощупь, пробирался в один из нью-йоркских доков, прорвались наружу скопившиеся за время плавания по взбаламученному океану тревоги. Он много испытал и много перевидел, но то, что сейчас перед ним распахнулось, было несравнимо с ранее известным. Тянувшаяся метрах в двухстах черная полоска суши принадлежала совсем иному миру, взиравшему на пришельца своим надменно-лоснящимся ликом с убийственным безразличием– как сфинкс на муравья.
Тех, у кого не оказалось въездных виз, задержали чиновники иммиграционного ведомства, деловитые крепыши, орудовавшие в основном «Ундервудами» и треугольными печатями, но, судя по кобурам и наручникам, пристегнутым к ремням, способны были выступать и в ином качестве. Часом позже Эдуард опять качался на волнах, на этот раз в переполненном баркасе, направлявшемся к опутанному колючей проволокой острову Элис.
Простейший способ выбраться отсюда был известен каждому – найти в Америке родственников. Эдуард объявил чиновнику, что в Брайтоне проживает Карлина Васере, его невеста, с которой он помолвлен. Две недели спустя пишущая машинка отстрекотала свадебный марш, и в пропахшем хлоркой и лизолом казенном храме состоялось их бракосочетание. Сухая, по-американски деловитая процедура не обошлась без сантиментов – пришлось, возложив руку на Библию, принести клятву, затем торжественно поставить свои подписи. Тук-так – выстукивала большая треугольная печать.
– О любимый! – раскрыв объятия, вся рдея, воскликнула Карлина Васере, успевшая вжиться в роль любящей невесты и жены.
В свое время в Либавской тюрьме она, разыгрывая роль преданной невесты, при поцелуе втолкнула в рот Коркису важную записку, а Бокису в здании Рижской охранки вместе с бутербродами исхитрилась передать браунинг.
В Брайтоне Карлина жила второй год, работала судомойкой в ресторане, принимала участие в революционном движении эмигрантов. Как и Эдуарду, ей было за тридцать. Сполна раскрывшаяся женственность из нее рвалась наружу, заявляя о себе каждым жестом, каждым взглядом. Сказать, что они совсем не знали друг друга, будет преувеличением. В Риге им доводилось встречаться в обстановке, когда не было возможности приглядываться друг к другу: перестрелка у Крестовых казарм, еще раз ночью, в лодке посреди Даугавы, выбирая из поставленных на лососей сетей нечто более ценное, чем серебристо-чешуйчатые деликатесы – скорострельные карабины Росса-Энфилда.
Карлина обитала в рабочем квартале, где американское преуспеяние было низведено до европейского уровня скудного достатка.
В комнате на подоконнике в глиняном горшке алели цветы, Эдуард не знал им названия, но точно такие цветы в свое время цвели на подоконнике меблированной комнаты в Дерпте в его студенческие годы. Единственная кровать была застелена полосатым видземским покрывалом, столь же знакомым, как и цветок. Чем-то родным повеяло от льняной наволочки с грубоватой вышивкой. Эдуард, сам себе удивляясь, ощутил излучаемый этой опрятной комнатой покой, как ощущают сквозняк или тепло печки, и его охватили волнение и грусть. Неужели он успел забыть, как мягко падает свет на льняную наволочку подушки?
– Вот какое тут жилье… – Вид у Карлины был несколько смущенный. Подошла к столу, тотчас обернулась, пристально глянула ему в глаза. Будто ждала чего-то.
Объяснить последующее лишь волнением было бы неверно. Но Эдуард не привык притормаживать свои влечения. Он умел быть напористым, грубоватым. Обеими руками схватил Карлину, но она вырвалась столь энергично, что Эдуард был вынужден отступиться.
– Уж это слишком, – просто сказала она. – Мне было велено встретить вас, поселить в этой комнате, пока не подыщете себе пристанище.
– И только? – Он улыбнулся, пытаясь все обратить в шутку. – Не может быть.
– Да. Я заночую у Валин Клегер, она живет неподалеку.
Карлина прошла на кухню подогреть воду для ванны и приготовить завтрак, а вернувшись, спросила, не хочет ли он закурить или выпить. Сигареты на полке, виски в шкафу. Для ясности добавила:
– Как Микаэл оставил, так и стоит.
– Кто такой Микаэл, позволено будет узнать?
– Во-первых, анархист, не признающий ничего, кроме вооруженного бунта.
– А во-вторых?
Карлина сделалась серьезной:
– Инвалид. Несчастный человек. Когда-то был с нами.
– Понимаю.
– Ничего вы не понимаете. Америка, жестокая страна.
– Полагаете, более жестокая, чем Россия?
– В России зреет революция, там все переменится.
– В Америке тоже будет революция.
– Подготовить революцию – титанический труд. В Америке задаром никто ничего не делает.
В этой неожиданной дискуссии Эдуарда интересовали главным образом отношения Карлины с Микаэлом.
– Не знал, что вы замужем.
– Я не замужем. Микаэл не признает формальностей. Мы познакомились на корабле. У него в Америке был брат. Год назад Микаэл добился своего – рабочие судоверфи проголосовали за забастовку, и той же ночью, когда он возвращался домой, его ранили из проезжавшего автомобиля.
– Везде примерно то же самое.
– Как сказать. Здесь в ходу такой анекдот: «Я выиграл, говорит один, у меня три туза. Плевал я на твоих тузов, отвечает второй, у меня шестизарядный револьвер».
– Ладно, Карлина, постараюсь запомнить, что играть в карты в Америке небезопасно.
– В Америке небезопасно трогать бизнес. Не имеет значения, кто ты, к какому классу принадлежишь.
– Чем он занимается в настоящее время?
– Микаэл? Спросите чего полегче. Две недели назад сказал, что учится стрелять левой рукой. Хорошо, если б он здесь пока не появлялся. Но этого вам не могу обещать.
Так началась жизнь Эдуарда Вэягала за океаном, продолжавшаяся двадцать восемь лет. За эти годы он приобрел не только новые имена – Эдвард Уэйглл, Эдуардо Родригес, – ио и новое мировосприятие.
Хотя на свои нервы Эдуард не жаловался, но в первую ночь у Карлины спалось плохо. В голову лезли разные мысли: как устроиться с жильем, пока не наладятся связи, как быстрее подыскать работу? К деятельности профессионального революционера в здешних условиях он себя чувствовал неподготовленным.
Спозаранок загудели на разные голоса окрестные заводы. Обманчивое тепло камина за ночь улетучилось, выстуженная комната стала похожа на погреб. Хлесткий океанский ветер громыхал оконными переплетами, трепал занавески.
Перекусив оставленными Карлиной бутербродами, Эдуард написал Чалису открытку о своем прибытии и отправился осматривать город.
Вечером, возвращаясь домой, Эдуард еще издали заметил в окне свет. Ну вот и хорошо, подумал он, заодно познакомлюсь и с анархистом Карлины. Повертев в руке ключ, Эдуард сунул его обратно в карман и нажал кнопку звонка.
Предположение, что в квартире находится Микаэл, не подкреплялось никакими дедуктивными доводами. Просто мысль о Микаэле явилась настолько объемной и зримой, что, вопреки своему правилу всегда учитывать несколько возможностей, на этот раз об ином варианте Эдуард не подумал. И потому при виде Карлины – опять же вопреки натренированному хладнокровию – растерялся как мальчишка.
– Рад видеть супругу и хозяйку! – воскликнул он, сознавая, что слова эти, хотя и сказанные в шутку, были вполне искренни.
Появление Карлины вернуло комнате уют, который он почувствовал, впервые в ней появившись. Трепетные языки пламени в камине, приглушенные тени – все излучало тепло и покой.
– Ничего не поделаешь, на какое-то время вам придется смириться с моим присутствием. К Валии из Детройта неожиданно нагрянули родственники. – Смерив Эдуарда долгим взглядом, Карлина добавила – Разумеется, я могла бы пожить в гостинице, но жаль выбрасывать деньги на ветер.
– Так, может, лучше уйти мне?
– Нет, зачем же? Буржуйскую мораль оставим буржуям. Не стены делают людей порочными.
Их совместная жизнь была необычна. Они спали в одной кровати, разделенной узенькой подставкой для цветов, с которой ради безопасности поснимали цветочные горшки. Вначале эту символическую преграду Эдуард, разумеется, пытался преодолеть, но все их поединки неизменно завершались победой благоразумия Карлины.
– Я бы, конечно могла уступить, – как-то обмолвилась она, – но это бы нас только запятнало. Любви между нами нет, просто мы друг у друга оказались под рукой. Если тебе нужна женщина, наведайся к одной из тех, кто этим промышляет.
«Она права, – подумал Эдуард. – В самом деле, распущенность, и больше ничего».
Но поутру, отправляясь на поиски работы, он поймал себя на том, что с нетерпением ожидает вечера, когда снова увидит лицо Карлины, на котором неумолимый паук увядания уже сплетал едва заметные сети морщинок. Карлина не пыталась его соблазнить – раздевалась и одевалась за ширмой, в постели лежала смирно, не расхаживала по квартире в открытых домашних платьях. И все же ему постоянно мерещились ее вскинутые над головою руки, обсыпанная веснушками шея, мягкий выгиб спины. По ночам близость Карлины становилась мучением. Как-то после очередного кошмара, с бешено колотящимся сердцем и затаившимся дыханием он подскочил с постели и в лунном свете увидел рядом плечо Карлины, и тогда Эдуард, не столько даже рассудком, сколько жаром воспламененного тела вдруг понял, что больше не в силах терпеть эти муки, что они сами себя бесчестно обманывают. Цветочная подставка отлетела в сторону. Захваченная врасплох Карлина не противилась. Возможно, поначалу и не поняла, что происходит. Взрывом обоих швырнуло в свободное пространство – как спущенные с предохранителя пружины. Мысли появились позже, когда оба пришли в себя.
– Ужас! – проговорила Карлина. – Просто ужас! На свете, видишь ли, есть еще и Микаэл. Я не имею права его бросить.
Эдуард смотрел на бледное лицо Карлины. Меньше всего сейчас хотелось думать о Микаэле. Перед глазами возникла давняя картина. Его, разбуженного дурным сном, пришла успокоить мать – в ночной рубашке, с таким же озабоченным выражением на лице, с такими же растрепанными волосами. Даже тело Карлины пахло, как тогда материно. Никакая другая женщина не вызывала в нем таких странных чувств.
Помолчав немного, Карлина сказала:
– Если у нас будет ребенок, я не смогу его оставить. Для победы революции нужны борцы, а не самодовольные мещане.
Микаэл появился так, как ему и следовало появиться, по рассказам Карлины. Однажды утром, когда Карлина уже ушла, а Эдуард еще лежал в постели, он увидел за окном болтавшуюся пару нечищеных башмаков. Затем с крыши на балкон тяжело спрыгнул с виду неуклюжий человек. Мгновение спустя на Эдуарда был уже наведен револьвер. Левой рукой мужчина подбрасывал блестящую десятицентовую монетку.
– Так вот, дружок, выпадет орел – я тебя пристрелю. Выпадет решка – сможешь застрелить меня.
Монетка взлетела и со звоном подкатилась к кровати.
– Ну, так что там выпало? Погляди, тебе ближе!
Эдуарду это казалось донельзя банальным, глупым, унизительным. Почему-то больше всего злило то, что Микаэл застал его в одолженной Карлиной ночной рубашке, которой, надо полагать, пользовался и его предшественник.
Не веря, что Микаэл в самом деле станет стрелять, Эдуард свесился с кровати и, будто потянувшись за монеткой, рванул ковровую дорожку с такой силой, что Микаэл, потеряв равновесие, грохнулся на пол. Лет через двадцать или тридцать в детективных фильмах подобный трюк, много, раз повторенный, станет известным каждому подростку. Но заподозрить Эдуарда в подражательстве было бы несправедливо, – сработали сноровка боевика и вдохновение. Револьвер Микаэла оказался у Эдуарда, и он смог натянуть штаны.
Микаэл, потирая ушибленную щеку, по-прежнему лежал на полу. Внешность у него была жутковатая. Через лоб тянулся рубец, отсутствующий фрагмент лобной кости был просто-напросто затянут кожей, трепетавшей при каждом ударе пульса. Вздернутое левое веко приоткрывало белок выпученного глаза.
– Послушай, ты, мерзавец, – злобно прохрипел Микаэл. – Я ведь знаю, чем ты занимался в Гельсингфорсе. Стоит мне позвонить в полицию, и тебя в двадцать четыре часа выдворят из Штатов как гангстера.
Эдуард, застегнув брюки, сунул револьвер Микаэла в задний карман.
– Ну что ж, – сказал Микаэл, поднимаясь с пола, – у тебя был верный шанс меня застрелить. Как бы тебе не пришлось об этом пожалеть!
– Возможно, – ответил Эдуард, – только я здесь не для того, чтобы стрелять дураков.
– Это как сказать… Я о том, для чего каждый из нас где-то находится.
– Свобода сама с неба не падает.
Микаэл рассмеялся булькающим смехом, как-то особенно растягивая и без того неприятные звуки.
– Свободы в чистом виде нет. Свобода всегда одной цепью повязана с властью. А ради власти… хо, хо! Только мы, анархисты, под власть подводим бомбу, и – аминь.
Уйти он собирался через дверь. Эдуард вытащил из кармана револьвер и перекинул его Микаэлу.
– Не надо, – сказал Микаэл, на прощанье вскидывая пальцы к пульсирующему виску, – Оставь себе на память. Авось пригодится. Не беспокойся, у меня другой найдется. Никогда не выхожу с одним револьвером. Привет Карлине. Можешь ей передать, что по сравнению с моей негритянкой она обычная доильная машина.
На исходе недели Эдуарду удалось устроиться подсобным рабочим в мастерской весов. Получив первое жалованье, он снял себе комнату в том же доме, где находилась мастерская. Некоторое время продолжал встречаться с Карлиной, но прежняя увлеченность прошла. Их отношения затухали постепенно, как затухает лампа, когда кончается керосин. Карлина оказалась права: любви между ними не было. После таких встреч Эдуард даже испытывал что-то похожее на стыд. Через несколько лет он совсем забыл о Карлине. Вернее, вспоминал о ней с безмятежным равнодушием – что поделаешь, уж так получилось, как говорится, дай ей бог.
Лишь один раз в жизни он любил по-настоящему. Воспоминания об Элзе были незаживающей раной. И она нередко, как и многие другие раны, напоминала о себе саднящей болью. И тогда, опять как в номере гельсингфорсской гостиницы, Эдуард ощущал в своих руках летящее тело Элзы, и она звездой с высоты снова спускалась к нему.
Независимо от того, была у него над головою крыша или со всем своим добром, умещавшимся в сумке, он скитался из города в город, независимо от того, бывал он сыт или голоден, улыбалась ему удача или приходилось бедствовать, в хорошем или скверном настроении, больной или здоровый, но в ту пору Эдуард каждый день, точнее, каждую ночь изучал основы классовой борьбы и революционную стратегию.
Из массы американских рабочих Эдуарда всегда на первый план выдвигали его недюжинный ум и бойцовский темперамент. Где бы он ни появлялся, начинались забастовки, основывались лиги солидарности. Эдуард выводил на улицу демонстрантов, воевал со штрейкбрехерами, призывал латышские революционные группы участвовать в акциях левых американских организаций, собирал средства в помощь безработным, убеждал в необходимости экономических требований, проповедовал главную цель трудового народа – мировую революцию. Имя Уэйглла, вполне понятно, сделалось известным в кругу фабрикантов и предпринимателей. А это было равнозначно включению его в «черные списки». Находить работу становилось все труднее. Стоило боссам разобраться, с кем они имеют дело, как Эдварду Уэйгллу без церемоний указывали на дверь. Рослый детина – шесть футов и два дюйма – надевал на ковбойский манер заломленную шляпу и понимающе улыбался. «Good!» {3}3
Хорошо (англ.).
[Закрыть]
В странствиях от одних заводских ворот к другим сточились толстенные подметки из буйволовой кожи. От голода иногда подгибались колени. Подчас казалось, еще немножко – и совсем не станет сил даже дышать, но он упрямо сохранял надежду. Противник пока был силен. Пока противник держал за глотку и выкручивал руки. Однако Эдуард был уверен, что в этой огромной стране растут и крепнут силы, которые в конечном счете положат на лопатки всесильных денежных тузов. Снег не всегда падает сверху вниз, особенно когда метет метель. Река, выходя из берегов, течет, не считаясь с проложенным руслом. Ход истории определяется суммой логичных и алогичных следствий.
Эдвард Уэйглл работал на автомобильном заводе, принимал деятельное участие во всех начинаниях профсоюза рабочих автомобильной промышленности как широко известный, общепризнанный организатор. Правда, год спустя администрация фирмы его уволила, но это уже не имело существенного значения.
В личном плане тот отрезок жизни для Эдуарда был знаменателен его женитьбой на активистке профсоюзного движения Эмануэле Родригес. Весть о победе революции в России на Эдуарда подействовала иначе, чем он ожидал. Конечно же радовался, ходил сам не свой от счастья. И все же не мог по-настоящему проникнуться ни радостью, ни торжеством, поверить – еще вчера казавшееся мечтой свершилось! Весть, сама по себе приятная, долгожданная, своей внезапностью отвлекла его от сплочения революционных сил Америки в единую партию. Радость подтачивала мысль: «Это уже придется сделать кому-то другому».
Он нередко говорил себе: ах, если можно было бы вернуться в Латвию, если бы не нужно было прозябать в Америке! И вот открылся путь на родину. В своем письме из Латвии Петерс рассказывал о жизни в освобожденной Видземе, звал его на работу в редакцию «Цини».
В Ригу, непременно в Ригу, думал Эдуард, но время шло, возникали какие-то препятствия. Вот подготовлю эту конференцию – и уж тогда… Еще только свести счеты с раскольниками из Массачусетса и – прощай, Америка! Уже имелся план возвращения. В Атлантике немецкие подводные лодки немилосердно топили суда, кроме того, в портах Восточного побережья полиция задерживала всякого, заподозренного в намерении отправиться в Россию. Ну что ж, он с Западного побережья псрессчет Тихий океан, доберется до Шанхая. А дальше – поездом через Сибирь.
Эдуард даже назначил день отъезда в Сан-Франциско и опять остался. И тогда до него дошло: не дела, неулаженные, незавершенные, стоят поперек дороги, а нечто более существенное, что он чувствовал лишь приблизительно и выразить в словах пока был не в состоянии. Что он выдумывает про подводные лодки и полицию – право, смешно! Как будто жизнь его когда-то обходилась без риска, опасности. И супружество с Эмануэлой не смогло бы удержать его в Америке лишний час. По правде сказать, они давно жили как разведенные. Эмануэла была верна ему и преданна. Эдуард не сомневался: представься случай – она бы и жизнь за него отдала. И все же мало-помалу они отдалялись. Уже не трогали, как раньше, ее вкрадчивая нежность и влажный блеск глаз. Эдуард так и не смог разобраться, что происходит в ее красивой головке. Иной раз ему казалось, вот сейчас из-под подушки выхватит нож и зарежет его – из любви, безумной страсти или по какой-то иной, неведомой ему причине… Нет, то, что действительно мешало уехать, коренилось в его вэягальской натуре: упрямстве, самолюбии, нежелании все бросить на произвол судьбы, тщеславии и, если угодно, гордыне.