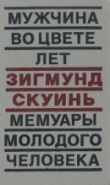Текст книги "Кровать с золотой ножкой"
Автор книги: Зигмунд Скуинь
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 23 страниц)
– И вот я смотрю на тебя и думаю: ты-то сам как смотришь на свое житье в Англии? Живешь ли с мыслью о возвращении или без нее обходишься?
Индрикис рассеянно чертил пальцем по столешнице, затем раз-другой откашлялся.
– Все это чем-то похоже на кино, – с мрачной усмешкой заметил Индрикис, не меняя озабоченного выражения лица. – А в жизни все далеко не так просто. В России тебя удерживала собственность, и, пока она была твоя, никакой нужды в своих у тебя не было. О своих ты вспомнила, когда добро пошло прахом. И, отправляясь к своим, ты опять же знала: там тебя ожидает собственность.
– Наш Особняк в Зунте я с собой в могилу не унесу. Золото Ноаса до сих пор не найдено, но рано или поздно и оно отыщется. Ты будешь единственным наследником.
На пожелтевшем, морщинистом лице Индрикиса промелькнула снисходительная улыбка. И опять это был тот момент, когда Индрикис ей показался старым, уставшим, измученным. И быть может, потому Леонтина ощутила в груди щемящую нежность совсем как в детстве, пока на рождественской елке догорали последние свечки, пока еще было тепло и душисто от воспоминаний, но тускнели светлячки пламени, и все последующее нетрудно было угадать. «Надо объясниться начистоту, – подстегивала она себя, – годы бегут немыслимо быстро. Ах, жизнь…» Снисходительная улыбка Индрикиса, своеобразный знак его сыновьей любви, еще больше отогрела душу Леонтины, хотя она прекрасно поняла скрытый смысл этой улыбки.
– Ты не веришь?
Индрикис оцепенелым взглядом смотрел себе под ноги.
– Поздно, maman. Я свой век уже прожил дважды. Один раз там, в Зунте, второй здесь, на чужбине.
– Останься ты тогда дома…
– Как знать, что лучше.
– Здесь ни у кого о вас сердце не болит.
– Как знать, как знать, – твердил свое Индрикис. – Нерешенные задачи всегда сложны, лишь решенные просты.
– Что ты имеешь в виду? – в голосе Леонтины прорезались жесткие нотки.
– Сказать по правде, я себя чувствую чем-то вроде часового маятника. А скажи – с какой стороны настоящее место маятника?
– Не болтай ерунды! Не будет наследника, наследство пропадет.
– Прежде всего, maman, наследство еще следует найти. Только на меня в этих поисках не рассчитывай. Ты-то еще не оставила надежду?
– Я? Оставила надежду? – У Леонтины от волнения пресеклось дыхание. – И никогда не оставлю!
Отведенный на поездку срок, как-то незаметно отмотавшись, подходил к концу. Уже Индрикис в конторе Кука закомпостировал билет в обратную дорогу. Сидя у телевизора, Леонтина с особым вниманием прислушивалась к сообщениям о погоде – не штормит ли в проливе Ла-Манш? О расставании вслух не говорилось, однако мысли были прикованы к нему. По вечерам, когда другие уже спали, Индрикис и Леонтнна из просторной столовой перебирались на кухню, где, попивая чай с разными сладостями, до полуночи вели разговоры – вспоминали прожитые годы в России, торговую эпопею в Зунте. Леонтину интересовала жизнь Индрикиса в Швеции и Англии. Не раз порывалась она спросить сына, известно ли ему что-либо о судьбе дочери Велты, да все не хватало решимости. Индрикис выспрашивал о родных и знакомых в послевоенном Зунте, вновь и вновь мысли его возвращались к Нании, эти потайные ходы Леонтина угадывала почти за каждым вопросом Индрикиса. Бывали моменты, они вообще ни о чем не говорили; по правде сказать, от разговоров давно устали и языки, и сердце, а вроде ничего еще не было сказано.
Чуть ли не каждый второй день Индрикис придумывал поездки в супермаркет, чтобы подарить Леонтине то мягкую шаль, то теплую кофту. И в этом сказывалась близость расставания – Индрикис пытался мрачное настроение развеять различными экспромтами в доступной ему душевной гамме. Леонтина возражала: ты что, хочешь, чтобы я возвращалась в товарном вагоне? Со сколькими ношами приехала, со столькими уеду.
Последнюю ночь провели почти без сна. Леонтина ворочалась с боку на бок, то матрас казался жестким, то, наоборот, подушка слишком мягкой. Когда часы пробили четыре, Леонтина почувствовала головную боль. Пришлось подняться, шкафчик с лекарствами находился на кухне. В коридоре горел свет. Индрикис, как выяснилось, был на кухне. Пил воду.
– Опять сердце?
– Э, ерунда! – Он был явно не в духе. – Видать, к перемене погоды;
С утра Леонтина сразу оделась по-дорожному. Индрикис выкатил из гаража машину. Прощальный завтрак на застеленном скатертью столе, с льняными салфетками и при горящих свечах Мирдза давала в столовой. Карлис был уже в колледже, его подарок Леонтине лежал рядом с ее тарелкой – цветная семейная фотография в пластмассовой рамке. Лиана увивалась вокруг Леонтины. Мирдза нервничала, у нее подгорели тосты, на кухне дым стоял столбом. В конце завтрака Индрикис хлопнул в потолок пробкой французского шампанского; подняли бокалы с пожеланием доброго пути и скорой новой встречи. Голоса звучали звонко и весело, однако все утирали слезы. Так никто и не допил своих бокалов. Разговор перекинулся на практические мелочи: как бы чего не забыть, что еще может пригодиться в дороге до Лондона.
Наконец Леонтина села в машину, а Индрикис с шумом захлопнул крышку багажника. Мирдза с Лианой стояли перед разукрашенной цветами дверью и махали на прощанье. Индрикис обошел машину, уж было взялся за ручку передней дверцы. И вдруг застыл, окаменев лицом. Это заметили все: и Леонтина, и Мирдза, и Лиана. Похоже было на то, как если б ему в голову пришла неожиданная мысль или он усиленно пытался что-то вспомнить.
– Уж вы не мешкайте, – моргая мокрыми от слез глазами, забеспокоилась Мирдза. – Утро туманное, лучше пораньше приехать на вокзал.
– Подожди! – как-то странно выдохнул Индрикис и, сгорбившись, поспешил обратно в дом.
Прошло мгновенье, прошло довольно много времени. В одном платье вышедшая Мирдза зябко поеживалась на пороге. Не выдержала, побежала проведать, куда девался Индрикис.
Дверь туалетной комнаты, к счастью, оказалась не закрытой на задвижку. Он лежал, навалившись грудью на край ванны. Недаром Мирдза была медсестрой, сразу оценила обстановку: Индрикис умер. Одна половина лица у него была синевато-белая, другая синевато-красная.
Несмотря на тяжесть свалившегося горя и присущую ей хаотичность, Мирдза проявила достаточно хладнокровия и расторопности. В течение получаса был вызван коронер {23}23
Сотрудник уголовной полиции в Англии и США, устанавливающий причину смерти.
[Закрыть] и агент по страхованию для закрытия полиса, созвонились с конторой Кука и отказались от билета, сообщили Карлису в колледж о случившемся.
Обмывать и обряжать Индрикиса Леонтина вызвалась сама, да оказалось, она свои силы мерила былыми мерками. Облаченного в темный костюм Индрикиса в просторной столовой уложили на кожаный диван. Засветили свечи в тех же подсвечниках, что поутру украшали отъезд Леонтины. Раскрытые окна совсем выстудили и без того холодный дом. Леонтина сидела подле Индрикиса, надев на себя всю одежду, какая нашлась, и все равно ее пробирала дрожь. Когда стемнело, Лиана попросила во всех комнатах зажечь свет, иначе ей казалось, что отец расхаживает по дому.
На следующий день с утра Мирдза принялась улаживать похоронные дела, и слуха Леонтины коснулось слово «крематорий». Этого было достаточно, чтобы Леонтина бесповоротно осознала, что Индрикис, боль ее души и вечная сладость, в самом деле умер. Ей в голову не приходило, что Индрикиса могут сжечь. Ей казалось, его зароют в землю, как это принято в Латвии. Но сжечь! Бросить в пламя, словно шишку или полено.
Она принялась дотошно расспрашивать: сжигают ли в одежде или без, много ли остается праха и что потом с ним происходит. Когда Леонтина узнала, что погребальная урна размерами не велика, ее слегка ошалевшие глаза загорелись от волнения. Уж если она оказалась не в состоянии помочь живому Индрикису, представляется возможность помочь ему сейчас. В прахе нет души человека, но в нем какая-то частица человека. Лишь язычники считают, будто прах человека ничего не значит. Индрикис уже не сможет вернуться в Зунте, но он может вернуться в то Зунте, куда и ей самой настанет вскоре срок отправиться.
– Нет-нет, ни на какое Бруквудское кладбище звонить вам нет необходимости, – объявила она. – Индрикис поедет домой.
Мирдза энергично возражала, но Леонтина стояла на своем. Даже пригрозила, что в противном случае останется у них до своей смерти. Карлис принял сторону Леонтины, и это решило вопрос.
– Пусть бабушка увезет с собой прах па, о чем тут говорить. Не все ли равно, на каком кладбище он будет похоронен.
Неделю спустя после кремации Леонтина отправилась обратно. И в самом деле, багажа при ней не прибавилось. Урна с прахом Индрикиса внешне выглядела небольшим аккуратным чемоданчиком.
18
В том году, когда в центре старой Риги открыли памятник красным латышским стрелкам, старший из сыновей-близнецов Петериса Вэягала – скульптор Имант – получил заказ сделать бронзовый памятник своему выдающемуся родственнику Эдуарду Вэягалу с тем, чтобы он был установлен в его родном Зунте. Тогда и обнаружилась поразительная вещь: об Эдуарде почти ничего не было известно. Имант Вэягал в общем-то это предчувствовал, а потому и не думал отступать. Напротив, неопределенность подогрела интерес. Поскольку творческой фантазии легче дышалось на вольном просторе, чем в заданной тесноте, он, пожалуй, даже обрадовался, предвкушая возможность преодолеть неизвестность по наведенному из подручных материалов действительности и воображения мосту, вместо того чтобы задыхаться в перегруженном фактами трамвае, бегущем по заранее известному маршруту.
Опорные точки для разбега фантазии все же были необходимы. В Зунте не нашлось ни единого человека, кто бы близко знал Эдуарда или сохранил в памяти его внешний облик. Услыхав от Скайдрите Вэягал о митинге 1905 года в церкви, Имант попытался пойти по этому следу, но даже те, кому довелось присутствовать на митинге, помнили только аптекаря. Это вполне совпадало с версией Скайдрите, изложенной ею по воспоминаниям пастора Эбервальда: в митинге Эдуард участвовал за кадром; он в ризнице приглядывал за пастором.
Паулис смутно помнил разговор с появившимся во дворе Крепости «чужим дядей», однако никаких подробностей сообщить не смог, – уж слишком велика оказалась дистанция лет.
– Сдается, у него была знатная бородища, – прикрыв глаза, старался вспомнить Паулис. – Это я вам говорю! В ту пору, как и в наше время, молодые люди ходили обросшие волосами. А если не носили бороды, то усы уж точно.
Утверждения Паулиса были близки к истине. Относительно прошлого это подтверждалось всеми имевшимися фотографиями зунтян революционного периода. В нынешней фазе – внешностью самого Иманта; борода и усы столь колоритно обрамляли его лицо, что он казался сродни широко известным скульптурным образам Карлиса Зале. И все же одной лишь бородой не оживишь лицо Эдуарда Вэягала.
Правда, в жандармском архиве отыскалась небольшая фотография Эдуарда, относившаяся ко времени его последней ссылки, но снимок был низкого качества, притом настолько пропитанный тюремным духом, что скорее являл Эдуарда таким, каким желали его видеть тюремщики, а не каким он был на самом деле.
В Риге, в других городах и весях Латвии еще можно было найти живых современников Эдуарда, принимавших участие и в великом митинговании на горе Гризинькалн, и в акциях боевиков. Все они утверждали, что отлично помнят Эдуарда, из рассказов их, однако, становилось ясно, что в потоке времени отдельным лицам свойственно сливаться в некие обобщенные собирательные образы, как свойственно сливаться отдельным каплям воды. Эти люди приносили фотографии, пестревшие множеством лиц, и говорили – здесь он непременно должен быть, да попробуй теперь угадай который. Зато рассказы их о прошлом бывали ярки и обстоятельны.
В свое время гельсингфорсские и лондонские газеты публиковали красочные отчеты о революционных боях, нередко подкрепляя их картами и схемами. При желании можно было познакомиться и с революционной деятельностью латышских эмигрантов в Америке, в библиотеках об этом имелось немало воспоминаний, даже научных исследований. В разгар туристического сезона в Ригу чуть ли не ежегодно наезжал кто-нибудь из почтенных старолатышских ветеранов. Но и среди них не нашлось никого, кто бы смог придать внешности Эдуарда Вэягала хотя бы единую черточку, воссоздающую неповторимость человеческого облика.
Совершенно неожиданно отыскались письма Элзы Пенгерот, писавшей сестре в Ригу из тюрьмы вскоре после событий в Гельсингфорсе. Эти письма, сами по себе выдающиеся документы той эпохи, служили косвенным дополнением к биографии Эдуарда. И что интересно: они раскрыли то, чего сам Эдуард не узнал до конца своих дней. Драма Элзы оказалась глубже, чём он мог предположить, своей жертвой Элза ничего не добилась, ничего не поправила. Вскоре после ее добровольной явки в полицию выяснилось, что Элза ждет ребенка от Эдуарда. Как следовало из сообщения полицейского чиновника города Тобольска – оно было приложено к письмам, – при родах, в малоподходящих условиях ссылки, Элза скончалась. О судьбе ребенка ничего не говорилось.
Пока Имант Вэягал при содействии Скайдрите Вэягал шел по следу Эдуарда, стало известно, что из Риги в Мундосу направляется туристическая группа. Иманту трижды повезло. Во-первых, потому что его включили в группу. Во-вторых, потому что у точильщика ножей Петериса на сберкнижке оказалась лишняя тысяча рублей в добавление к тому, что удалось наскрести его непрактичному сыну. И, в-третьих, повезло потому, что руководительница группы, женщина интеллигентная, с пониманием отнеслась к его пожеланиям в частности и к скульптурному искусству вообще. По прибытии в Суарес она попросила туристическую фирму немного изменить программу, включив в маршрут места, связанные с пребыванием Эдуарда.
О том, что в Мундосе ему предстоит погружение в прошлое, Имант нисколько не сомневался, только не представлял, каким образом это случится. Первые два дня практически были потеряны. На третий день пребывания группу принимали левые профсоюзные деятели. Имя Эдуарда Родригеса никаких эмоций у них не вызвало, но один из лидеров, человек пожилой, припомнил, что в свое время его друг Хесус Нико незадолго до своего побега на Ямайку, где вскоре произошло объединение демократически настроенной оппозиции, несколько недель скрывался у какого-то иностранца в лавке сувениров, неподалеку от церкви Санхуана Марии Вианнейи. Если ему не изменяла память, тот иностранец выдавал себя за Родригеса. Высокий, представительный, седовласый и степенный деятель после приема вызвался Иманту показать этот тихий уголок Суареса. Предположение показалось заманчивым, к бывшему местожительству Эдуарда Вэягала отправились всей группой.
В каком именно доме помешалась лавка сувениров, выяснить не удалось. Семнадцатого или восемнадцатого века постройки из пористого розовато-бурого туфа были очень похожи; снаружи окна закрывались почерневшими от времени дубовыми ставнями. Был час заката. Каленым блеском горели церковные колокольни. За старыми домами многоступенчатым барьером вздымались современные небоскребы, как бы преграждая древнему Суаресу выход в океан. Время от времени тихо позванивал колокол. У колодца, вытянув ноги, широким сомбреро застя половину туловища, дремал человек. «Должно быть, и тогда все выглядело так же», – подумал Имант. Щемила легкая печаль, но к пониманию Эдуарда Вэягала ему ни на шаг не удалось приблизиться. Казалось, и в Риге, и в Зунте, и здесь, в Суаресе, он смотрел фильм о человеке-невидимке. Шум шагов то ближе, то дальше. Он вытянул руки – раздался задорный мужественный смех. А площадь была пустынна…
*
Узнав, что Эдуардо Родригес проходил по делу об убийстве Антимессии, его седовласый знакомец на следующий день утром привез папку с газетными вырезками о сенсационном процессе. Хотя в ней оказалась добрая сотня фотодокументов – и кабинеты предварительного следствия, и зал суда, и тюремная камера, – не нашлось ни единого снимка, где бы Эдуард был четко снят в профиль или анфас. Затылок, спина, половина лица – это все, что удавалось поймать в кадр. Закрадывалось даже подозрение, что Эдуард обладал каким-то особым чутьем, позволявшим ему заблаговременно почувствовать обращенный на него объектив и занять самую невыгодную (самую выгодную?) позицию. Эту сноровку Эдуарда, испортившего столько задуманных композиций, очевидно, почувствовали и трудяги фоторепортеры – на завершающей стадии процесса Эдуарда почти не снимали.
Но все можно было объяснить иначе. Эдуард был неудобным подсудимым. Доказать его вину не удалось, а в своих показаниях и добавлениях он почти всегда из обвиняемого превращался в обвинителя. Остроумно, убедительно, едко изобличал он некомпетентность судей, ханжество прокурора, недемократичность процесса в целом.
В селенье, где когда-то жила Мария Эстере, группа сделала короткую остановку по дороге в древний город Тутманчапану, расположенный в северной гористой части Мундосы. Когда блистающий хромом огромный туристический автобус, распугав индюков и собак, протиснулся на базарную площадь селенья, шел дождь, по тем местам явление довольно необычное. Дети с ликующими криками шлепали по красным глинистым лужам, суетились женщины с различными посудинами.
Староста селенья был примерно одного возраста с Имантом. С гордостью сообщил, что он левый социалист, и вообще был очень доброжелателен. Марии Эстере, как и следовало ожидать, уже не было в живых. Двое из ее сыновей тоже умерли, третий как будто проживал во Флориде. Об Эдуардо Родригесе староста ничего не знал. Он с интересом выслушал рассказ Иманта.
– Нет, сеньор, о таком человеке мне ничего не известно, – повторял он, дружелюбно поглядывая на Иманта. – Но я могу сказать, что ни один удар по диктатуре не был напрасным. Прежде мы имели право говорить только «да», теперь мы можем говорить и «нет».
Он спросил, не желает ли Имант побывать на могиле Марии Эстере. Предложение было сделано от чистого сердца, но посещение могилы этой славной женщины ничем не могло помочь Иманту.
– Спасибо, – сказал он, – быть может, в другой раз.
– Да, – согласился староста, – и погода для этого не слишком подходящая, у нас редко идут дожди.
До самой Тутманчапапы автобус упорно взбирался по извивам горной дороги. Таинственный город, о котором почти не сохранилось преданий, произвел неизгладимое впечатление. Стены безо всякого скрепляющего раствора были сложены из гигантских, немыслимой тяжести тесаных камней. Как оказалось возможным сделать такое, по сей день никто не может сказать. Как не может никго сказать, кто это все построил. Тех людей уже нет, остались только плоды их труда.
Среди голых стен печально посвистывал ветер. Высоко-высоко, в блистающей синеве безоблачного неба, на недвижных крыльях выписывал круги горный орел, завороженный волшебством эллипсов своей скользящей тени. На стыках стершихся плит мостовой, не подверженные страстям эпохи, ползали муравьи.
«Ах, если бы такое случалось лишь с построенными городами», – подумал Имант Вэягал.
Полученные газетные вырезки он благополучно привез в Ригу и передал их Скайдрите; они и помогли воскресить деятельность Эдуарда Вэягала на далеком континенте.
Оставалась последняя надежда: продолжить поиски в Москве. Московское местожительство Эдуарда удалось установить по старым спискам читателей Центральной библиотеки.
Переночевав в «Золотом колосе», огромной туристической казарме, Имант ранним утром отправился по добытому адресу. При виде помпезного дома в центре Москвы с нарочито грубой облицовкой из гранита и золочеными излишествами по фасаду, Имант тотчас сообразил, что Эдуард, не мог иметь ничего общего с подобным домом. Но разочарование оказалось преждевременным. По обычаю предвоенного строительства старый трехэтажный каменный дом ломать не стали, а передвинули его на задворки нового роскошного здания. Старый дом не раз перекрашивался, в остальном же сохранил свой первобытный облик. Во дворе тишь и гладь, словно это был не центр большого города, а сонное предместье. В углу двора, в окружении разросшегося кустарника примостилась пестревшая деревянной резьбой беседка, как будто занесенная сюда из Кинешмы или Саратова. Каштан осыпался глянцевито-коричневыми орехами. На обложенных кирпичами клумбах георгины клонили свои уже прихваченные первыми утренниками разноцветные головки. Босоногие мальчишки на траве почему-то затеяли игру в хоккей. Женщина развешивала на веревке белье, старик прогуливал собачонку.
Из расспросов Иманту удалось узнать, что во время войны здание действительно служило общежитием, за подробностями ему посоветовали обратиться к Вере Исидоровне, в ту пору работавшей здесь комендантом или кем-то еще. Старики были любезны, словоохотливы. Прошло совсем немного времени, а он успел уже узнать об их житейских перипетиях и о том, в каком порядке суровые зимы чередуются с мягкими и что за птицы бегают по стволу дерева вниз головой. Иманта охотно провели по этажам, он даже побывал в нескольких квартирах, в подвале, на чердаке и еще в одном крохотном дворике, куда можно было попасть, протиснувшись между глухой стеной дома и блоком металлических гаражей. А вот Веру Исидоровну не удавалось отыскать.
Иманта это нисколько не удивило. Он уже привык к тому, что идти по следу Эдуарда Вэягала занятие не из легких – на каждом шагу подстерегают неудачи.
И все же Вера Исидоровна отыскалась. По рассказам соседей Имант вообразил ее несколько иной. Вера Исидоровна не вписывалась в этот двор, и к ней совсем не шли ни резная беседка, ни обложенная кирпичами клумба. Она была в черном пальто, в шляпке с узкими полями, с хрупким, старомодным зонтиком в руке. Простая, самобытная, по-своему даже элегантная. Если допустить, что одежда и всякие побочные аксессуары способны сохраниться шестьдесят лет, по ней можно было представить себе женщину той поры, когда мадам Кики Шанель являла миру свои первые модели одежды. Вера Исидоровна села на скамейку, очень прямая, с высоко поднятой головой. В лучах солнца, пробивавшихся сквозь поредевшую листву каштана, серебрились седые волосы.
– Эдуарда Ноасовича я помню, – сказала она, с ощутимым усилием вдыхая изумительный воздух бабьего лета, может, от быстрой ходьбы, а может, от затронутых воспоминаний. – Как он выглядел? Как и положено выглядеть мужчине. Был немного похож на Роберта Эйдемана, немного на Якаба Алксниса.
Никакого словоизлияния, никакой пустопорожней болтовни: закончив фразу, она умолкала и сидела с отсутствующим выражением на лице.
– Как он оказался в этом доме?
– Он вернулся из-за границы. У нас обычно селились возвращавшиеся из-за границы товарищи.
– У него была отдельная квартира? – спросил Имант, понимая, что уводит разговор в сторону.
– Нет, комната. Большая, удобная… Это было зимой в первый год войны, очень суровой зимы. – Она потерла свои тонкие ладошки, как если бы сидела у огня, и бросила на него взгляд, означавший, что эта зима частенько ей вспоминается. – Отопление работало неисправно, температура в помещениях до того понизилась, что при дыхании клубился пар. Эдуард Ноасович почти не выходил из комнаты. Сидел в пальто на табуретке посреди комнаты, покашливал и листал книжки.
– Вы хотите сказать – читал.
– Нет. – Вера Исидоровна продолжала потирать ладони. – Перелистывал книги быстро-быстро. От начала до конца. Будто искал в них чего-то. Что-то хотел проверить или уточнить.
– А что это были за книги?
– По-моему, классики. Великие теоретики: Маркс, Ленин, Плеханов. О целях и задачах революции.
– И что же, он листал их с утра до вечера?
– Нет. Иной раз не листал. Просто сидел, одной рукой придерживая наброшенное на плечи пальто. На другой руке у него была узорчатая рукавица. У Алксниса тоже были такие рукавицы. Однажды я спросила Эдуарда Ноасовича, а где вторая рукавица. Он ответил: «Где-то затерялась. Столько пройдено, столько изъезжено». Больше я о нем ничего не знаю. Прошу прощения.
Имант Вэягал смотрел в глаза старой женщины, необычно живые, с годами ничуть не поблекшие, и совершенно отчетливо видел все, о чем она рассказала: большую комнату с обледенелыми окнами, Эдуарда, сидящего на табуретке, его холодное дыхание, наброшенное на плечи пальто. Но главное – единственную рукавицу, которая нашлась среди немногих сохранившихся вещей, рукавицу, которая в тяжкую пору согревала его коченеющие пальцы.
Имант вернулся в Ригу в том неукротимом творческом порыве и томлении, когда не терпится скорее взяться за работу. Оставался один выход: побороть трудности замысла упорством прилагаемых усилий, исподволь вжиться в создаваемый образ. Теперь он знал, каким должен быть этот образ.
До конца года Имант Вэягал закончил скульптуру в глине и отлил ее в гипсе. Гипсовую модель отвез в литейный цех, где ее должны были отлить в бронзе. Но это уже было учреждение, считавшееся с нетерпением авторов не более, чем лошадь считается с аппетитом воробьев. Литейный цех всецело жил такими понятиями, как план, очередность заказов, проблемы транспортировки, наличие и отсутствие материалов. Прошел первый квартал, прошел второй. Ожидая, когда скульптура высвободится из тисков формы, всяких предварительных скорлупок и коконов, Имант нервничал как никогда. Безо всякой надобности ездил в литейный цех – вроде бы о стержнях договориться, еще раз о сплавах условиться, на самом деле лишь затем, чтобы потолкаться поблизости. Дело было сделано, оставалось отвоевавшему пространство образу превозмочь силу гравитации материала.
Памятник открывали поздней осенью в парке новой средней школы Зунте. Лил дождь, день выдался на редкость неуютным. Насквозь промокшее полотнище в нужный момент не пожелало сползти с памятника. Когда же полотнище сдернули силой, кружившийся в воздухе красный лист, сначала коснувшись древка флага, затем зонтика Леонтины, наконец припечатался к бронзовому лбу Эдуарда Вэягала. Имант, особенно не раздумывая, заботясь об одном – освободить скульптуру от всего лишнего, снял прилипший лист. Немного погодя, однако, ко лбу приклеился второй лист, краснее прежнего. Только тут Имант обратил внимание, что памятник стоит под промокшим в затяжном дожде кленом, сыплющим красной листвой.
Виестур Вэягал на открытие привез из Крепости всех домочадцев – старого, изрядно сдавшего Паулиса, все еще резвую Нанию, свою жену Валию и, само собой разумеется, маленькую Солвиту. Три старших девочки на открытии присутствовали вместе с другими школьниками.
– Папа, а кто такой Эдуард Вэягал? – Позднее, когда уже были сказаны речи, отзвенели песни и трубы, Солвита, как обычно, захотела обо всем узнать.
– Его уже нет. Он был
– А кем он был?
– Выдающимся человеком.
– Еще более выдающимся, чем дедушка Паулис?
– На это так сразу не ответишь.
– А дедушке тоже поставят памятник?
– Памятники редко кому ставят.
– А за что?
– Тем, кто сражался и пал смертью храбрых.
– И Эдуард сражался?
– Да.
– И пал смертью храбрых?
– В известной мере.
– Почему «в известной мере»?
– О том тебе расскажут в школе.
– А кто более выдающийся – кто пал смертью храбрых или работал?
– Солвита, не болтай ерунды!
– Хорошо, не буду… Пап, а он под этим памятником похоронен?
– Нет, никто не знает, где его могила.
– Почему же тогда памятник поставили здесь?
– Потому что здесь его родина.
– А что он выдающийся, точно известно?
– Да, известно.
– Все-таки насколько выдающийся?
– Ну, настолько… Чтобы помнить о нем!
– И у всех выдающихся есть памятники?
– Да.
– А где? Там, где они похоронены?
– Солвита, опять ты…
– Нет, просто хочу знать, есть ли у них памятники?
– Есть. Пожалуй, есть.
– Там, где они похоронены?
– На родине.
Последующее лето надолго отложилось в памяти зунтян как лето суровое, или лето ярого громового раската, после которого Паулис Вэягал прямо с крыши Крепости ушел к праотцам. С тех пор как красавца цыгана по кличке Кобелек смерть застигла на телеге в объятьях с хозяйкой хутора «Робежниеки», зунтяне не могли пожаловаться на однообразие ухода в мир иной своих земляков. Однако умереть на крыше дома, как это случилось с Паулисом, никому еще не доводилось. Событие было чрезвычайным; из ряда вон выходящим, и зунтяне объясняли это необычным расположением планет и обилием пятен на Солнце. В самом деле о таком случае, чтобы молния одновременно шибанула в пять деревьев, прежде слышать не приходилось.
Да и вообще в последнее время с миром творилось что-то неладное. В Африке у негров снег валил, у эскимосов на Аляске под Новый год произошло такое потепление, что реки вздулись, начался ледоход. К Земле приближалось сразу несколько комет; одна из них летела прямо на планету и лишь в последний момент чуть отклонилась в сторону. Будто в подтверждение стародавних поверий, что кометы не к добру, и международные горизонты, под стать летнему небу над Зунте, были наэлектризованы.
Уж кто-кто, а Паулис это доподлинно знал. После того как ноги ослабели, приходилось больше по дому обретаться, появилась возможность почаще посидеть у телевизора. Сказать по правде, мужская половина зунтян делилась на две большие подгруппы – хоккеистов и министров иностранных дел. Нания так и говорила: «Моего Паулиса сейчас не тронь, он на переговорах с Вулфсоном». Или: «Мой-то Паулис опять в Белом доме заседает». Не все международные новости зунтяне черпали из телеящика. И свои люди по белому свету ездили, кое-что сами видели. Новые законы о квотах лова несколько притормозили промысел, тем не менее рыболовецким судам зунтян случалось заходить во многие порты. А потом еще и турпоездки. Совсем недавно колхозное руководство всех подряд выспрашивало, не желает ли кто в Бангладеш прокатиться и нет ли кандидата для поездки на Мадагаскар?
Годы не внесли беспорядка в голову Паулиса, но в одном он повторял своего отца Августа: Паулис тоже любил вспомнить давние события и вслух потолковать с друзьями своей юности. Особенно часто тем летом общался он с Янкой Стуритисом, который как ушел в стрелки, так будто в воду канул. Кое-кто утверждал, что после первой мировой войны его видели в России, но в Зунте он не вернулся и писем не присылал.
Тем утром Виестур сказал за завтраком Нании, что вместо ушедшего на пенсию Скроманиса пришел к ним новый агроном по фамилии Стуритис. Паулис пожелал узнать имя нового агронома, Виестур ответил, что в точности не знает, но думает, что Янис. Стало быть, Янис Стуритис и есть, объявил Паулис, сделавшись совсем странным. Лицом не худощав ли, с таким заостренным носом? Виестур, ухмыльнур шись, ответил, что нос у нового агронома пока еще острый, однако жизнь довольно скоро притупляет любые носы.
Виестур этот разговор, разумеется, тут же выбросил из головы, сел в свой газик, выжал педали, заодно Валию подкинул на прополку моркови, а Солвиту в детский сад. И был немного удивлен, когда часом позже встретил в конторе Паулиса. Такой принаряженный – в коротковатых джинсах отечественного производства, в белой сувенирной кепочке из Эстонии. Паулис отшучивался, у него, дескать, свидание с пригожими конторскими девчонками, но сразу было видно, что-то он в душе затаил. Позже, уже по второму разу повстречавшись с сыном, объявил без обиняков: хочет видеть Янку Стуритиса.