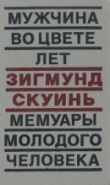Текст книги "Кровать с золотой ножкой"
Автор книги: Зигмунд Скуинь
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 23 страниц)
Никаких борений относительно того, как ей поступить, Элвире испытать не пришлось. Она прекрасно понимала, что Индрикис не был ни жертвой, ни страдальцем. Получил по заслугам за свою распущенность. На этот счет Элвира успела изжить иллюзии. А какие мерзкие слова произносил он в полубреду, в полусознании! И скомканные деньги, из кармана выпавшие, пока снимала с него пиджак, он конечно же стащил из магазина. Что Индрикис тайком берет из кассы деньги, Элвира знала давно.
И все же Индрикис оставался Индрикисом. Чувства вынуждали все безропотно скрывать, тем самым превращая ее в соучастницу. Наперекор логике, что в общем для любви типично, по наивности, от которой она все еще не могла избавиться, смирившись со своей несчастной долей, именно такой Индрикис вызывал в ней еще большее умиление. Тревожные сигналы подсознания «Индрикису требуется помощь», «Индрикиса нужно спасать» переполняли душу радостью. Прикусив губу, чтобы заглушить рыдания, она сидела на полу у кровати, робко поглаживая набриолиненные волосы Индрикиса, казавшиеся ей ангельски нежными.
Под утро Индрикис проснулся, сбросил со лба влажное полотенце и был немало удивлен, увидев на полу рядом с кроватью Элвиру. Та подавала знаки, чтобы он не шумел, но Индрикис, схватив ее за руку, силой затащил в постель. И сделал это, между прочим, без определенного умысла, все еще находясь в пьяном угаре. Однако упирательства Элвиры ему подсказали, что рядом с ним женское тело. В последовавшем единоборстве у Индрикиса по сравнению с Элвирой оказалось больше преимуществ – он не любил ее, не испытывал к ней никакого уважения, не говоря о нежности. Обретенный опыт вселял в него уверенность. Даже не пытаясь поцеловать Элвиру, Индрикис деловито и напористо рвался к желанному.
– Не надо!
– Почему?
– А потому. Я позову Леонтину.
– Ты что… дура? Хочешь, чтобы она пришла? Да ты и не пикнешь!
Элвира действительно не пикнула. Индрикис взял ее силой, грубо и больно. Она мало что поняла, до того разволновалась, растерялась. И лишь в самом конце на какой-то миг страх и злость отступили, и опять она очень любила Индрикиса. Он дрожащим ртом приник к ее губам и, отдуваясь, что-то нашептывал.
Оставшись одна, Элвира долго лежала с закрытыми глазами не двигаясь, боясь всколыхнуть подступавшее чувство гадливости. Единственный раз в жизни она испытала нечто подобное – в глубоком детстве, в чудесном сне на белых крыльях парила над тихим лесным озером, а потом проснулась в мокрой постели. От стыда и печали хотелось умереть. Стыдливостью пронизанный страх подстегивал скорей освободиться от всего, что напоминало о случившемся. Все превозмочь, преодолеть, забыть. Элвира поспешно встала, решительно сдернула с кровати простыню, сбросила с себя рубашку. Наполнив таз водой, на мгновенье задумалась, рука, скользнув по животу, застыла на весу.
С какой стати она решила, будто происшедшее на пути между нею и Индрикисом возводило преграду? Как раз наоборот! Теперь она принадлежит ему не только душой, но и телом. А Индрикис ей принадлежит. Не имеет значения, красиво то, что случилось, или нет. От этого никуда не деться, теперь они повязаны. «Может, у меня будет от него ребенок?» Мысль эта явилась в форме вопроса, но Элвира воочию увидела себя с набухшим животом.
Постояв в раздумье, она склонилась над тазом с водой. Но от волнения перед глазами поплыли радужные круги. Отвращение и стыд больше не мучили. Только странная жалость к себе бередила душу. Выходило, что, физически отдавшись Индрикису, она поступилась самым сокровенным, тем, что составляет бесспорную часть любви. Ну что же, часть все-таки лучше, чем ничего… Мокрыми пальцами Элвира смахнула с лица слезы. Она так и не поняла, отчего плачет – от счастья, горя или удивления, вызванного новым поворотом мысли.
Для Индрикиса происшедшее означало совершенно неожиданную победу в увлекательной игре половых влечений. Именно с этой точки зрения Индрикис смотрел на будущее: он проторил тропу и забывать ее не собирался. Если его отношение к Элвире в чем-то переменилось, это в основном выражалось в желании покуражиться, продемонстрировать свои новые права. При первом удобном случае где-нибудь в укромном уголке Индрикис хватал Элвиру, начинал ее тискать, беспардонную грубость сочетая с разнузданной вольностью. Предела его домогательства достигали в моменты, когда они находились под зыбким прикрытием – неподалеку от Леонтины или покупателей, где-то за открытой дверью или складскими стеллажами. Пользуясь полной беззащитностью Элвиры, боявшейся и звук подать, Индрикис иной раз доводил ее до полного изнеможения.
Столкнувшись с ценностями, о которых он не имел ни малейшего понятия, Индрикис без зазрения совести отдался прихотям обладания, тем самым во многом себя обкрадывая. Но было бы несправедливо рисовать Индрикиса лишь черной краской, изображать его садистом, недочеловеком. Чувственность, лишенная чувств, не столь уж редкое явление, особенно среди молодых мужчин. Индрикис не имел желания умышленно мучить Элвиру, еще меньше – унижать. Если бы кому-то пришло в голову его поступки разобрать с этой точки зрения, Индрикис, пожалуй, удивился бы. А в общем все было просто: ублажая себя, он начисто забывал об Элвире. Жизнь Индрикис воспринимал так, как она подавалась в прокручиваемых на экране авантюрных фильмах, которые он по-прежнему смотрел с увлечением и будет смотреть всю жизнь: на переднем плане всегда главный герой, остальные так, для фона, чтобы герою дать возможность погеройствовать. Другие катятся в пропасть, взлетают на воздух, их смывают в пучину громадные волны, и – поделом, судьба их никого не волнует. Лишь главный герой – чудо, святыня и пуп земли.
Элвиру умиляла привычка Индрикиса во всех своих неприятностях искать в ней опору. Разве не служило это своеобразным доказательством его привязанности? «Он без меня не может», – думала Элвира. Чуть ли не каждый день Индрикис у нее одалживал деньги, разумеется без отдачи. Опять же ее помощь требовалась, когда в каких-то утехах Индрикиса страдала выходная сорочка или у пиджака оказывалась вырвана пуговица. Элвира научилась подготавливать Леонтину к неприятным вестям, иной раз просто отвлекала ее внимание, чтобы Индрикис мог незамеченным выскочить из дома.
Бывали дни, недели, когда Индрикис сторонился, избегал ее. Элвира не допекала его упреками, не давала волю обидам. У нее находилось достаточно поводов, чтобы думать об Индрикисе, тревожиться о нем, ощущать свою общность с ним. Хотя бы отсчитывая странички календаря и с трепетом гадая – будет, не будет?.. Но вот урочное число благополучно миновало, страхи оказались напрасными. Ну и слава богу, слава богу!
Сердечные волнения стали для нее такими же насущными, как и нормальный пульс, – почему вдруг Индрикис от нее отдалился? Но кончались дни отверженности, Индрикис опять на нее набрасывался, как изголодавшийся пес, и все начиналось сначала.
В побочных его бегах случались романы и посерьезней. На какое-то время рассудок ему замутила служанка соседнего дома Велта; куцая, невзрачная пигалица на людях обычно появлялась, будто воды в рот набрав, боялась глаза поднять. Поначалу Индрикис не скрывал от Элвиры своих отношений с Велтой: «Знаешь, я вчера подвыпил и завалился к малышке», «Ох, доложу тебе, она та еще штучка, так меня обработала!» Заметив, как стекленели, тускнели огромные глаза Элвиры, Индрикис обиженно морщился. «А ты тоже, как погляжу, ненормальная, шуток не понимаешь!»
С того раза Индрикис о Велте ничего не рассказывал, но все говорило о том, что связь их продолжается. С вечера Индрикис исчезал, появляясь только под утро. В магазине его почти не видели, днем он отсыпался по темным углам. Наконец это заметила даже утратившая бдительность Леонтина. Как-то под утро, когда Элвира открыла магазин, а Индрикис домой еще не вернулся, он зачем-то понадобился Леонтине, и та, не достучавшись к нему, заглянула в комнату сына и, найдя ее пустой, пришла в ярость, достойную своих лучших лет.
– Послушай, Элвира, – воскликнула она, притопнув туфлей на высоком каблуке, – где Индрикис? Что с ним происходит?
– Откуда мне знать?
– Не вздумай пыль пускать в глаза. Ты о нем знаешь все.
– Ничего я не знаю.
– И плохо! Я-то надеялась, ты его сумеешь к дому привязать.
Элвира стояла ни жива ни мертва. Как это понимать? Что Леонтина знала об их отношениях с Индрикисом и признавала их? Или Леонтина взывала к ее родственным чувствам? Хотя между Элвирой и Леонтиной доверие было полное, этой темы они предусмотрительно избегали, и потому двусмысленная фраза Леонтины вывела Элвиру из равновесия. Ей захотелось с воплем отчаяния броситься на шею к Леонтине, излить наболевшее, затаенное, гнетущее. Быть может, Леонтина сумела бы ее понять, подать совет.
Но страх и на этот раз пересилил. После краткого боренья с прихлынувшей к лицу кровыо – краской, казалось, покрылись даже белки ее глаз, – Элвира окончательно взяла себя в руки. Впрочем, и Леонтина не выказала желания продолжить начатый разговор.
Вернувшийся домой Индрикис все наскоки Леонтины отбивал угрюмым молчанием. Отоспавшись и придя в себя, он сделался поразговорчивей, но при этом врал настолько беззастенчиво и глупо, что препираться с ним не имело смысла.
Когда поближе к весне люди сбросили лишнюю одежду, обнаружилось, что Велта забеременела. Вдова красильщика Зостыня, чей авторитет по части гинекологических сплетен был непререкаем, дала верную оценку – на пятом месяце.
В ближайшее воскресенье после богослужения Велта больше часа взад-вперед ходила мимо Особняка, недвусмысленно поглядывая на окно Индрикиса. В его комнате граммофон надрывался знаменитым шлягером из звукового фильма «Валенсия». Странные прогулки Велты продолжались и в последующие дни – с той только разницей, что теперь она поглядывала не на окна верхнего этажа, а на витрину магазина.
На четвертый день ее хождений, за несколько минут до закрытия магазина крошка Нания шепнула Леонтине на ухо, что «та женщина стоит во дворе и пялится».
– Какая еще женщина? – Леонтина изобразила на лице недоумение, чтобы хоть немного собраться с мыслями.
– Ну да Велта же!
Нанию по привычке называли крошкой, хотя ей уже было полных шестнадцать лет и в ней расцветала женственность.
– Тогда не мешкай, – жестко сказала Леонтина, снимая с себя крахмальный передник и взбивая прическу, – веди ее в гостиную. Будешь присутствовать при разговоре, в таких делах свидетель не помеха.
Мимоходом Леонтина кликнула Индрикиса.
Велта бочком втиснулась в гостиную и там же, у двери, осталась стоять, держа сцепленные руки на вспухшем животе. Глаза, как обычно, потупила, а в остальном покрывшееся бурыми пятнами лицо никаких чувств не выражало.
Молчание затянулось. Леонтина резким движением вскинула голову, услыхав, как звякнули ее золотые сережки.
– Барышня, я пригласила вас затем, чтобы поставить в известность, что своим упрямством вы ровным счетом ничего не добьетесь, другое дело, если проявите благоразумие. Подпишите бумагу, что у вас к Индрикису нет никаких претензий, и взамен получите деньги на корову. По крайней мере ребенок не будет страдать.
– К черту, я протестую! – взвился было Индрикис, поперхнувшись от волнения.
– Придержи язык и, пожалуйста, не встревай в разговор! – Взгляд Леонтины холодной искрой метнулся в сторону Индрикиса: – Peut etre се sera toi qui vas faire paitre la vache? {12}12
Или, быть может, ты пойдешь пасти эту корову? (фр.)
[Закрыть]
Молчание Велты Леонтина восприняла как согласие с предложенными ею условиями. И, уже не глядя на Велту, разыскала бумагу и письменные принадлежности, заодно вынула из буфета шкатулку красного дерева, в которой хранились деньги. Шкатулку эту в свое время Ноас приобрел в порту Акапулько вместе с талисманом против завистников на чужое добро зарящихся, – отрезанной бородой повешенного вора. Когда деньги были отсчитаны, Леонтина стала проявлять нетерпение:
– Забирайте свою корову и ступайте!
Взглянув на Велту, Леонтина поняла, как ошиблась. За пеленою слез глаза ее полыхнули гневом и яростью. Перед тем как выйти из гостиной, она вся затряслась, сжала в кулачки свои немыслимо побелевшие руки.
– Подавитесь своими деньгами! Вы еще упьетесь горем горше моего…
– Обо мне можете не беспокоиться. – Fumiste– rie! {13}13
Ложь, мистификация! (фр.)
[Закрыть]– обрубила Леонтина, величавым жестом захлопнув крышку шкатулки. Потом едва слышно обронила сквозь зубы: – Стерва…
Больше Велту в Зунте не видели. Элвира мучилась от угрызений совести, перемогая отвращение и любовь к Индрикису. Но выхода не видела. Индрикис опять к ней зачастил, прогнать его Элвира была уже не в силах. Одно время он много пил, потом остепенился. Даже спортом увлекся, три раза в неделю в городской команде «Рапид» играл в футбол. Как никогда заботился о своей наружности. Сбросил килограммов десять лишнего веса. Ходил в башмаках из крокодильей кожи на толстой подошве и клетчатых гольфах. Брюки из модного твида ниже колен застегивались на пуговку.
Как-то поутру, в сентябре, когда в школе начались занятия, под большим каштаном, осыпавшимся влажно блестящими орехами в зеленых колючих скорлупках, нашли младенца в плетеной ивовой корзинке. Леонтина, ни с кем не вступая в разговоры, закутанную в простынку девочку сразу же доставила в полицейский участок Калкаву.
– Прошу прощения, госпожа Вэягал, как, по вашему разумению, с этой крохой следует поступить?
– Поступайте как знаете, она в ваших руках. Отправьте в сиротский приют или сдайте в больницу.
– Такая милая девчушка… Неужели вам не жаль? При ваших-то средствах…
– Это к делу не относится! У каждого ребенка есть мать. У меня нет желания породниться с какой-нибудь потаскушкой!
Тем не менее Калкав не спешил увозить подкидыша, ссылаясь на различные формальности и приводя малоубедительные отговорки: мать, дескать, может объявиться, не исключено, тут какое-то недоразумение и прочая. И плетеная корзинка с девочкой стояла на письменном столе Калкава в полицейском участке. Обязанности няньки взяла на себя уборщица Матильда. Взглянуть на бедную сиротку повалили женщины со всех концов города, превратив полицейский участок одновременно в выставочный зал и в дискуссионный клуб.
На третий день под вечер, когда, несмотря на статьи и фотографии в газетах, мать ребенка не нашлась, а девочка все еще лежала в плетеной корзинке на столе полицейского участка, к Леонтине неожиданно пожаловал отец Янис, в последние годы слегка поседевший, но все еще стройный, представительный. Церковные увлечения у Леонтины были позади, однако визит Яниса стал событием чрезвычайным, чувства, разбуженные взглядом священника, были не только ностальгического свойства.
– Я бы хотел узнать, – начал отец Янис безо всяких предисловий, – это правда, что вы не желаете взять во дворе вашего дома найденную девочку?
Уже сама постановка вопроса была, несомненно, оскорбительна. И подразумеваемое обвинение было тем неприятней, что подобное непонимание в городе проявляли многие, Леонтине это было известно. Но уж если она что-то решила, противодействие извне лишь укрепляло ее в принятом решении.
– Да, – ответила, – это правда.
И собиралась еще добавить что-то резкое, уничижительное, но сообразила, что, смущенная взглядом Яниса, говорит совсем не то:
– …Она во мне вызывает недобрые чувства. Я никогда не смогу ее полюбить. А взять ребенка и не любить…
Отец Янис неспешно и раздумчиво кивнул головой. По его виду можно было заключить, что слов Леонтины он не одобряет, однако такой ответ его вполне устраивает.
– В таком случае, надо думать, вы не станете возражать, если о девочке позаботится православная церковь?
– Такая честь…
На другой день в Зунте появились две неопределенного возраста монашки и забрали девочку в Ригу. Ивовой корзинкой жена Калкава еще долго пользовалась, кстати, появляясь с ней и в магазине, а осенью ходила по грибы и ягоды. «Такая легонькая, и ручка удобная», – расхваливала жена Калкава свое приобретение.
Под рождество километрах в двадцати от Зунте лесорубы в чаще леса набрели на повесившуюся женщину. Вороны изрядно потрудились над трупом, да и время свое дело сделало. Лишь по лоскутьям нижнего белья (ни платья, ни обуви не обнаружили) бывшие хозяева высказали предположение, что это могла быть Велта. Полной уверенности не было. Официально Велта считалась без вести пропавшей. По общему мнению, она так или иначе из этого мира ушла, хотя и возникали временами различные слухи, заставлявшие в том усомниться. Так, рассказывали, будто кто-то видел Велту с цыганами в Курземе, другие будто бы встречали ее в обличье шикарной дамы с фальшивыми документами. А еще поговаривали, что она вышла замуж за подпольщика и вместе с ним тайно покинула Латвию. В последний раз имя Велты всплыло в годы оккупации в связи с жуткими историями о какой– то таинственной душнтельнице, но более злободневные события эти толки быстро загасили.
Совершенно точно известно то, что по завершении второй мировой войны дочь Велты оказалась на берегах Рейна. Ее дальнейшая судьба сложилась следующим образом. Детский приют под попечением монахинь она сменит на дом приемных, живущих в достатке родителей. Закончит университет в Бонне. На судебном процессе Баадер-Майнхоф она будет фигурировать как соучастница и связная, но ей удастся бежать из тюрьмы и потом придется скитаться по свету. В восьмидесятых годах она вернется в Западную Германию, примкнет к партии «зеленых» и станет одной из видных активисток движения против размещения в Европе «першингов» и крылатых ракет.
Переживания Элвиры все заметней отражались на ее облике и поведении. Ее былая, вся насквозь светящаяся кожа покрылась багровыми, точно от пощечины, пятнами. Громадные глаза впивались в человека исступленно и мрачно. Она сделалась малоподвижной, неразговорчивой, покупатели стали избегать ее. Хотя Элвира по инерции продолжала подкручивать патефон, ставить новые пластинки, вокруг нее сгустилось поле такого уныния, такого отчаяния, что ненароком оказавшиеся в магазине молодые люди торопились поскорее слинять, будто их кто-то за дверь выталкивал. Происшедшие с Элвирой перемены более других ощутил Индрикис, а потому теперь и реже с ней общался. «Шальная баба, совершенно несносная», – про себя поругивал он ее. А впрочем, все было куда сложней. В безудержной ее пылкости, безоглядной самоотдаче таился соблазн, и немалый. Как трудно, однако, было все это вынести. Самые прекрасные мгновения она умудрялась испортить своими причитаниями: «Я виновата, я погибла!» Осуждая себя, винила и его. Если не прямо, то косвенно, как соучастника в общих бедах и горе. «Да что я, в самом деле, платок для нее, чтобы слезы утирать? Нашла себе забаву!» – перед собой оправдывался Индрикис.
Уверовав, что все предрешено и все неотвратимо, Элвира отбросила осторожность. Теперь вечерами сама приходила в комнату Индрикиса, нисколько не таясь от Леонтины. Хотя более, чем Леонтины, следовало остерегаться Нании, проявлявшей повышенный интерес к взаимоотношениям Элвиры и Индрикиса. Однажды Нания подкараулила Элвиру, когда та входила в комнату Индрикиса. Как только Элвира вышла, поджидавшая ее в коридоре Нания сказала:
– А я видела, как ты вошла, и решила подождать…
Элвира ей ответила взглядом – мне это безразлично.
– …Зная, что ты там не задержишься, – с ухмылкой продолжала Нания. – Потому что Индрикиса в комнате нет.
Нания на полголовы переросла Элвиру. К магазину душа у нее не лежала, зато она любила копаться в саду, двор прибирать; при случае могла и дров напилить, печные дымоходы почистить. Ее голенастые ноги лоснились от загара, а руки всегда были испачканы. И одевалась как-то чудно. Нании нравилось донашивать выходные платья Леонтины. Работая в саду или подметая перед домом улицу, свое и без того диковатое одеяние она дополняла какой-нибудь кокетливой шляпкой из гардероба Леонтины. Башмаки Нания носила самые простецкие, к тому же каблуки на них всегда бывали сточены.
Подглядывания Нании не слишком удивили Элвиру – обычная детская шалость, и только. Куда больше поражали ее выходки Нании, раскрывавшие в ней взрослевшую женщину. В общем, они были как сестры. Разве она сама еще недавно не сгорала от любопытства – столько вокруг завлекательных тайн! Правда, было в Нании что-то бестактное: так, она повадилась тайком рыться в Элвирином шкафу, примеряя ее бюстгальтеры, подвязки, тонкое белье. Это выводило из себя Элвиру. До тех пор, покуда Нания в своей простоте не обращалась к ней с каким-нибудь наивнейшим вопросом: «Как думаешь, выйдет из меня кормящая мать? Смотрю, что-то груди совсем не растут?» Или: «У меня такой узкий таз, должно быть, я никогда не смогу родить, так и останусь уродкой».
На следующий вечер, после того как Нания её подкараулила в дверях комнаты Индрикиса, Элвира опять направилась туда же. И на этот раз комната оказалась пуста, что не слишком огорчило Элвиру. В последнее время настроение у нее было настолько безотрадное, ничто не могло его поднять или испортить. Странно только, что совсем недавно она отчетливо расслышала в коридоре шаги Индрикиса, – в это время он обычно возвращался из кино. А спуститься вниз, не заскрипев рассохшимися дубовыми ступенями лестницы, было просто невозможно.
Все еще недоумевая, теряясь в догадках, куда запропастился Индрикис, Элвира уловила какие-то необычные звуки, Нания в своей комнате не то невнятно бормотала, не то боролась с одышкой. Пораженная Элвира подошла поближе, и обмерла, и, как утопленник в омут, бултыхнулась с головой в страшные предчувствия – ни вздохнуть, ни выдохнуть, сверху тяжкий прозрачный пласт, мысли заколодило, конечности похолодели. Заранее зная, что она сейчас увидит, возможно, как раз потому, цепляясь за последнюю надежду – а вдруг все померещилось? – Элвира совершила невероятное: без стука, без предупреждения распахнула настежь дверь комнаты Нании. То, что открылось глазам, полетело на нее, как кирпич с карниза. Тонкие лягушачьи, ножки Нании казались совсем бурыми под мягкими, никогда не видавшими солнца ягодицами Индрикиса.
Никто потом толком не помнил, да и не хотел вспоминать, что было дальше. Элвира считала, она опрометью бросилась вон из комнаты, а Нания полагала, что Элвира долго стояла на пороге, обзывая её разными непотребными словами. Во всяком случае она хорошо помнила, как крикнула Элвире что-то вроде: «Пошла сейчас же вон!» Индрикис помнил, как он сказал: «А ну ее к черту!» Но была ли в тот момент Элвира еще в комнате, он поручиться не мог. В одном из разговоров он заметил Нании: «Ты что же, хотела, чтобы я бросился за ней вдогонку?» Нет, и Нании не пришло тогда в голову бежать за Элвирой. Хотя, как станет ясно из дальнейшего, Элвира своим появлением Нании жизнь спасла.
Наутро обнаружилось, что Элвиры нет дома. Вот тут-то все забегали. Леонтина закрыла магазин. Под вечер участковый пристав Калкав отыскал Элвиру в сарае для сетей километрах в двух от города по направлению к Риге. Была середина февраля, но, слава богу, стояла оттепель. Настолько ума у Элвиры хватило, чтобы надеть пальто, фетровые боты, прикрыться вязаным платком. Она была при сознании, все слышала, видела, только на вопросы не отвечала и самостоятельно шагу не могла ступить. Элвиру колотила такая дрожь, будто ее на сите подбрасывали. Ночью температура подскочила до сорока. Диагноз местного врача был краток и ясен: двухстороннее воспаление легких.
После ухода врача у Леонтины с Индрикисом произошел следующий разговор:.
Леонтина. Это ужасно, хуже быть не может.
Индрикис. Что? Не понимаю, о чем ты говоришь?
Леонтина. О позоре! Подумай, какие толки опять пойдут. Родственницу из дома выгнали… двоюродную сестру.
Индрикис. Никто ее не выгонял.
Леонтина. Я ничего не знаю и знать не желаю, но если обнаружится, что ты виноват… Берегись!
Индрикис. Чего ради мне беречься.
Леонтина. Если выяснится, что Элвира в положении, ты женишься на ней или я лишу тебя наследства!
Индрикис. Смех берет, право…
Леонтина. Смеяться погоди. Подумай лучше, как разговоры пресечь. Пожалуй, все надо свалить на болезнь. В горячке, мол, из дома сбежала…
Временами Элвире становилось лучше, температура спадала, лихорадочный блеск в глазах притухал, затем все начиналось сначала. Элвира потами исходила и таяла, как свечка; живым огнем пылали ее щеки, истончившаяся кожа лба. Плечи так обузились, что ленточкам рубашки не за что было держаться. Проступили кости на груди, на лице, на ладонях. Дыхание вырывалось с присвистом и хрипом. Но Элвира, казалось, ничего не замечала. Давно ее не видели в таком хорошем настроении. Она говорила: «Готовьте одежду, мне уже лучше, скоро примусь за работу».
Ухаживать за Элвирой Антония прислала Марту. Ту самую Марту, что родилась в войну у беженки и в первый же день своей жизни осталась сиротой. С годами Марта превратилась в крепкую дородную девицу; походка у нее была широкая, при ходьбе энергично махала руками; носила вязаные кофты и шнурованные башмаки. Без малейших усилий поднимала она Элвиру. И вообще Марта имела склонность опекать больных, только душа оказалась мягковатой – всякий раз при виде живых мощей Элвиры у Марты на глазах слезы наворачивались, отчего она себя чувствовала виноватой как перед Элвирой, так и Леонтиной.
А Леонтина ничего не жалела для излечения Элвиры. Сама ходила в аптеку, пространно и долго объяснялась с провизором и ожидавшими лекарств клиентами.
На четвертую неделю болезни Леонтина явилась на хутор «Вэягалы». Надо было сообща решить, что делать дальше. Затянувшееся лежание Элвиры в Особняке становилось в тягость. Могла пострадать коммерция. Пока, слава богу, покупатели не шарахались, но в магазине как-никак продавались продукты. А Леонтина из комнаты Элвиры отправлялась прямо к прилавку. Не лучше ли ее отправить в уездную больницу? Конечно, это будет стоить больших денег, да нельзя же всегда лишь о деньгах думать.
Усадьбу «Вэягалы» наконец поделили. Петерис, получив «ремесленный надел», хозяйствовал и строился по берегу речушки. Но с его уходом Крепость не опустела. Паулис привел в дом жену и успел стать отцом первенца Виестура. В саду меж яблонями плескались на ветру детские пеленки и свивальники – детишек в колыбель укладывали плотно закутанными, точно живые мумии. Кто в «Вэягалах» всем верховодил, понять было трудно. Вес Паулиса явно возрос, но Антония не спешила выпускать из рук бразды правления. Хотя бы потому, что избранница Паулиса ей пришлась не по нутру.
Старый Август после своего девяносто пятого дня рождения практическими делами себя почти не занимал. То, что он находился в комнате, вовсе не означало, что он в ней действительно находится. И то, что он с кем-то разговаривал, также не означало, что он с этим человеком разговаривал. Так, на родственном совете, обсуждавшем положение с Элвирой, Август, внимательно выслушав доводы Леонтины, сказал:
– В гроб меня положите в очках. Захочу оттуда на вас поглядеть, а глаза не больно зрячие. – И, подумав, добавил: – Ульи-то как гудят, нынче много будет меду.
В Крепости к странностям Августа привыкли и к словам его не прислушивались. Жена Паулиса на правах хлебосольной хозяйки потчевала Леонтину пирогами, тем самым тактично отстранясь от решения вопроса, к которому не чувствовала себя сопричастной.
Антония и слышать не желала, чтобы Элвиру отправили в больницу. По своей крестьянской натуре она боялась любых резких поворотов. Антония посоветовала сначала вызвать из Риги Атиса. Он доктор, ясное дело, ему и решать. Паулис, в общем, был того же мнения.
Еще со студенческих лет Атиса вошло в привычку, что его приезд становился праздником для «Вэягалов». Загодя в доме наводили чистоту и порядок, меняли в сенниках осоку, поросенок издавал предсмертный крик, петухи с отрубленными головами совершали по двору последние круги. На кухне пыхтели котлы, на сковородах трещало жарево. Хлебная печь топилась с утра до позднего вечера и так раскалялась, что в доме не продохнешь. В день приезда все в праздничных нарядах. Дверные притолоки цветами разукрашены, на полу для аромата рубленый корень аира посыпан, на флагштоке флаг развевается.
На этот раз, учитывая особый повод для приезда Атиса, шумливую радость свидания несколько притушили, и все же переполох получился изрядный. Двор людьми был заполнен, дети вопили, тявкала собака.
Антония, завидев на повороте рессорную коляску с восседавшим на ней располневшим Атисом, всплакнула на радостях. Атиса она любила больше остальных. Любовь эта вмещала в себя и большую заботу, и большую сладость, извечные страхи и смысл существования. У Атиса все было не так, как у других детей. Всегда он рвался прочь из дома, тут ему было тесно, вроде бы ее ребенок, а вроде бы и нет. Эта неясность и влекла к нему. При мысли об Атисе Антония переполнялась смирением и спесью. Вполне возможно, тот душевный трепет, с каким в этот раз (как, впрочем, и всегда) поджидала она своего младшенького, заполнял ту чисто женскую меру тоски и нежности, какую не смогла собой заполнить ее пустоватая чувствами супружеская жизнь.
Сначала Атис потоптался на зеленой травке двора. Водилась за ним такая привычка размять затекшие ноги, окинуть глазами знакомый пейзаж, отметить в его отсутствие происшедшие перемены. На его румяном лице проступила чуть снисходительная, чуть восторженная, чуть ласковая, чуть кощунственная улыбка, и Атис кинулся к Антонии. Начался привычный спектакль любвеобильных излияний. Атис с матерью возился, как с маленькой девочкой, – даже на крышу порывался ее посадить, в воздух подбросить. Антония вроде бы отбивалась, в притворном гневе колотила Атиса по плечам, радостно поругивала. Уж таков ее Атис. Солидная докторская наружность и ребяческие замашки как-то не вязались друг с другом. Зато с ним не соскучишься, и никого равнодушным он не оставит. Иной раз Антонию прямо-таки страх разбирал; а ну если Атис вовсе и не доктор, господи, да может ли доктор быть таким! Атис всех вокруг пальца обвел! Сколько лет, как уехал, она же ничегошеньки о нем не знает. День или два погостит, и опять – не поминайте лихом! Толки ходили разные, Паулис невесть где подслушал, будто Атис в связи состоит с замужней женщиной, дочку с ней прижил, уже трехгодовалая, а та женщина все равно с мужем не разводится, боится упустить богатое наследство. Был еще и такой слух, будто повадился Атис лепить престарелых и богатых барынь, дескать, те от него без ума, днем и ночью названивают – не могли бы принять, нельзя ли подъехать. И Атис принимает, отчего ж не принять, времена тяжелые. Как-то Антония насчет этих слухов попыталась допросить самого Атиса, однако все смехом кончилось – Атис схватил ее в объятия и пустился с нею в пляс.