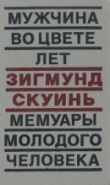Текст книги "Кровать с золотой ножкой"
Автор книги: Зигмунд Скуинь
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 23 страниц)
Он знал, Марта жива и вернулась из Германии. Атис пытался себя убедить, что он этому рад. Но прекрасно понимал, что обманывает себя. Если бы Марта погибла, он бы погрустил, возможно, даже всплакнул. И это было бы от души, без обмана, притворства, потому что Марту в самом деле любил. Но она осталась жива. Для слез и грусти не было причин. И это стало сущим наказанием – ожидание неотвратимой встречи вечно жило в подсознании, угнетало, томило, изматывало. Перед этими вечными страхами был он беспомощен, как эмбрион в материнском лоне, да, иной раз у него даже возникало желание свернуться в комочек, прикрыть свое морщинистое эмбриональное личико еще более морщинистыми эмбриональными ладошками.
Мог ли он тогда, отрекаясь от Марты, предположить, что это происшествие настолько осложнит его дальнейшую жизнь? У него были серьезные причины так поступить. Он был не в духе, да и возможно ли было требовать от него, чтобы он встретил Марту с распростертыми объятиями.
Но с того дня между ним и Лилией началось отчуждение, в последующие годы, по мере того как дочь подрастала, оно приобрело и вовсе скандальный характер. Он мог из кожи лезть, и все равно Лилия смотрела на него с презрением. В лучшем случае с ехидной усмешкой. «Милый папочка, таковы твои взгляды на жизнь, у меня они совсем другие. С чего ты взял, что имеешь право читать нотации…» И он умолкал. В воздухе чувствовались новые веяния. Для душевных покаяний время было малоподходящее, мерки изменились, понятия перепутались. Он опасался между собой и Лилией обнаружить пропасть. Она была в том возрасте, когда молодым кажется, что только им дана способность отличать хорошее от дурного, истинное от неистинного. Да и много ли ему приходилось бывать с Лилией. Она поступала, как ей в голову взбредет.
Он был убежден, что дочь его учится в школе, между тем Лилия давно уже там не появлялась. Поскольку ее новые друзья отирались в основном около искусств, Лилия сначала попробовала рисовать, затем стала пописывать стишки в духе Бодлера. Реальным исходом этих вожделений было то, что Лилия познакомилась с Шериданом. Юноша, чьих предков не следует искать ни в роду генерала от кавалерии времен гражданской войны в Америке, ни среди отпрысков известного английского комедиографа, уроженца Ирландии, а в нашем краю голубых озер, где-то между Вушканами и Вилцанами, так вот, юноша этот был исключительной одаренности. Великолепный гравировщик, особенно хорошо он работал по меди, – искусство в наше время почти отжившее, а в первые послевоенные годы еще подававшее признаки жизни. Случилось так, что Шеридану, работавшему учеником в типографии казначейства и на монетном дворе, довелось участвовать в клишировании и печатании различных государственных бумаг, благодаря чему он приобшился ко многим секретам ремесла. Пользуясь безвременьем и смутами, Шеридан натаскал домой достаточно баночек со специальными красками и стопки твердой, испещренной водяными знаками бумаги.
Однажды, после того как Лилия три или четыре дня кряду прогостила в богемной квартире Шеридана, в мансарде довольно мрачного дома, выяснилось, что кошельки у обоих пусты, на завтрак не нашлось ничего, кроме черного хлеба. Бурчащий живот расшевелил мозги Шеридана, и у него появилась идея. Среди бумаг валялась сторублевая ассигнация, ее он как-то нарисовал потехи ради, чтобы своим уменьем подивить какую-то девчонку, давнюю предшественницу Лилии.
– Тебе нужны деньги? Пожалуйста, получи! – сказал Шеридан, протягивая Лилии подделку. – Ступай на базар и купи гуся у заезжей литовки.
Позже, во время сытного застолья, они смеялись до колик в животе; какой прекрасный день, какая отличная хохма! Лилия, пересказывая свои похождения на базаре, захлебывалась от восторга: «Ты бы знал, какие это бестолочи, если б я им вместо сотенной подсунула этикетку от банки шпрот, они б и тогда не смекнули, в чем дело!»
Окрыленный удачей, Шеридан разыскал брошенное где-то клише и тиснул целую пачку сотенных. И в мансарду мрачного дома регулярно стала поступать снедь с базара: сало, масло, яйца. Жаркое из гусятины оказалось делом трудоемким, на такое Лилия отваживалась редко.
Шеридан строго-настрого наказал Лилии пускать в обращение его художества только на базаре и только среди простоватой деревенщины. Она следовала этому правилу, впрочем, не слишком долго. На то мелось несколько причин. Начать с того, что осторожностью, а уж тем более рассудительностью Лилия не отличалась. Во-вторых, она органически не терпела никаких запретов, даже исходящих от Шеридана, верховного жреца ее неясного и смутного божества. И в-третьих, несмотря на презрение к вещизму как основной примете мещанской гнили, ей все же хотелось иметь новые туфли, красивое белье и кое-какие галантерейные мелочи. Ничего такого крестьяне на базар не привозили. Все это продавалось в большом коммерческом магазине в Старой Риге.
Лилия попалась при второй покупке. Шеридана взяли, как говорится, с поличным – он как раз готовил очередную стопку фальшивых ассигнаций. По законам того времени Шеридану дали двадцать пять лет. Лилии, принимая во внимание ее несовершеннолетие, – десять.
Атис Вэягал приходил в себя мучительно и долго. Сдавало сердце, пришлось полежать в больнице. Незаконченной осталась работа – диссертация, обширное профессиональное исследование, важный доклад для всесоюзной конференции. Атис был настолько подавлен, что поражение воспринял с завидным стоицизмом. Безоговорочно признал свой крах в деле воспитания дочери, сам написал письмо в адрес общественных организаций, в котором взял на себя всю полноту моральной ответственности, подал заявление с просьбой освободить его от занимаемой должности.
Результат был неожиданным. Его не осуждали, на него смотрели с сочувствием. Коллеги при встрече пожималн руку, тяжко вздыхали: «Какое несчастье», «Это ужасно!», «Предугадать такое невозможно!»
Заключение Лилия отбывала в Риге. Атис писал ей чисьма, но они непрочитанными возвращались обратно. И посылки Лилия не принимала. Наконец ему удалось добиться свидания. Лилия вела себя вызывающе, заносчиво.
– Послушайте, гражданин, – сказала, смерив его презрительным взглядом, – что вам от меня угодно?
Никогда не поднимал он руку на дочь, а тут захотелось ее ударить.
– Спасибо, – ответил он. – Спасибо за все…
На Лилию это не подействовало, и она не осталась в долгу. Такую злобу на лице он видел впервые. Казалось, дочь не сдержится, бросится на него. Или плюнет, укусит, лягнет.
– Перестань паясничать, жалкий фигляр! – крикнула она ему. – Убирайся! Не трать понапрасну свое драгоценное время! Уходи скорей, пока не замарал своей репутации! Пока не пошатнулась ножка твоего служебного кресла! Дочь тебе не нужна, не корчь из себя страдальца! А Марта была тебе очень нужна? Может, скажешь, тебе нужна была моя мать?
Атис решил, что спорить в присутствии посторонних нет смысла. И в сердце опять закололо. Так и казалось, поперечно-полосатая мышечная ткань внутри дергается, будто пришпиленная к грудной клетке английской булавкой. Нащупал в кармане пузырек с нитроглицерином, но никак не мог вытащить руку из кармана. В ушах гул, в глазах темно. Он так и не понял, то ли дочь, уходя, действительно свистнула, то ли ему только померещилось. В отчаянии подумал, что не так уж плохо было бы умереть, судьба обрушивала одно унижение за другим. Даже сделайся он беспробудным алкашом, изобличи его публично как растлителя малолетних, и тогда бы, честное слово, он себе не показался бы столь жалким.
Целый год они друг друга игнорировали. Сказать, что его не терзали мысли о дочери, конечно, было бы неправдой. Но время этим мыслям задало определенный ритм, что-то вроде перестука колес, от которого в поездке никуда не деться.
Утром того дня, когда Атис собирался выехать в Зунте, чтобы, возможно, в последний раз повидаться с матерью, в почтовом ящике он обнаружил странное письмо. Писала какая-то женщина, должно быть медработник. Атиса извещали, что его дочь родила сына и чувствует себя хорошо. Краткое сообщение завершалось предложением забрать этого здорового малыша, зарегистрированного как Ивар Гуржупович Вэягал, из «настоящего его местонахождения для воспитания в домашиих условиях. В противном случае по существующим правилам Ваш внук будет передан в детдом до истечения срока заключения матери».
Ваш внук… Он читал и перечитывал, чуть ли не смакуя горечь и обиду, которые в нем вызвало это сообщение. Очевидно, Лилии показалось мало содеянного, она решила унизить его до последней грани.
О режиме мест заключения он имел смутные понятия, а потому не мог достаточно наглядно представить, как на практике осуществлялось зачатие внука. Минутная близость на цементном полу в коридоре или во тьме зарешеченного «воронка»? В лучшем случае ее партнером мог быть какой-нибудь прожженный циник, не побоявшийся использовать свое служебное положение. Впрочем, изголодавшийся по женскому телу рецидивист для подобной роли казался более подходящим. К тому же отчество внука, похоже, сулило монголоидный разрез глаз и широкие скулы. Дудки! Раз нет у него дочери, не будет и внука. Довольно. Лилия. Коль скоро ты решила окончательно поломать себе жизнь, дело твое, меня это не касается.
Но по дороге в Зунте он думал и думал о полученном письме. Близкая кончина матери особых эмоций не вызывала. Более того, на этом факте он попросту был не способен удержать внимание. «Но ведь на свете нет для меня человека ближе, – самому себе удивлялся Атис, – со смертью матери и во мне что– то умрет». И в тот момент он понял – как раз потому. И мысль о собственной смерти эмоций не вызывала. Точнее, о своей смерти он думал настолько отвлеченно и поверхностно, что она скорее представлялась остановкой у некой черты, чем насильственным переходом из одной сущности в другую. «Не переживал ведь я своего рождения. Почему я должен переживать возвращение туда, где находился изначально? Больше грусти, пожалуй, должна вызывать та неизбежная механика, обращающая все юное, сильное, прекрасное в старое, уродливое, дряхлое. Пока между нами и смертью стоит предыдущее поколение, существует убеждение, что мы еще не подошли к роковой черте. Но вот не станет матери, и винт мясорубки, именуемой жизнью, придвинет меня к ножу».
Так думал Атис, направляясь к матери, пожелавшей свидеться с ним перед смертью. Он не догадывался, что желание матери включало в себя нечто большее, что Антония спешила исполнить при жизни заветную думу, чтобы со спокойной совестью закрыть глаза. Короче говоря, одновременно с Атисом Антония велела позвать и Марту.
О причинах размолвки Атиса и Марты ничего определенного не знали, но их обоюдное нежелание встречаться было замечено всеми. Потому Антония так и сказала Паулису: «Хочу, чтобы они пришли, встали у моего изголовья и подали друг другу руки».
Марте в ту пору было за тридцать. Внешне с нею вроде все было в порядке, только глаза постоянно как бы тлели болью. Выглядела она старше своих лет. Потерянные в Германии зубы уродовали не только речь Марты, но и лицо. Прямые, коротко остриженные волосы пестрели седыми прядками. Как-то незаметно оказалась она в той категории женщин, от которых пахнет дымом сигарет, у которых оторвавшиеся пуговицы заменяются булавками, и вообще посмотришь на таких – и покажется, будто в их одежде что– то позаимствовано из мужского гардероба. Эта последняя примета с годами становилась все отчетливей. Даже закрадывалось подозрение, что Марта стыдится своей женственности.
Считать себя удачливой у Марты не было оснований. Она была директором ремесленного училища, затем ее назначили воспитательницей в общежитии. Один раз избрали депутатом местного Совета и больше уже не выдвигали. На то имелись как объективные, так и субъективные причины, исторического и случайного характера.
На какое-то время возобновилась близость Марты с Харием. Харий в первые дни войны сражался в Эстонии, но попал в плен, в оккупированной Риге перебивался случайными заработками. В отличие от Марты, Харий ничуть не утратил былого задора. Искал связей со старыми друзьями, как и прежде, писал баллады, пьесы и поэмы, настойчиво рвался к прежним должностям. Правда, репутация его была уже не столь блестяща, но Харий не сдавался, цеплялся ногтями, вгрызался зубами. Его желание служить не знало предела. Хорошим писателем он не считался, однако имя Хария частенько поминалось. Понемногу он опять карабкался наверх.
Точку в отношениях Марты и Хария поставил случай, не имевший к ним обоим прямого касательства. Арестовали девочку из ремесленного училища. Марта как воспитательница общежития должна была дать показания. Харию попалась на глаза присланная Марте повестка, он тут же покидал свои вещички в чемодан и был таков.
Хотя Атис о замыслах матери не догадывался, сама поездка в Крепость вызывала в нем свербящее беспокойство. Сквозь тяжкую темень глухого осеннего вечера таращилось на него какое-то страшное око. Выжимая педаль тормоза, он всякий раз гадал – сработает, не сработает? При повороте руля зябко сжималось сердце – отзовутся ли колеса? Ни в чем он не был теперь уверен, ни на что не полагался. В голове промелькнула догадка и о том, что Марта может оказаться у матери, но скорее всего вызов каким-то образом связан с подброшенным Лилией внуком. Вот и попробуй им объяснить. До поры до времени, конечно, можно все утаить. О-оххх… Тоже радость невелика. Ему подчас уже не хватало сил разыгрывать из себя всем и вся довольного. Скверно так, и скверно эдак.
Чтобы поправить настроение, Атис, проезжая Зунте, сделал остановку у американки. Уже когда выходил, баритон Клепериса напомнил ему: «От буфета до дома путь близкий, куда торопиться!» Так-то оно так, и хорошо, что в обойме страхов, терзавших Атиса, отсутствовал тот, который, надо думать, вконец бы испортил ему настроение, происходи дело в наши дни: страх перед возможными последствиями, связанными с вождением машины в состоянии легкого опьянения.
Во дворе «Вэягалов» Атиса встретил пес Пуцис, затем появился Паулис. Паулис сказал:
– Похоже, к вечеру подморозит. Так что лучше поставь машину в сарай.
Атис вскинул руку и сказал:
– Быть не может, ничего такого мои часы не предвещают.
Посмеялись, пошутили, поговорили о разных пустяках, потом Атис спросил:
– Еще кого-нибудь ждут?
Паулис ответил:
– Марта приехала вскоре после полудня.
Атис долго озирался по сторонам – темень непроглядная! В доме светились окна, у Паулиса в руке была «летучая мышь», но все это лишь отдельные островки света, от них загустевшая тьма казалась еще беспросветней.
Он и тут ничего не упустил из того, что при встрече с матерью проделывал уже десятки и сотни раз. Однако все это теперь казалось жалкой и глупой игрой. В ушах звенели слова Лилии: «Перестань паясничать, жалкий фигляр!» Захотелось выбежать из комнаты, пока еще не появилась Марта, исчезнуть, раствориться. Он ненавидел себя. Потому что понимал: убежать невозможно. И сыпал пустые, праздные слова, стараясь скрыть свое замешательство или хотя бы не обмануть ожиданий матери.
Марта вошла и осталась стоять у порога. Она так мало походила на прежнюю Марту, продолжавшую жить в его воспоминаниях, что Атис подумал: повстречайся с ней на улице, ни за что бы не узнал! Марта посмотрела на него сначала как-то несмело, потом чуть пристальней. Взгляд бесцветный. Ничего не выражающий взгляд пассажира в трамвае – простите, вы сойдете на следующей остановке?
– Детушки милые, – тихо заговорила Антония, – отпущенный мне господом срок на исходе… Людей на белом свете больше, чем песчинок в поле, а много ль среди них таких, кому ваша радость была бы их радостью и ваша беда их бедой… Детушки милые, коли вы свой собственный двор заполнили злом, не надейтесь сыскать любовь в миру…
– Мамочка, пойми… – Атис громко прервал мать. Он прекрасно сознавал, что ведет себя глупо, и все же не было сил все это спокойно выслушивать. В каждом материнском слове слышался упрек. Душу ему растравили жалостливые эти речи. «Еще несколько слов, и от меня останется солоноватая лужица». – Пойми, между мной и Мартой нет никакого зла. Ну, скажи ты, Марта, может, тебе поверят.
В одной руке Марта держала пачку папирос, в другой спичечный коробок. Посмотрела сначала на пачку, потом на коробок, точно не могла решиться, закурить или нет.
– Между нами нет зла, – сказала она, – на сей счет можешь быть спокойна.
Атис почувствовал огромное облегчение. И как раз потому, что облегчение было огромным, он не мог допустить, чтобы мать продолжала в том же духе. Широко улыбнувшись, он приблизился к Марте.
– Может, мама, ты хочешь, чтобы мы с Мартой расцеловались? Раз это нужно… Марта, как тебе кажется?
Марта молча пожала плечами и сунула в рот папиросу.
Позже, на кухне, оставшись вдвоем, Атис взял Марту за руку и, глядя ей в глаза, попытался высказать то, что высказать было невозможно.
– Спасибо, Марта! Спасибо! Я понимаю, у тебя имеются все основания думать обо мне дурно. Но та женщина была специально приставлена, чтобы следить за каждым моим шагом. Если б я с тобой заговорил, ты б сегодня здесь не стояла. И я бы тоже не стоял.
Марта дымила очередной папиросой, стряхивая пепел в кофейное блюдце.
– Какой смысл теперь об этом говорить.
– Как какой смысл? Огромный! Мать права, мы все одна семья. И не должны судить друг друга огульно. Все эти годы мне временами бывало так худо, впору хоть удавиться – вот до чего доходило… Почему ты молчишь?
– Что ты хочешь, чтобы я тебе сказала?
– Иначе поступить было тогда невозможно.
– Не знаю. – Марта повторила свое дурацкое пожатие плеч. – Что было, то было.
– Нет, вижу, ты мне не веришь. И правильно делаешь. На чужие плечи свои беды не взвалишь.
– Вот это верно. С ними каждый сам обязан справиться. Как я не могу из памяти вытравить часть твоей жизни, так и ты не сможешь из моей. У нас с тобой всегда будут сложности, какие бы слова ни говорились.
Закипавший чайник сипел однообразно, нудно, как приставшая к липучке муха. Каждая пауза в разговоре будто в трясину затягивала. Атису казалось, не чайник булькает, а он сам с бульканьем все глубже погружается в топь.
– Ты права, – наконец произнес он, когда легкие вот-вот должны были лопнуть. – Это так и, видно, так останется… Ты права.
Ночью Паулис разбудил Атиса, сказал, что мать перестала дышать. Атис надел свой халат из алого дамаста, без которого никуда не выезжал, и на правах любимого сына отправился закрыть глаза Антонии. Но верблюжья живучесть Антонии исхитрилась пролезть сквозь угольное ушко скудеющих телесных сил, и при поддержке Нании мать села на кровати. Атис пощупал у нее пульс, окинул взглядом шеренгами разнокалиберных пузырьков уставленный столик, из этого изобилия домашней аптеки остановил свой выбор на каплях Зеленина – одну ложку матери, другую себе.
– Ты, Атынь, сейчас спать отправляйся, – все больше приходя в себя, сказала Антония, – а утром езжай себе домой. Не могу я помереть, не повидав Петерисова парнишку.
– Какого еще парнишку?
– Ну того, который в городе людей высекать из камня учится.
Когда Антония на следующее утро попросила Паулиса подвинуть к ней наушники и радио, Атис действительно вспомнил, что в городе его ждет одно неотложное дело. Поскольку у Марты оказалось несколько отгулов, ей захотелось погостить в Зунте. Так что Атис отправился в путь один, к тому же сразу после завтрака.
Жена Атиса Эрика была женщина во всех отношениях многоопытная. Потеряв в войну первого мужа, она какое-то время прозябала в отдаленной деревенской больнице, пытаясь свои дни всецело заполнить работой. Такой образ жизни не соответствовал ни складу ее характера, ни темпераменту – Эрике хотелось общества, хотелось принимать друзей, быть в самой гуще, все видеть. Не раз представлялась возможность выйти замуж, но она сумела воздержаться, не найдя в себе сил отрешиться от первых переживаний, все еще казавшихся где-то совсем рядом. Лишь со временем Эрика осознала, что память об утраченной любви это все равно что изнутри подсвеченный аквариум – красивый замкнутый мир за стеклянными стенками, никак не связанный с жизнью извне.
Тогда она поняла, что хочет семью, детей. За плечами слишком много отшумело пустых лет. Понуждаемая скорее семейным инстинктом, чем чувствами, Эрика вышла замуж за трусоватого, мелочного, подуставшего от жизни вдовца, пригодность которого для супружества заключалась главным образом в том, что в данный момент он был свободен. Супружество это во всех отношениях оказалось дохлым номером. Возможно, Эрика не поняла бы этого с такой очевидностью, во всяком случае так быстро, не появись на горизонте Атис Вэягал. Напрасно она сомневалась в своих способностях любить. Ее холодность и бесчувствие не были признаком старости. Просто она, как дерево, пережила суровую и долгую зиму.
Общественное, имущественное положение Атиса на сей раз не имело никакого значения, с таким же успехом он мог быть плотогоном или трубочистом. И формальности мало волновали Эрику. Без раздумий и сожалений она нарушила супружескую верность. Теперь она определенно знала, что сумела выжить. Ее окрыляли надежды. Еще ничего не упущено, ничего не потеряно. Кое-кто нашептывал: Атис, дескать, женится, потому что для мужчины в его возрасте неопределенность семейного положения становится препятствием в карьере. Говорили и о дочке Атиса, фальшивомонетчице, и о большой квартире, в которую кого-то непременно подселят. Но Эрика только посмеивалась. Недавно она побывала у лучшего в Риге гинеколога – в принципе ничто ей не мешало стать матерью.
Из своей поездки Атис вернулся угрюмый и мрачный, был непривычно немногословен. Эрика все объясняла тяжелым положением Антонии и не лезла с расспросами, но взгляд ее частенько задерживался на хмуром лице Атиса.
Вечером, укладываясь спать, не утерпела, спросила, нет ли каких-то особых причин для его дурного настроения.
– Да нет же, что за глупости, – отговорился он, – все в порядке.
Проснувшись среди ночи, Эрика обнаружила, что Атис не спит и, судя по его сосредоточенному выражению, вообще не засыпал. Дольше обманывать Эрику не было смысла. Теперь она даже не допытывалась о каких-то особых причинах. Спросила напрямик: в чем дело?
Атис, держась за голову, тяжко дышал, будто тащил на себе тяжесть или взбирался в гору.
– Даже не знаю, что тебе сказать… Все настолько неожиданно, прямо как обухом по голове. Я понимаю, что не имею права просить тебя о подобных вещах. Но видишь ли, у Лилии в заключении родился сын, и как бы там ни было, а он мне доводится внуком. Могу ли я допустить, чтоб его, как подкидыша, как никому не нужного найденыша, ненароком выпавшего из задка цыганской телеги, отдали в детдом? Милая Эрика, этого я не могу допустить! Утром просыпаясь, вечером засыпая, садясь за стол, всякий раз я о себе буду думать как о мерзавце. Ведь Лилия, вполне возможно, и сама жертва. И с этими мыслями мне придется умереть. Я никогда не узнаю, что с ним случилось и каково ему живется. Быть может, когда-нибудь придется прочитать в газете, что он стал вором или убил человека. А люди скажут: преступник Вэягал, ну, конечно, чего хорошего было ждать, дед мерзавец, дочь фальшивомонетчик… Я, конечно, понимаю, что значит для тебя воспитывать чужого ребенка. Да и как знать, может, ничего путного не получится…
В первый момент Эрика из речей Атиса поняла одно: ее надежды под корень подрублены. Охватившему ее нервному напряжению, лишившему дара связно говорить и мыслить, требовалась какая-то разрядка, и она дала волю негромким слезам. Атис, как утопленник, обеими руками вцепился в ее плечи.
– Не реви, не реви. В былые времена люди целую ораву детей воспитывали. Неужто одного не поднимем?
Эрика заплакала громче.
– Как это понять? Ты отказываешься?
Утром Атис встретился с Эрикой на кухне. Она успела привести себя в порядок и накрывала на стол. Перекинулись двумя-тремя незначащими фразами. Вечер прошел примерно так же – отмалчивались, избегали друг друга. Эрика в своей комнате что-то шила, потом долго мылась, будто нарочно дожидалась, чтобы Атис уснул.
На следующее утро, за завтраком, после первого глотка кофе Эрика взглянула ему в глаза и сказала:
– Я, кажется, забыла тебя спросить: когда прибудет этот парнишка?
Поскольку обретение внука было сопряжено со средой и процедурами, которые у нормального человека могли вызвать лишь негативные эмоции, на этом этапе Атис решил действовать единолично. Эрика возражала, не отпускала его от себя ни на шаг, проявив немало хладнокровия и терпения. В конце концов Ивар, закутанный в одеяльце, перехваченное синей лентой, в высшей степени солидно и будто бы никоим образом не связанный с теневыми сторонами жизни, был благополучно доставлен в отведенную для его дальнейшего пребывания резиденцию, по такому случаю очищенную от последней пылинки и вдобавок ко всему продезинфицированную лучами «горного солнца».
Во время первой смены пеленок накричавшийся до красноты Ивар открылся своим приемным родителям от кончиков волос до пяток. При всем желании в ребенке невозможно было обнаружить ни малейшего изъяна. Тело соразмерное, крепкое, кожа чистая, блестящая, черты лица правильные. К тому же и волосы светлые, чем его принадлежность к роду Вэягалов афишировалась с вящей назойливостью. В ящике письменного стола у Атиса хранилась в шелковистую бумагу завернутая прядь волос с его собственной детской головки, он сравнил ее, и родственные чувства взыграли в нем с новой силой.
С водворением Ивара преобразилась атмосфера дома, сместились центры тяжести, поломались прежние ритмы, изменился сам образ мышления, произошла перегруппировка былых потребностей. Эрику, как и Атиса, все это основательно изматывало, спать приходилось мало, оба исхудали, осунулись, под глазами появились темные круги, но трудности с лихвой окупались радостью и удовлетворением при виде растущего внука. Это было именно то, чего им не хватало, чего они домогались в глубине души, и это тождество «соответствий» граничило с чудом. Вспомним, что в бутылке фокусника, из коей предварительно извлекаются двадцать семь шелковых платочков, вина хватает ровно настолько, чтобы наполнить бокал шампанского, ни больше ни меньше.
Лилия время от времени присылала Атису короткие письма – обычно когда ей что-то требовалось. В наспех нацарапанных строчках напрасно было бы искать хоть намек на сердечность или отблеск любви. Отбыв свой срок. Лилия, как можно было заключить из писем, работала в швейной мастерской и заканчивала среднюю школу. О сыне она ни разу даже не справилась, делая вид, что такого Ивара Вэягала вообще не существует.
И все же существование Ивара было непреложным фактом. Более того, ни Атис, ни Эрика уже не мыслили жизни без него. Ибо нет в мире силы, равной силе гравитации, объемлющей собой все мироздание, а непосредственно за ней следует великий инстинкт самосохранения, что, по сути дела, и есть жизнь.
16
Петерис Вэягал был одним из первых, кто расстался с землей и устроился на работу в консервный цех точильщиком ножей. Но в объяснении причин, побудивших к тому Петериса, иной раз слышались упрощенные суждения: «Да разве мыслимо было тогда прокормиться в колхозе, на трудодень давали пятнадцать копеек деньгами и полтора килограмма зерна». Все объяснять лишь копейками и килограммами было бы столь же ошибочно, как и пытаться найти истину, основываясь на односторонних доводах. Достаточно напомнить, что у жены Петериса Норы была корова, по тогдашним рыночным ценам дававшая поистине золотое молоко, в том же коровнике хрюкали свиньи, поставлявшие по тем временам золотые окорока.
Сам Петерис, вспоминая о своем решении, не ссылался на бедность или нужду. Он говорил: «Я землю бросил потому, что спать перестал ночами».
Землицу свою Петерис знал сердцем и разумом, она всегда стояла у него перед глазами, как клетчатая доска перед глазами шахматиста. Каждый шаг он загодя обдумывал и взвешивал, от отца и прадедов унаследованные навыки разумно совмещая со всякими новшествами. Всегда и все ему было известно заранее: не зарядят дожди, пойдет сено косить, а дождь припустит, коня поведет к кузнецу подковать. Знал он, какой чередой поля обрабатывать дружной весной, и знал, в каком порядке те же поля обрабатывать когда земля с ленцой отходит. Знал свойства и способности каждого поля, прихоти его и норов; в общем, поле мало чем отличалось от лошади. Одна тянет хорошо, если покрепче вожжи подобрать, другую ласковым словом проймешь, третьей чаще давай роздых, для четвертой держи добрый кнут.
В крестьянском труде есть свои хитрости, и они так просто в руки не даются, зато уж если их узнал, освоил, путь к урожаю становится ясен, тут, как говорится, что посеешь, то и пожнешь.
Новое, неоглядно большое хозяйство представлявлось Петерису замысловатой и чуждой машиной, о которой невозможно ничего сказать наперед. Начнешь ее смазывать, а уверенности нет, что смазка до нужных валов дойдет. Нажмешь рычаг скорость включить, но тут обнаружится, что колеса вовсе и не связаны с приводом. Там, глядишь, сыплют и сыплют без меры, отдачи же никакой, а то вдруг все заслонки нараспашку, и пошло зерно вперемешку с мякиной.
Прежде Петерис ложился спать, вполне готовый к завтрашнему дню, а если что-то оставалось неясным; можно было перед сном обдумать или, проснувшись среди ночи, покумекать. При новом хозяйствовании такой возможности у Петериса не было. Он ничего не знал и ничего не мог обдумать, все мысли отскакивали как от стенки горох. Мычащая скотина на колхозном дворе корма требовала. Почему? Луга те же, что и раньше, и коровы те же. На полях мокли под дождем сжатые хлеба. Почему бы не свезти их по сараям? От таких пустопорожних мыслей стало Петерису казаться, что у него с головой что-то не в порядке, что он из ума выжил. Спозаранок, часа в четыре или пять – как обычно, поднимется Петерис с постели, пройдется до сарая. Утро как картинка. Травы в росе, на небе ни облачка, сейчас бы и впрячься в работу, ан нет, иди сначала к звеньевому, тот скажет, чем сегодня тебе заниматься: может, отаву велят стоговать, может, вику косить.
И вот он плелся на хутор к звеньевому, толкался на его дворе, переливая из пустого в порожнее с другими такими же бедолагами, ожидавшими распоряжений, и пытался себя убедить, что со временем свыкнется с бездумьем, нерадивостью, но сердце было не на месте, и не было душе покоя. Распаляла давняя крестьянская привычка – да об эту пору черта с рогами уже можно было бы положить на лопатки! И по тому, как люди в разговоре смущенно отводили глаза, он смекнул, что остальные думают примерно так же.