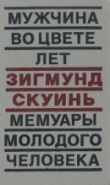Текст книги "Кровать с золотой ножкой"
Автор книги: Зигмунд Скуинь
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 23 страниц)
Марта притуманенным от волнения взором уставилась в землю, а он, спокойно растягивая слова, продолжал:
– Партизанской санитарке положено быть крепкого сложения. Много на себе таскать приходится. Переходы, бесконечные переходы, на том все и держится. Целый госпиталь на плечах, да еще и всякие другие штуковины. Ну так что, по рукам?
– Думаете, справлюсь? – раскрасневшаяся Марта подняла глаза, хотя у самой сомнений уже не было. – Я ведь боязливая.
– Это, дочка, в порядке вещей. У живого человека страх в крови сидит.
– Здесь, на фронте, куда ни шло, знаешь, где немцы, где свои. А когда опасность со всех сторон подкатывает…
– Никакой разницы! – Командир прихлопнул у нее на лбу комара. – Никто не ведает, где смерть ему встречу назначила, а потому здесь она, быть может, ближе, чем там, куда отправишься.
Группу из восьми человек для переброски за линию фронта готовили в окрестностях небольшого аэродрома, где лишь изредка появлялись «юнкерсы» и «штукасы», а в остальном покойный, тихий прифронтовой рай. Командир в подготовке участия не принимал, он к тому времени уже вернулся в Латвию.
Та роковая ночь выдалась ясной – полная луна и густые тени. Деревья, уже скинувшие листья, стояли, налившись зловещей чернотой. В детстве такими ночами Марта не могла подолгу уснуть, все ждала во дворе «Вэягалов», не прилетят ли с моря лебеди. Двухмоторный «дуглас» в воздух поднялся с таким расчетом, чтобы линию фронта пересечь под утро, когда наблюдателей в сон начинает клонить. Волнение и внутреннее напряжение Марта в основном гасила пристальным вниманием, следя за всем, что проплывает внизу. Линию фронта миновали благополучно. Справа по борту полыхали ракеты, частили очереди трассирующих пуль, но к ним это не имело никакого отношения. Потом штурман крикнул, что под крылом уже Латвия, и среди темных лоскутьев лесов и седых прямоугольников полей они увидели серебристо-пепельную плошку озера, чуть светящуюся в ночи подобно святочному оловянному литью на черной сковородке. Самолет снижался, глаза каждого искали тремя кострами отмеченную обетованную землю. В обе стороны разом распахнулись двери. Взвыли сквозняки, обдав лицо и душу леденящим ветром. Сумятицу мыслей пресекло судорожное падение в бездну инстинктов, – еще привязанная шнурком к самолету, она уже летела вниз, смутно понимая происходящее.
В чувство привели два последовательных рывка: первый – когда дернула кольцо, второй – когда раскрылся парашют. Ощущение свободного полета, едва рассеялись страхи, так захватило ее, что на время она и думать позабыла о дальнейшем, с радостью отдавшись парению между небом и землей. Два купола белели под нею, два других чуть выше. Вот раскрылся еще один. И еще. Запрокинув голову, ждала восьмого, но тут до слуха донесся какой-то странный звук; справа, впереди с нараставшим шипеньем, – примерно так паровоз выпускает пары – мимо нее пронеслось что-то огромное, длинное, крутящееся. Она даже расслышала глухой удар, когда где-то там внизу, крутящаяся штуковина врезалась в землю, и Марта подумала, это сбросили какой-то тюк с малоценным грузом. На самом деле это был заместитель командира Наливайко, у него не раскрылся парашют, должно быть, запутались стропы. Но об этом Марта узнала позже, уже приземлившись, когда у разодранного парашюта нашла труп Наливайко. Тело обмякло, одежда казалась набитой мятой глиной, но часы на бескостной руке бодро тикали. Вскоре их начали обстреливать. Десант приземлился не в районе расположения партизан, а попал в ловко расставленную ловушку. Немцы, со своих самолетов заметив световые сигналы, объявили тревогу и запалили костры в удобном для себя месте. Но тогда Марта этого не знала. Как не знала, что нечаянная смерть Наливайко в какой-то мере спасла ей жизнь: немцы насчитали в небе семь куполов. После боя, подобрав семь трупов парашютистов, заключили, что группа уничтожена, и поиск прекратили.
Марта поняла: пробиться к лесу с луговой поляны надежды нет. А надо! Затылок холодили пули. Ладони ощупывали каждую пядь земли, как слепой бы ощупывал, глаза тут были бесполезны, дюйм за дюймом ползла вперед. Ложбинки, вымоины, заросшая сточная канава или оплывшие окопы, еще от первой мировой войны. И вдруг удача! Луну укрыло облако, просто везеньем такое трудно объяснить. Это было равносильно чуду. Она ползла, не отрываясь от земли, волоча лицо по холодной и жесткой траве, в правой руке сжимая револьвер Наливайко, который до начала перестрелки ей передал радист. Опустившаяся тишина после пальбы казалась оглушающей. Немцы были где-то рядом. Марта слышала, как они вставляли в автоматы новые обоймы, аккуратно собирали стреляные гильзы. Кто-то, должно быть раненый, зубами раздирал рубашку, чтобы перевязать рану, хрипел, отплевывался и ругался.
Лес был уже близко. В гуще кустарника Марта поднялась, чутко прислушиваясь, затем осторожно попятилась к лесу.
Совсем рассвело, когда она вышла на заросшую ольшаником дорогу. Этой дорогой, похоже, ездили редко – заглохшие колеи заросли бурьяном и деревцами. На обочине стоял прислоненный к сосне велосипед. Хотя Марте и казалось, что шла она очень долго, но рассудком понимала: пройдено совсем немного. Велосипед скорей всего оставил волостной шуцман, приглашенный в качестве проводника, или лесник.
Утро занималось туманное, хмурое, безветренное. Марта так усердно жала на педали, что взмокла спина. «Слава богу, ушла от гиблого места». Но появившееся чувство облегчения спугнула мысль, до сих пор почему-то не приходившая в голову: как я выгляжу? Сломанная страхами, усталостью, Марта повалилась в сено в ветхом луговом сарае.
Пробуждение было мучительным. Ныла подвернувшаяся при неудачном приземлении нога. Есть не хотелось, и это отсутствие аппетита ощущалось назойливой тяжестью в желудке, досаждавшей больше, чем голод. Трясло от холода, нервного перенапряжения. Но все это пустяки. Главное – раздобыть одежду.
Окруженный лесом хуторской пригорок с покосившимися, из трухлявой дранки крышами излучал грусть и одиночество, подобные тем, что исходят от старых лошадей и брошенных на берегу лодок. На хуторе, как можно было догадаться, жили старик и старуха с постигшим их безутешным горем. Повсюду фотографии молодого человека, не для того, надо думать, чтобы о нем напоминать, а потому что его невозможно было забыть.
А
В шкафу, пропахшем багульником и яблоками, выбор одежды оказался скудным. Марта взяла черное, из плотной материи платье, без затей, старомодно, но добротно сшитое. Марта еще подумала: ничего, что коротковато, более современным покажется, не мешало б только что-то подложить под обвислые плечи. Но случилось невероятное: не платье к ней приспособилось, а она приспособилась к платью, сразу постарев на десяток-другой лет; даже лицо как будто покрылось морщинами, обрело что-то старчески увядшее, изможденное от горя. Черный платок и овчинный полушубок окончательно преобразили ее. Марта испугалась. В комнату проникал по-зимнему бледный, как бы отцеженный свет. Во дворе на цепи задыхалась от лая собака. Из кухни тянуло еще не остывшим варевом для скотины. Кисловатый запах напомнил Марте детство в «Вэягалах», теперь казавшееся где-то за тридевять земель: в сумрачной теплыни коровника мерно раздуваются коровьи бока, хрюкают поросята, у телят влажные носы…
Хотя мысль о пище вызывала отвращение, Марта завернула в бумагу полбуханки хлеба и кусок копченой свинины. Ей пришло в голову оставить хозяевам нечто вроде долговой расписки. В поисках карандаша Марта вернулась в комнату, и тут на глаза ей попалась книжка под названием «Страшный год», начинавшаяся стихотворением, а кончавшаяся фотографиями вырытых и лежащих на земле тел. Заинтересовавшись, она пролистала брошюру с первой страницы до последней; бумага высшего качества, на такой печатались цветные репродукции. «Какая бесстыдная, злобная ложь, – подумала Марта. – Какое гнусное искажение действительности». И она отказалась от своего намерения. Людям, у которых в доме подобная книга, писать записку с извинениями глупо. Захотелось поскорей уйти.
Входную дверь Марта прикрыла все тем же еловым прутиком, что вынула из проушины скобы. Свой ватник и ушанку протолкнула сквозь отверстие нужника. Собака, бряцая цепью, задыхалась от бешенства.
До Зунте она добиралась неделю, сначала шла ночами, а чуть забрезжит свет, укрывалась в первом попавшемся луговом сарае. Затем стала добавлять по часу утренних и вечерних сумерек. Никто не обращал на неё внимания, встречные иногда здоровались с нею, иногда проходили мимо, будто не замечая. Немцев она видела всего один раз – как-то за перекрестком, на прямой и открытой дороге, сквозь прорези щитков посвечивая фарами, нагнал ее грузовик; солдаты в кузове горланили развеселую песню, отбивая ритм коваными сапогами. Марту приводило в отчаяние то, что жизнь, которую она вокруг себя видела, не имела ничего общего с тем, что произошло на лесном лугу, куда их заманили в ловушку, а еще меньше с тем, что происходило на фронте. Люди, как обычно, ездили в город и возвращались домой, смеялись, шутили, толковали об урожае и погоде, играли свадьбы. По крайней мере дважды Марта набредала на сельские пирушки с музыкантами и накрытыми столами; встречала женщин с набухшими животами; один развеселый попутчик даже предлагал ей глотнуть самогонки отменнейшей марки, «Придорожные стоны», мол, прозывается.
Не в пример первым дням, когда мысль о еде вызывала отвращение, теперь Марте во сне и наяву мерещилась всякая снедь. Она довольствовалась малым: кочерыжками высоко срезанной капусты на грядках, кое-где уцелевшими яблоками с веток, печеной картошкой, с поры осенней толоки забытой в золе кострищ. Платье в поясе стало совсем свободным, башмаки на ногах день ото дня тяжелели. И некуда было деться от холода, насквозь продуваемые сенные сараи мало-помалу превращали ее в сосульку, – так нитка, вновь и вновь окунаемая в растопленное сало, понемногу превращается в свечу. По ночам лязгали зубы, при ходьбе она осторожно втягивала воздух.
Завидев вдалеке силуэт «Вэягалов» и с детства знакомую вязь ветвей вековых деревьев, вместо ожидаемой радости и чувства облегчения, как ни странно, она ощутила совсем иное. Будто увидела рядом с собой свою отсеченную руку или ногу, до боли знакомую, но ей уже не принадлежащую. Почему была она сама по себе, а рука или нога сама по себе, понять рассудком невозможно. Но так оно было, решительно все изменилось. Прошлое не вернешь, не восстановишь, а то, что вот-вот станет настоящим, пока не поддавалось осмыслению. Это был тот краткий миг, когда боль еще не ощутима и кровь еще не выступила, краткотечный миг, и скачущий пульс в висках отгонял его все дальше, дальше, дальше.
Поборов малодушие, Марта постучала в ближнее окно и невольно вздрогнула – двор отозвался гулким эхом. Немного погодя за дверью послышались шаги и молодой женский голос. Это еще больше смутило Марту. Она надеялась, откроет Паулис, ну, хотя бы Антония. Марта не ответила, затаившись в тени колонны. Женщина переспросила «кто там?» уже с явным раздражением. Дверь все-таки отворилась, на крыльцо вышла Нания. В мужском пиджаке с блестящими золотыми пуговицами. И конечно же в соломенной шляпе. Подумаешь важность – дружба и распри школьных лет! Нания теперь жена Паулиса. И все же Марта не решилась показаться Нании.
После того как Нания ушла, рука не поднялась снова постучать. Но Марта не отчаивалась, она подумала, что так, пожалуй, лучше. Излишняя спешка, опрометчивость могли все испортить. Прежде хотелось встретиться с Паулисом. С глазу на глаз, в подходящих условиях.
На рассвете Марта опять приискала сенной сарай – в полной уверенности, что последний. К тому же это был не просто сенной сарай, а сарай Вэягалов на лесных лугах, куда в свое время у Элизабеты отпрашивался Якаб Эрнест. С тех пор как через речку перебросили мост, от «Вэягалов» до лугов километра четыре, не более.
Она заподозрила что-то неладное, едва переступила высокий порог. Пахнуло кисловатым, застоявшимся запахом. Кто-то бывал тут, ел, пил, сушился. С первых дней войны Марте частенько приходилось ночевать под чужими крышами, нюх обострился, улавливая оттенки бытовых запахов. Пустая бутылка под сеновалом, яичная скорлупа, черствая горбушка хлеба и подтверждали, и отрицали ее предположения. Остатки заурядной выпивки. К сему вполне мог быть причастен и Паулис – часть сена, по всему видно, увезли совсем недавно.
И все же Марта зарылась в сено, сон накатывал неудержимо, и она знала совершенно точно, что даже черствую горбушку не успеет дожевать и проглотить.
Разбудило безошибочное чутье: опасность! Голова прояснилась, глаза прозрели. Шагах в пяти, на свободном от сена пространстве стоял немецкий солдат. Кровь от висков отхлынула к пяткам, и с внезапно охватившим деловитым и бестрепетным спокойствием она увидела солдата в какой-то пугающей укрупненности и ясности, словно тот не перед ней стоял, а был подсунут под стеклышко микроскопа. Мышасто-зеленую шинель немец почему-то просто накинул на плечи, не застегивая. Серый шарф машинной вязки был в несколько витков обмотан вокруг шеи. На лоб надвинутый козырек скрывал лицо, зато на фуражке отчетливо поблескивал череп. Об этой страшной фуражке ей столько приходилось слышать, что теперь, увидав ее воочию, не слишком удивилась. Немец снял с ноги сапог, просунул в него руку.
Марта, стиснув в руке револьвер, большим пальцем сдвинула предохранитель и нажала спусковой крючок. Раздался щелчок. Кровь от пяток отлила обратно к голове, взгляд померк в горячем тумане. Хорошенько тряхнув револьвер, Марта, уже не целясь, опять нажала на крючок и еще раз, недоумевая, почему же нет выстрела. А затем, вскочив на ноги, не то скатилась, не то спрыгнула с сеновала. К тому времени у немца тоже в руке был пистолет. Правда, и тут выстрела почему-то не последовало. Немец успел лишь оттолкнуть от себя Марту, рукояткой пистолета саданув ей по челюсти. Движение оказалось столь неловким, что он сам потерял равновесие. И вот они лежали на припорошенных сеном горбылях, целя друг в друга вороненые стволы и бешеные взгляды. Теперь когда с его головы слегка сползла фуражка с серебрящимся черепом, а у нее развязался и съехал черный платок, они узнали друг друга.
Индрикис, отплевываясь, потер ушибленное запястье. Затем, закрыв лицо ладонями, рассмеялся истерично и громко. Корчась от смеха, опять повалился на припорошенный сеном настил и гоготал, хватаясь за живот. Марта не смогла сдержать слез, тихонько заплакала, ощупывая подбородок, до того онемевший от боли, как будто чужой.
– Потрясающе! – у Индрикиса наконец прорезался голос. – За тобой стоит вся Россия, а за мной вся Германия, и все же нам не на жизнь, а на смерть приходится драться за ночлег в сарайчике нашего деда… Я тебя больно ударил? Не хнычь, не хнычь. Вырядилась пугалом огородным.
– Я могла тебя застрелить.
– Потри револьвером ушибленное место, а то синяк останется. Ну что, родственница, поздороваемся? Редко нам выпадает встречаться. Сколько я тебе там задолжал? Триста? Ты, поди, рублями захочешь получить, а у меня одни марки. Ничего, в Латвии теперь в ходу и та, и другая валюта.
– Замолчи! – Это было все, что Марта могла сказать. Подлаживаться к трепу Индрикиса у нее не хватало ни сил, ни желания.
– Ну нет, долг платежом красен, как ни крути, а на душе пятно. Особенно в наше время, когда в любой момент можно отправиться в райские кущи.
Индрикис извлек из внутреннего кармана пухлый бумажник, и послюнявив пальцы, отсчитал нужную сумму:
– Получи и проверь, деньги счет любят.
– Да будет тебе.
– Сначала дело уладим, а там и побеседовать можно. – Отступив на шаг, смерил Марту отчужденно-пытливым взглядом. – Хотя о чем нам с тобой беседовать? Разве что опытом по стрельбе обменяться? Что ж, изволь! Раздобудь для своего нагана другие патроны, похоже, эти отсырели.
– Что ты тут делаешь? Что на тебе за одежда?
– То же самое хотел бы у тебя спросить. Сдается мне, у нас с тобой одно несчастье, оба попали в аварию.
– Я что-то не улавливаю сходства.
– Ну да ладно, не будем спорить, – протянул Индрикис, – я к тебе в душу лезть не намерен. Своих забот хватает. Но к твоему сведению: я не играю ни в те, ни в другие ворота. Я сам по себе, лишь себя представляю.
Марта пригляделась к Индрикису. Дела его не блестящи, это сразу видно. Волосы, отросшие, немытые, словно барометр, отмечали и внешнее, и внутреннее неблагополучие. Нет, стоявший перед нею человек был далеко не тот прежний Индрикис из Зунте и даже не тот, которого случилось ей встретить в Риге. Она, пожалуй, не смогла бы объяснить суть происшедших перемен, но душой их почувствовала. Как будто человек, косивший прежде на один глаз, теперь окосел на оба.
– И давно?
– Давно ли, недавно… Главное – окончательно. Что было, то было, отрицать не собираюсь: немцы меня, как щенка недоутопленного, из мешка вытянули. И вообще у этих парней отличная выправка, с шиком и блеском умеют носить мундир. И фильмы у них колоссальные, мировой класс, уж поверь мне на слово. Но с идиотами, пардон, столковаться невозможно. Они, видите ли, собираются мир перекроить, а я за них всякими мерзостями занимайся! Да что я им, мясник, каннибал? Кровавые дела не моя специальность. Подите-ка вы все, господа, в одно место!
– Сами собой они вряд ли уйдут.
– Положим, так, но мне осточертело. Я привык жить в свое удовольствие. А не щелкать каблуками: слушаюсь! Jawohl!
Марте хотелось спросить, кто его снабжает продуктами, Леонтина или Паулис, но лишние сведения были опасным балластом.
– В Зунте много немцев?
– В последнее время поднабралось. Задумали в Зунте десантные баржи строить для вторжения в Англию через Ла-Манш… Надо отдать им должное, делают все аккуратно. Попадешься к ним в лапы, шею, как у жирафа, вытянут. На сеновалах залеживаться не рекомендуется. Нет, надо поскорей отдалиться и тем по крайней мере на ближайшее будущее обезопасить свою шею от галантерейного их обращения. – Это он произнес с холодной раздумчивостью, а затем, как бы опомнившись, сбросил с себя серьезность, переменил и тон, и выражение лица: – Ну, а ты что?
– Я? – Марта ощутила, как озноб прошелся по телу, снова напомнив о холоде. – Так… Пока ничего не решила.
– Ты вроде бы с Нанией вместе училась? Вы ведь одногодки.
– Учились. Да это было давно.
– В детстве ты была такая чудная. У тебя щеки, как у кролика, ходуном ходили. Помню, ты у нас на елке стишки читала: «В небе месяц серебрится яркий, в дверь стучится гном с подарками». Как-то мать мне велела сводить вас с Нанией в кино, а я сбежал. – Индрикис опять рассмеялся, закрыв лицо ладонями. – Если здраво подумать, мир устроен на редкость бестолково. Совсем как в полонезе: то вместе идем, то расходимся, там у елочки песни поем, здесь пытаемся пристрелить друг друга и вот торчим с тобой под трухлявой крышей, а где-то люди сидят в кинотеатрах, смотрят фильмы…
Длинная пауза завершилась философским плевком. Индрикис поднял голову.
– Документы у тебя есть?
– Смотря какие. – Марта пожала плечами. – Вообще-то нет.
– Без документов нельзя. Кое-каким аусвайсом могу тебя снабдить. Не бог весть что, да уж лучше, чем ничего.
Это был старый латышский паспорт с проштемпелеванной на первой странице большой буквой «Z», выданный на имя Ацилы Марцинкевич. Заметив на лице Марты недоумение, Индрикис выразился ясней:
– Это немецкая буква «Ц» – cigoiner. Цыган. Быть цыганом в новой Европе дело рискованное. И все же менее рискованное, чем, к примеру, русской партизанкой.
Марта отодвинула от себя паспорт:
– Где ты его достал?
– В этом бестолково устроенном мире. Быть может, на первых порах Ацила тебя выручит. Судя по фотографии, была очень даже аппетитным бабцом. Но смотри, дело хозяйское, не настаиваю.
Марта в Зунте не осталась. Все взвесив и обдумав, через две ночи на третью отправилась дальше. Поскольку фотография Ацилы Марцинкевич в самом деле имела с ней некоторое сходство, Марта все же взяла паспорт.
На нее по-прежнему никто особенно не обращал внимания. По воле случая принятое обличье оказалось удачным: в таком странном одеянии могла расхаживать горем убитая, слегка свихнувшаяся тетка. Под стать внешности Марта подобрала и реквизит. В одной руке обычно несла кошелку с брюквой и морковью, в другой веночек из брусничника.
Вжившись в роль и уповая на благоприобретенный опыт, Марта осмелела настолько, что от Саулкрастов до Риги добиралась поездом. На станции Вецаки в затемненный вагон вошел немецкий солдат с высоко поднятой – будто в нацистском приветствии – загипсованной рукой. Он устроился напротив Марты и всю дорогу поклевывал носом или мурлыкал какую-то песенку и громко сморкался.
Она решила прежде, чем отправиться в дальнейшие бега, побывать в Риге. Возможность, что ее в таком виде кто-то узнает, казалась крайне сомнительной, а в остальном людская толчея, пожалуй, была безопаснее, чем пустынные проселки и дороги.
Когда вышла на привокзальную площадь, у нее чуть колени не подкосились; сердце в груди заметалось, казалось – ну все, ну конец. И это был даже не страх, а волнение. От леденящей душу неизвестности и радости свидания, от любопытства и неверия, что все наяву происходит. Хотя приметы военного времени сразу бросались в глаза, город выглядел нарядным и милым, и люди прилично одеты, и витрины магазинов завлекали забытыми соблазнами, из кафе тянуло аппетитным запахом.
Небольшую лавчонку Марта заприметила давно. Там продавались карнавальные маски, веера, разноцветные рулончики серпантина, бумажные фонарики. Сделав вид, будто рассматривает пестрые штуковины, Марта постояла, настороженно приглядываясь к людям. Но и тут никто на нее не обратил внимания. Дыхание выровнялось, головокружение прошло, и опять она ощутила под ногами твердую почву.
Марта хитрила сама с собой: дескать, ничего не решила, ничего не знаю, никаких планов в голове. Вера и любовь вели ее к Атису. Когда в детстве на дерево залез ее любимый котенок Тинка и в отчаянии пропищал там день и ночь, на помощь пришел Атис. Когда она однажды нечаянно заплыла в разбушевавшееся по-осеннему море, Атис ее вырвал из пучины за волосы. Позднее Атис от нее был далеко, не то что старшие братья, с ним мало доводилось общаться, но каким-то мистическим образом он появлялся, когда она нуждалась в друге. И протягивал руку помощи. Пошучивая, подначивая, поругивая. Со своих гимназических, студенческих и докторских высот не брезговал снизойти до ее ничтожества. Лучше, благороднее, умнее Атиса не было для нее человека. В семье все любили Атиса, да и он свой беспечный, веселый, временами чудаковатый нрав расточал перед каждым с бездумной щедростью. Между ними, что ни говори, существовала некая близость, не заметить ее было нельзя. Разве не по воле и желанию Атиса приехала она в Ригу, что стало началом перемен в ее жизни? Именно ее избрал Атис, ей поверил. Как она тогда обрадовалась! Ухаживать за Элвирой и жить в больнице было нелегко, но Атис частенько наведывался, подбадривал, поддерживал. Даже подшучивая над ней или за что-то отчитывая. А роскошная квартира Атиса с пальмой и паркетными полами, скользкими, как первый лед на пруду! Огромный темно-серый каменный дом с крылатыми женскими фигурами над входом Марте казался настоящим дворцом. Когда умерла Элвира и оставаться дольше в Риге не было нужды, Марта обратилась к Атису за советом: как быть дальше? Она верила, Атис что-нибудь придумает. И Атис придумал: подыщем тебе интересную работу. Стыдно вспомнить, но, когда Харий предложил ей новое место, прежде всего она подумала об Атисе: вот уж он обрадуется, теперь ему не придется меня стесняться, моему славному, любимому, сильному и умному брату.
Подойдя к трамвайной остановке, Марта призадумалась. Так и казалось, в воздухе запахло знакомыми запахами – юфтевым ремнем кондукторского звонка, ручками из хрустящей кожи, лакированной фанеровкой сидений. Окна в трамваях были замалеваны синей краской, лишь на уровне глаз оставлена узкая полоска. Немцы садились в первые вагоны и только с передней площадки. Ей тоже хотелось, как раньше, подъехать к дому Атиса на трамвае, но осторожность взяла верх.
Темно-серый дом слегка пострадал. По фасаду тянулся пунктир пулеметной очереди, стекло парадной двери замещал картон. Но знакомая табличка с именем и часами приема доктора Вэягала висела на прежнем месте, и это смирило тянувшийся следом страх: что, если Атис перебрался на другую квартиру?
Открыла женщина, которой Марта никогда раньше не видела. Серое платье с крахмальным воротничком подсказало: каковы бы ни были ее обязанности в доме, по профессии она медицинская сестра. Одна из тех, от кого Марту в больнице в дрожь кидало. Есть такой тип медсестер, у которых на лице написано: явись сюда сам господь бог – и он для меня был бы всего-навсего пациентом, ничего не смыслящим в медицине. Взгляд женщины не выразил ни удивления, ни досады. Ее темные глаза говорили об одном – Марта пришла не вовремя, а потому у нее нет ни малейших шансов продвинуться хотя бы на пядь за пределы ее начальственного локтя.
– Мне бы повидать… доктора… – Марта решила не открываться больше, чем требовали обстоятельства. – По личному делу. Он меня знает.
Спокойно выдержав взгляд женщины, Марта подбросила еще несколько фраз, ожидая каких-то перемен к лучшему в этих бесчувственных глазах. Совсем как Леонтина: на весу держа совок, поглядывая на стрелки весов и подсыпая в пакет крупу.
– Часы приема вечером от шести до восьми.
– Я приехала из Зунте. Если это вам что-то объясняет…
– Доктора нет дома, он отлучился по делам.
– Я подожду.
– В одиннадцать он должен быть в больнице. Он не сможет вас принять.
– Он непременно меня примет.
Женщина, состроив не то обиженную, не то высокомерную гримасу, позволила ей пройти в приемную. Эту часть квартиры Марта видела впервые.
Пустоватое помещение, никакой роскоши, никакого уюта. Вешалка, белые венские стулья, цветочная подставка с хилыми аспарагусами, настенные часы. Марта сняла полушубок, платок развязывать не стала. Волосы были в жутком состоянии, хорошо хоть об этом вспомнила.
Немного погодя из соседней комнаты в приоткрывшуюся дверь высунулась головка бледной тоненькой девочки. Довольно долго они молча изучали друг друга.
– Ты, должно быть, Лилия?
– Какие тут сомнения, это я и есть! – Лилия вошла в комнату, села у стены напротив и с манерностью дамы расправила плиссированную юбку на своих угловатых коленках. Под мышкой у нее было зажато сразу три книги.
– Ты меня узнала?
– Отчего бы мне вас не узнать?
– Разве ты теперь живешь здесь? С папой?
– А где же еще?
– Раньше ты жила у мамы – в другом доме.
– В таком случае вы много знаете… В другом доме… Нет больше другого дома. И у мамы другое местожительство. Она теперь в краю белых медведей. Нудно и скучно, скажу вам, тоска зеленая… Меня как в тюрьме держат, гулять не пускают. А хочется сходить в «Турецкое кафе», наесться пирожных, но Шарлотта зажимает талоны.
У Марты опять подскочил пульс, она расслышала: открылась входная дверь, женщина что-то сказала вошедшему, ей глухо ответил мужской голос. Похоже, Атис. Позабыв о Лилии и начатом разговоре, Марта встала, немного сдвинула на затылок платок. Ей показалось, все вокруг опять заколыхалось, как при выходе с вокзала.
Атис стремительно шагнул в приемную – был он в черном пальто с бархатным воротом. Настолько стремительно, что над плечом его трепетно взвился конец белого шелкового шарфа. Женщина с гордо поднятой головой стояла в проеме раскрытой двери. И, очевидно, не собиралась уходить.
Атис заметно похудел, лицо осунулось. Но все это пустяки. А главным было то, что Атис смотрел на нее равнодушно и тупо, как в пустоту. Судя по выражению его лица, он Марту не узнал. Возможно, вообще ничего перед собой не видел и, повернувшись к ней, просто скрывал свою слепоту.
– Я бы охотно вас принял, но у меня действительно нет ни минуты времени. Прошу извинить, неотложные дела… – услышала Марта чужие слова из чужих уст. Да и голос теперь показался чужим, незнакомым.
Она потянулась к уголкам своего платка, но так неловко, что платок совсем съехал с головы, обнажив коротко остриженные, взлохмаченные волосы.
– Господин доктор в одиннадцать должен быть в больнице, – сказала женщина и добавила что-то еще о занятости, перегруженности.
Подошвами чувствуя уходящие из-под ног половицы, Марта направилась к двери.
– Вы забыли пальто, – донесся голос женщины.
Затем раздался крик Лилии:
– Послушай, папа! Ты что, не узнал?!
Атис не ответил, превозмогая усилие, поднес к глазам свою холеную руку фокусника, потер опущенные веки, – как будто, допоздна засидевшись за письменным столом, вдруг понял, что самое время отправиться на боковую, яркий свет раздражает, в глазах от строчек рябит, и звон в висках – все, хватит!
Марта, еще не перейдя порог, ощутила, как рухнула на нее и придавила собой немыслимая тяжесть свершившихся перемен. Она сама изменилась, изменился и мир. Ее всегда удивляло, как муха ухитряется сидеть на потолке и бегать по нему вверх ногами. Теперь весь мир – легко и просто – перевернулся. Пол оказался там, где прежде был потолок. Воздух отвердел, подобно полу, пол сделался воздушным и проницаемым. Марту не просто вжимало в потолок, ее по нему размазывало. И как она раньше не замечала: потолок был всюду – булыжный, асфальтированный, из цементных плит. Изменившаяся точка обзора все перестроила, преобразила. Город казался мерзким, грязным, опасным. Люди укоротились и сплющились, сплошные плечи, круглящиеся затылки да мельтешащие снизу башмаки. Все взлетело и собиралось там, где полагалось быть небу: плевки и сор, трамвайные билеты и оторвавшиеся пуговицы. Движения стали куцыми и короткими – люди катались, подобно шарам на бильярдном столе, – сближались, сталкивались, разлетались, откатывались.
От этого Марта уже не смогла оправиться. Шестнадцать дней спустя при попытке выйти на след заброшенной ранее партизанской группы на пароме через Лиелупе под Эмбургом по чистой случайности ее задержали агенты в штатском, и с тех пор ее точка обзора изменилась еще больше. Найденный у Марты паспорт послужил причиной для допросов, истязаний. Сотрудники тайной полиции с помощью современных методов анализа крови и примитивных пыток пытались доказать, что она вовсе не цыганка, но Марта стояла на своем: паспорт настоящий. В конце концов ее причислили к цыганам и спровадили в другой мир, о параллельном существовании которого она прежде имела крайне смутные представления. Все, что она до той поры перевидела, перечувствовала, пережила, в сравнении с этим показалось прекрасной прогулкой по живописному району бульваров и зеленых насаждений. Там, внизу, куда ее сбросили, гудели трубы канализации, клоачные стоки деловито и равнодушно отводили реки крови и слизи среди смрада, миазм и темноты. И если после разговора с Атисом перевернулся всего-навсего мир, теперь подобный кувырок совершило время, отбросив ее в кромешное изначалье с еще не зародившейся человечностью…