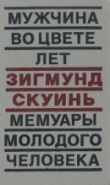Текст книги "Кровать с золотой ножкой"
Автор книги: Зигмунд Скуинь
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 23 страниц)
– Я разучился сидеть на стульях, – сказал Велло. – Тесновато. На берегу мне тоже не по себе. Стены давят.
Из кармана мокрых потертых штанов извлек серебряный портсигар с золотой монограммой. И папиросы оказались промокшими.
– Возьми с полки, – сказала Леонтина
– Не мешало бы и выпить.
– Что бы ты хотел?
– Я человек простой, не больно разборчив, всегда беру самое лучшее. Давай шампанского.
Леонтина усмехнулась мечтательно и грустно:
– Шампанское в последний раз тут пили лет двадцать назад, когда наши капитаны бороздили дальние моря.
– Ничего. Мы с тобой еще пошикуем. За это я ручаюсь.
Леонтина достала лучшее, какое у нее было, вино и собралась пойти за стаканами, но Велло, взяв с прилавка длинный нож, отсек бутылке горлышко и показал, как пьют вино без участия губ.
Взяв нож, Велло с ним уже не расставался. Тут же под рукой находилась всякая вкусная снедь. После каждого глотка Велло придумывал себе новую закуску. Кубики из ноздреватого сыра сменялись искусно нарезанными палочками сыра уже иного сорта, а после розовых, наподобие бутонов гвоздики сложенных кусочков окорока в ход пошли кружки затвердевшей сырокопченой колбасы. Все это Велло сам готовил, пробовал, угощал Леонтину, и лицо его светилось неподдельной радостью, ноздри массивного носа трепетали от соблазнительных запахов, глотка отзывалась восторженными звуками, так что даже Леонтина поспешила отдаться чуждому ей прежде чревоугодию.
Пир продолжался до утра. На рассвете, когда Велло снял ее с прилавка, подержав немного на весу, она сообразила, что совершенно пьяна. Желудок отяжелел, а в голове пустота. Велло, не выпуская ее из рук, между прилавком, полкой с шорными изделиями и селедочными бочонками закружил Леонтину в вальсе, своим хрипловатым голосом напевая с такой одержимостью, что весь дом звенел:
– Ei paremat pole kuskil maal, kui suisel ajal Saaremaal{11}11
Нигде не бывает так чудесно летом, как среди моря вблизи острова Сааремаа (эст.).
[Закрыть]. Золотко, не завалялась ли на полках еще одна забытая богом бутылка?
Бутылка нашлась, и на этот раз в качестве закуски Велло облюбовал инжир.
– Инжир штука полезная, – объявил он. – Инжир еще в райском саду произрастал. Инжир я потребляю пудами. Ого! Этот мешочек я прихвачу с собой в дорогу.
– Ах ты, дурашливый мой Велло! Почему ты не явился раньше! – сокрушалась Леонтина, обеими руками вцепившись в седую поросль на его груди. – Хоть убей, но я еще никого так не любила!
Утро занималось в тумане и торжественной тишине. Ветер попахивал дождем, намокшими лепестками жасмина и морем.
– Провожу тебя до лугов.
Велло, сладко потянувшись, кинул за спину мешок с инжиром, точно волк задранного ягненка. Добравшись до конца проулка, он опять запел, поглядывая на Леонтину, и она не сводила с него глаз, шлепала босыми ногами по теплой земле, сжимала бугрящуюся мускулами руку Велло.
Леонтине в голову не приходило таиться, что-то скрывать. Безмерно удивленная своим запоздалым счастьем, не в силах отрешиться от сомнений – возможно ли вообще такое в ее возрасте? – она жила одним порывом: ежеминутно чувствовать, переживать это прежде ей неведомое чудо. Так иной раз ребенок, получив желанную обновку, не отрывает рук от головы, чтобы быть уверенным, что шапка действительно при нем. Встречи Леонтины с «пиратом, сумасбродом и бродягой» в таком маленьком городке, как Зунте, не могли долго оставаться тайной. Случилось так, что первым Леонтину с Велло на укромной лесной поляне лунной ночью приметил не кто иной, как Паулис Вэягал. И хотя он не был на все сто процентов уверен, что не обознался, – он и сам с той же целью находился в лесу с пылкой, страстной, но безумно пугливой Миллией Курпниек, – тем не менее Паулис не смог себе отказать в удовольствии пальнуть сенсационной новостью, как яркой ракетой.
В Крепости его сообщение особых волнений не вызвало.
– Леонтина всегда была слаба на передок, – только и молвил на это Август.
Он достиг того возраста, когда страсти уже не бурлят в обложенных грозовыми тучами нижних слоях атмосферы, а витают где-то высоко в безмятежном небе, какое бывает перед наступлением холодов. Августа теперь занимал один вопрос, который ему еще осталось разрешить в этом мире: как между наследниками разделить хутор «Вэягалы». Петерис был женат, имел двоих детей. Паулис каждую ночь по девкам бегал, надо думать, тоже до чего-то добегается. А вот Атису требовались деньги, тот в Риге на доктора учился.
Антония, будучи намного моложе, в глубине души уязвленная всякими обидами и недовольствами, от которых раньше ли, позже ли начинают страдать все жены при старых мужьях, усмотрела повод, чтобы поспорить с Августом.
– А сам! – воскликнула она. – Ты, что ли, не был в свое время слаб? Или уже не помнишь? А Леонтину жаль, такая видная, еще крепкая женщина. Взяла бы порядочного мужа, не пришлось бы валандаться со всякими сезонными подручными.
Вполне понятно, что такие речи, правда совсем с другой стороны, докатились и до слуха Индрикиса. Для него это явилось еще одним лишним доказательством отвратительной действительности. Доказательством того, что он всеми обижен, что ему повсюду норовят подставить подножку. Теперь и мать оказалась такой… «Вот возьму и повешусь, будет знать. Или сбегу из дома… В Ригу поеду, подамся в матросы. Я уже взрослый…» Обняв колени, Индрикис уселся с ногами на кровать и с одержимостью всех безвольных, трусливых людей попытался утолить отчаяние, придумывая различные планы мести, в которые сам не верил. Все было против него, все оборачивалось для него в насмешку и наказание. А теперь еще постыдное поведение матери…
В тот же день Индрикис взял из ящика у матери сто латов, хотя ничего определенного относительно побега пока не решил. Неделю спустя Индрикис прикарманил и вторую сотню латов. Когда же он не явился на экзамен по математике, завязав тем самым новый узел неприятностей, выход сам собой напрашивался. Индрикис облачился в свой лучший костюм, набриолинил волосы, старательно надел перед зеркалом серый котелок фирмы «Борсалино» и, оставив матери записку, отправился на окраину города, поскольку ему не хотелось садиться в автобус на базарной площади на глазах у всех.
Наконец он на свободе! Но вместо долгожданного чувства облегчения давила какая-то тяжесть. Глаза постреливали во все стороны, сердце стучало тревожно, словно вся рижская полиция сбилась с ног, его разыскивая, а в Центральной тюрьме для него была уже приготовлена камера. Недостатка в деньгах он не испытывал, а как вести себя в отелях, ресторанах и других общественных местах, он назубок выучил, наблюдая за блестящими денди киноэкрана. И тем не менее у него поджилки тряслись от страха и сосало где-то под ложечкой.
Покружив по центральным бульварам, Индрикис вспомнил, что весь день не ел, и остановился перед сверкавшей медью дубовой дверью «Римского погреба». Навстречу вынырнул плечистый швейцар, которого сдвинуть с пути, похоже, было бы не легче, чем груженый вагон.
– Пардон, – пробормотал Индрикис, вскинув к котелку два пальца.
Чуть дальше попалось кафе. В тот момент, к счастью, туда входила гурьба молодых людей, и Индрикис, собравшись с духом, бросился следом за ними, как самоубийца с камнем на шее бросается в омут. В полупустом зале нежно ворковала музыка. Предупредительные официантки бесшумно скользили взад-вперед, без видимых усилий пронося высоко поднятые подносы с посудой. Индрикиса осчастливили меню, одарили улыбкой и приголубили вниманием.
– Подайте мне…
Уверенно начатая фраза повисла в воздухе. Он умолк, не зная, что дальше сказать. Официантка понимающе глянула и принесла ему чашечку черного кофе и стакан воды. Он выпил три таких чашечки кофе и три стакана воды, прежде чем решился попросить принести десяток пирожных.
До закрытия кафе Индрикис заказал себе еще бульон, три пирожка, сдобных булочек и несколько кусков торта. После рюмки шартреза волнение немного улеглось, а после мартеля стало совсем хорошо, затем, поочередно дегустируя мокко, липкое шерри и осклизлый бенедиктин, Индрикис медленно, но верно стал перемещаться в некие блаженно-лучезарные сферы. Точка была поставлена, когда вдруг явилась мысль разыскать Атиса Вэягала. Адрес его он в свое время занес в записную книжку. Извозчичья пролетка повезла его куда-то, конские подковы на брусчатке мостовой выбивали размеренную дробь – клик-клак, клик-клак. Вокруг стояла тишина, и в какой-то момент ему показалось, что его доставили обратно в Зунте, однако на душе было покойно и хорошо.
Не без труда выбравшись из пролетки, он себя увидел стоящим перед высоким зданием. Черной головешкой в усыпанное звездами небо упирался церковный шпиль. Парадная дверь дома, к счастью, оказалась незапертой. Благополучно поднялся до первой лестничной площадки, а дальше – темнота. Потолкавшись в потемках, Индрикис присел на ступеньку лестницы и задремал.
Его разбудила девушка с корзинкой в руке, должно быть служанка. Та приняла его сначала за мертвеца, потом за грабителя и лишь потом за студента. После того, как он сообщил, что разыскивает Атиса Вэягала.
– Ах, Атиса, – как-то многозначительно протянула девушка.
Атис Вэягал жил на шестом этаже, где лестничные перила уже не украшало чугунное литье, а дверь была низкая и узкая. При появлении Индрикиса в мансарде лежавший на широкой железной кровати Атис даже не повернул к нему головы.
– Кто бы ты ни был, – пробурчал Атис, – сейчас же сбегай в монопольку, притащи четвертинку и полдюжины пива. Если нет денег, сволоки в ломбард скелет, заложи часы. И быстро!
Когда же Индрикис не сдвинулся с места, в нерешительности продолжая переминаться с ноги на ногу, взлохмаченная голова нетерпеливо оторвалась от подушки:
– Ну, что стоишь как столб…
– А где эта самая монополька?
Голова сначала подскочила кверху, а затем повернулась лицом к Индрикису:
– Что вам тут нужно? Кто вы такой?
Встречаться им доводилось и прежде, однако теперь пришлось знакомиться заново. Особой радости Атис не выказал.
– Черт бы тебя побрал! – Весь скривясь, он растирал ладонью лоб. – Приперся спозаранок – Знал бы ты, что значит упиться глинтвейном и каково терзаться похмельем. Брысь отсюда! Зайдешь через неделю!
Когда Индрикис вернулся с затребованной четвертинкой, они друг к другу присмотрелись повнимательней. И надо сказать, обоюдные симпатии заразили их весельем, как иной раз обоюдная скука заражает зевотой.
– Родственничек разлюбезный, а у тебя, как погляжу, руки тоже дрожат с перепоя. Ну да ладно, вместе будем лечиться, – рассмеялся Атис.
Умывшись, побрившись, причесавшись, Атис Вэягал обрел наружность вполне светского человека с киноэкрана. Атис тоже пользовался бриолином, его желтые, типичные для Вэягалов волосы казались потемнее, чем у Паулиса и Элвиры. Свою белую сорочку Атис с перепоя основательно заспал, но как– никак это была крахмальная сорочка! Смокинг с обмякшей розой в верхнем кармане болтался на костлявых плечах скелета. Настоящие человеческие кости – к тому же аккуратно, в порядке скрепленные – Индрикис видел впервые в жизни. Еще он обратил внимание на валявшиеся под кроватью лаковые штиблеты, которые характеризуют джентльмена куда белее основательно, чем на мелованной бумаге отпечатанная визитная карточка. Стол был завален книгами и остатками простецкого ужина – сало, конопляное масло, черный хлеб. В углу мансарды, совсем как печная кочерга, стояла прислоненная к стене рапира.
Озорные глаза Атиса в первый момент делали его похожим на Паулиса. На самом деле взгляд у Атиса был иной, за его усмешкой скрывалась бесцеремонная любознательность. На собеседника он поглядывал, как пес на столб, сосредоточенно и весело, как бы оттягивая удовольствие и все же с жадным интересом.
Ободряемый братским участием и выпитым вином, Индрикис понемногу вытряс все, что лежало на сердце, обретя под конец то чувство облегчения, что охватывает раскрывшего душу человека. На том и держится многовековая мистерия отпущения грехов. Все, что терзало, томило, душило, давило, теперь прорвалось наружу и устремилось по найденному руслу. Не сказать, что монолог Индрикиса получился особенно связным. Он хныкал, всхлипывал, покусывал губы, грыз ногти, кулаком размазывал по лнцу слезы, ворошил свою шевелюру, то и дело роняя такие фразы, как: «Просто какой-то кошмар!», «Это невыносимо!», «Мир ужасен!», «Выхода никакого!», «Ты меня понимаешь?» и т. д.
– Понимаю, понимаю, – сочувственно кивал головой Атис, кривя губы в усмешке.
– Конец мне… Впору хоть повеситься.
– С этим не спеши, срок придет, смерть тебя разыщет.
– Но я сам себе омерзителен. Понимаешь? О-мер-зи-телен…
– Диагноз довольно вульгарный.
– Безнадежный случай!
– Ха! А ты не пробовал искать спасения?
– Конец.
– В кошельке у тебя что-нибудь осталось?
– Что? Деньги? Денег у меня навалом.
– Тогда о чем говорить. Все будет в порядке!
Часом позже они уже были в одном из девяноста девяти заведений улицы Дзирнаву…
Исчезновение сына в известной мере отрезвило Леонтину от любовного дурмана. Всю жизнь, с того дня, как родился сын, она жила в постоянном страхе за его судьбу, и страх этот стал ее второй натурой. Индрикису постоянно что-то угрожало. Леонтина не помнила поры, когда бы благополучие сына не трепетало, подобно пламени свечи на ветру. Увлекшись капитаном Велло, Леонтина всего на какой-то момент выпустила его из поля зрения. И конечно, тут же подоспело очередное несчастье.
Но что-то все же изменилось. Привычные материнские страхи теперь отягчались злостью, разочарованием, печалью. «Мерзавец, бесстыдник. Вылитый Озол, весь в отца, такой же отьявленный эгоист. Дурень безмозглый! Свободы ему захотелось…» Дав волю досаде, она впервые смогла оценить сына безо всяких скидок на нежность и самообольщение. «Никуда он от меня не уйдет, – раздумывала Леонтина. – Индрикис слишком безволен, чтобы взвалить на свои плечи бремя самостоятельности. Послоняется немного – это пойдет ему на пользу, будет хороший урок. Ну, погоди, паршивец, подвернись мне под горячую руку».
Шли дни, неизвестность томила. Полиция в это дело вмешиваться отказалась, оставленная записка, дескать, не дает оснований говорить об исчезновении. Леонтина уж подумывала взяться за розыски сына с помощью газет и последнего технического новшества – радио, но потом решила, что это не годится, ведь Индрикис не был ни глухонемым, ни слабоумным. Отвергнуты были и другие планы, например объявить о розыске Индрикиса в качестве должника, свидетеля и проч. Все кончилось тем, что Леонтина разослала письма нескольким рижским Вэягалам, Атиса Вэягала, к сожалению, упустив из виду.
А Индрикис столь же неожиданно, как исчез, одним прекрасным утром еще до открытия магазина появился в доме. Немного помятый, слегка осунувшийся, а в общем все тот же Индрикис, и вед себя так, как будто ничего особенного не случилось. Леонтина, глядя на сына, ощущала странную двойственность: нанесенная им обида доставляла ей что-то вроде облегчения. Неужели она себя чувствовала виноватой перед Индрикисом из-за своей любви к Велло? Мысль эта так поразила Леонтину, что и злость притупилась.
– Вот ты и вернулся домой, дорогой сынок. Заодно скажи, как дальше жить будем. Чтобы я знала.
– В гимназию больше не вернусь.
– Об этом еще потолкуем.
– Свои дела сам буду решать. Я уже не ребенок.
Последнюю фразу Индрикис произнес, отведя глаза. В голосе прорезались такие жесткие нотки, что Леонтина от удивления и неожиданности оторопела.
– Ты об этом еще пожалеешь, – презрительно усмехнулась она, прекрасно понимая, что за ее угрозами не стоит ничего, кроме слепой покорности судьбе.
Слава Велло продолжала расти. Особенно после «большого винного чуда», которое всезнайка Клеперис (внук Клепериса Старшего) тотчас связал с именем Велло. Само же чудо описывали так.
Городской голова Зунте толстый Вилцынь в ознаменование своего первого правления на базарной площади велел выстроить бассейн с фонтаном. Роскошь непрактичная и весьма сомнительная, если учесть, что суровый климат пять месяцев в году заставлял держать бассейн пустым, а фонтан бездействующим. Где-то под Янов день, поздно вечером в кафе нового дома обществ вошел незнакомец и первым делом купил сигары, затем подсел к столу и попросил себе чая с ромом. Пустобрех Анцверинь, подрабЬтывавший в пограничной полиции, под предлогом трубку раскурить или просто поболтать со свежим человеком подсел к нему, стал допытываться, по какой надобности незнакомец объявился в Зунте и чем вообще занимается, на что поздний посетитель ответил, что он ученик Иисуса по имени Захария, а в Зунте находится по пути в Месопотамию, занимается же главным образом превращением воды в градусные напитки. Тогда Анцверинь спросил, не мог бы незнакомец хотя бы ведерочко, не сходя, как говорится. с места, превратить. «Ведерочко? – усмехнулся тот. – Ради ведерочка и рук марать не стоит». – «Ну, тогда изволь сделать так, чтоб водки был полон бассейн на базарной площади», – не унимался Анцверинь. И незнакомец ответил: «Вот это другой разговор!» На следующий день Анцверинь шутки ради черпанул из бассейна ковшиком ладони и чуть не поперхнулся – в самом деле водка! То, что местные пропойцы трое суток на карачках ползали, в полной мере отвечает истине. Позднее, правда, историю пытались приукрасить – будто бы водка била струей из фонтана. В действительности в тот день фонтан по неустановленной причине бездействовал.
Интимные отношения Леонтины и Велло продолжались два года, восемь месяцев и семнадцать дней. Счастливейшая пора в жизни Леонтины. В памяти зунтян Велло сохранился как сорвиголова, искатель приключений, у которого карманы топорщатся от денег. Из уст в уста передавались рассказы о его бесстрашии, несметных богатствах, расточительности. Истинная история Велло Леонтине открылась постепенно, в основном уже после его гибели.
Родился он в приморской полосе, в бедной крестьянской семье. Отцу приходилось кормить одиннадцать ртов, подчас на столе не хватало и хлеба. Но любимой присказкой старика Велло была такая: «Чада милые, помяните мое слово – нищему никто не рад. Если у меня завалялась в кармане копейка и кто-то попросит ее, я отдаю без раздумий».
Когда у них сгорел дом, семья отправилась попытать счастья в Сибирь. На новом месте, на далеком Алтае, брат Велло, его двойняшка, влюбился в дочку тамошнего богача. В драке брата угораздило выбить глаз тому, кого подкупили его проучить. В отместку брата позднее схватили и повесили как конокрада, предварительно переломив руку в трех местах. А Велло пришлось спасаться бегством – его нередко принимали за привидение, а потому пытались проткнуть рябиновым колом; и пороли его не раз, приговаривая: «Поди догадайся, который из них виновный. Не худо бы и этого повесить для верности».
На родине Велло забрали в армию и послали в Кронштадт. Семью годами позже он уже мичман, награжденный крестом Святой Анны четвертой степени и серебряной дудкой. После подавления эсеровского мятежа Велло удается на шлюпке бежать из Кронштадта в Швецию. Оттуда он тайно пробирается в Петроград за женой и двухлетней дочкой Нанией. Жене не понравилось в Швеции: язык чужой, народ высокомерный, и с мужем не стало взаимопонимания. При первой возможности она с дочкой возвращается в Латвию. Велло продолжает в Гетеборге грузить суда, затем перебирается в родную Эстонию. Не помышляя о перевозке спирта, он время от времени на парусной лодке наведывается на латвийский берег дочку проведать – так оно и проще, и дешевле. Затем какой-то доброхот предлагает ему моторку, взамен испросив небольшое одолжение – помочь неимущим пьяницам соседнего братского государства. Ибо «где же справедливость, если в одной стране спирт дорог, а в другой дешев, хотя и тут, и там народ единой веры, проповедующей равенство и справедливость». У самого Велло нет ничего. За ним стоят люди, они все улаживают, знают все ходы и выходы, поставляют товар, берут себе львиную долю прибыли,
К моменту встречи Велло с Леонтиной его разведенная жена умерла, дочку приютила сестра бабки. Потом и ее не стало. Как-то ночью Велло опять постучался, Леонтина спустилась, открыла дверь и увидела рядом с ним худенькую, голенастую девчонку в диковинном одеянии – домотканая юбчонка и лаковые туфельки, простецкая блузка и соломенная шляпка с атласной лентой, Нанни было восемь лет.
Под мышкой она держала горшок с миртовым деревцем, в другой руке фотографию матери в рамке. Прочее имущество умещалось в чемодане средних размеров.
– Пусть пока дочка у тебя побудет, – сказал Велло. – Больше не на кого оставить. Потом подыщу школу с интернатом – в Риге или Лимбажах.
– Бедный ребенок! – Леонтина привлекла к себе девочку, и та с безоглядной доверчивостью припала к ее груди, всколыхнув умиление и ревность, настороженность и обожание. Те же смешанные чувства миг спустя перекинулись на Велло. Ведь девочка была частицей его самого, и хорошо, что Нания останется при ней. – Проходи, детка, проходи…
Девочка не двинулась с места, еще крепче прижалась.
– Она спит, – пояснил Велло, – ничего, завтра наговоритесь.
А Нания в самом деле спала. Пока Леонтина ее раздевала, усаживала на горшок, укладывала в постель, она лишь изредка кивала головой и один раз тихо вздохнула.
Леонтина с Велло, как обычно, встретили рассвет, бродя по лугам, словно оба отлетели к поре восторженной юношеской любви с ее обязательными прогулками, любви, что в свое время обошла их стороной. От банальных вариантов близости с мужчиной Леонтина сохранила безотрадные впечатления. И потому на этот раз умышленно и неумышленно попыталась избежать всего, что напоминало о прошлом. Например, она не допускала Велло в свою спальню, ей казалось: как только он ляжет рядом с нею под одеяло, произойдет трагическое превращение – и капитан Велло обернется в двойника Алексиса Озола.
Непременные ночные скитания Велло считал «причудами сумасбродной бабы» и все же был покладистым спутником. У Леонтины он обычно появлялся усталым, взмыленным, запущенным. Беспорядочный и безалаберный образ жизни все больше становился в тягость, да и годы о себе давали знать. Беспечные прогулки позволяли отдышаться, немного прийти в себя. Ночная темнота, мерцание кротких звезд, застывшие деревья и туман, обтекающий сенные сараи по лесным лугам, временно снимали бремя забот. Роснап свежесть летнего утра заряжала бодростью, жизнелюбием.
Держа в своей ладони пальцы Леонтины, он смотрел на мир совсем другими глазами, подмечая то, что раньше упустил, недоглядел.
В эти ночные прогулки Велло нередко подумывал о том, что наконец нашел женщину, которой можно доверить все. Но, как ни странно, эта мысль не побуждала к болтливости, с него было достаточно одной убежденности. Иногда они часами не говорили ни слова. Велло что-то напевал или насвистывал, Леонтина пучком трав отгоняла комаров. Ночной воздух то теплыми, то прохладными волнами перетекал через дорогу, еще хранящую накопленное за день тепло, и, казалось, нашептывал им: не торопитесь, все приходит и все уходит.
Помимо таких раздумчиво-спокойных часов бывали бури, когда глаза их – спаявшись и слившись – полыхали ярым огнем. Ночной воздух сгущался, становясь удушливым, как в предгрозье. Дурманили запахи таволги, лесной гвоздики. Вдалеке шумело море.
– Остановись, – говорила она.
Велло, тихо посмеиваясь, хватал ее в охапку и медленно поднимал, пока трепетная ложбинка меж ее грудей не оказывалась у его губ. Леонтина запускала обе пятерни в потные горячие волосы Велло. Потом она уж ни о чем не думала, как с началом приступа ни о чем не думает больной, лишь смутно предугадывая дальнейшее. А руки Велло все поднимали Леонтину, его губы и зубы пощипывали ее, как нежные ветки липы пощипывает козел. Леонтина потихоньку поскуливала и сучила ногами, а затем, бедром прижимаясь к лицу Велло, всеми силами рвалась обратно к земле. Огромный нос Велло пропахивал все ее тело. За носом следовали губы, острые, как зубья бороны.
– Лемех ты, мой лемех…
А затем, как бы слившись с землей, в часть земли превращаясь, она тяжелела, делалась такой тяжелой, что даже ручищи Велло уже не могли ее удержать. С колыханьем раздвигались белые цветы. Тяжесть Велло плющила ее, слосно пласт земли, наизнанку выворачивала. Руки обвивали шею Велло. И хотя ей, как прежде, казалось, что она стала частью земли, Леонтина ощущала: ее пальцы опускают корни в спину Велло. Жива, она была жива.
Редкие облака наливались светом, близился восход. Над лицом Леонтины склонялся подмаренник. Голосили птицы.
Той осенью в Зунте опять проходили выборы. У власти находился толстый Вилцынь. К предвыборному спектаклю партия тощего Круминя намеревалась выйти в плаванйе под парусами борьбы с коррупцией. Судьбу Велло решила идея Круминя опорочить Вилцыня, разоблачив его связи с контрабандистами. На этом можно было раздуть грандиозный скандал, возбудить умы, растравить чувства. Учитывая людскую склонность к сенсациям и всеобщей справедливости, временами ставящей человека на сторону закона, а не его нарушителей, относительно исхода сомневаться не приходилось. Все прочее было делом хорошей режиссуры. Особых усилий не требовалось, у Круминя друзья были и в полиции, и среди пограничников.
Старому Мику Хедама и во сне не снилась та роковая роль, которую отвели его источенной ревматизмом персоне. Сам того не ведая, из рыбака он превратился в некое подобие рыболовной снасти. В порт прибыли быстроходные катера, на приморской тригонометрической вышке засели наблюдатели.
Как-то ночью, когда Велло на своей «Росалии» доставил очередной груз, а Мик Хедама на весельной шлюпке вышел ему навстречу, пограничники подвалили с обоих бортов и с кормы. Вдоль берега стояли посты. Светили прожекторы, взвивались ракеты.
В соответствии с задуманным капитана Велло собирались вынудить пристать к берегу и там схватить с поличным. При разработке плана, однако, не учли такой мелочи, как строптивая натура Велло. Убедившись, что все пути отступления в море отрезаны, он, вопреки расчетам преследователей, направил моторку не к берегу, а прямиком на пограничный катер. Позднее со всеми подробностями и живыми деталями происшествие описывали газеты «Яуиакас зиняс», «Брива земе» и «Пэдея бриди». Пограничники палили в воздух, а Велло вел свою моторку, нацелясь в борт ближайшего катера. Когда стало ясно, что «Росалия» может уйти, пограничники уже по-настоящему открыли огонь. На следствии не было доказано, что стрельба велась зажигательными пулями, однако в результате прямого попадания воспламенился бак с горючим, и «Росалия» разлетелась на куски. Вперемешку с ракетами над морем взметнулся огненный столб и, разрастаясь, ушел под небеса. Труп Велло выбросило на берег спустя семьдесят восемь дней, когда залив уже стал покрываться льдом. Труп смогли опознать лишь по пряжке ремня и художественной татуировке, которая в свое время в Кронштадте была предметом всеобщего внимания: чуть пониже поясницы, в дискретное отверстие со спины спешит юркнуть мышка.
Мика Хедама арестовали в строгом соответствии с первоначальным планом. Он тотчас выложил все, что ему было известно, и бесконечно расчувствовался, когда его портрет появился в газетах не только по эту, но и по другую сторону границы, где у него было много родственников.
Между тем предвыборная кампания исказилась до неузнаваемости, как искажаются лица в кривых зеркалах потешного балагана. Толстому Вилцыню свою кандидатуру пришлось снять, но и тощего Круминя прокатили на вороных. Зунтяне шутя уверяли, будто его провалили обозлившиеся пьяницы. Насколько это соответствует действительности, трудно сказать. Но винным перегаром у могилы Велло попахивало и в знойные дни, и в зимнюю стужу. На скромном могильном камне кто-то постоянно оставлял пустые бутылки, и не было компании, которая, в кладбищенской тиши хватив по глотку крепкого, забыла бы последнюю каплю пролить на цветник капитана. Это стало обычаем. И сегодня могилу Велло вам укажет в Зунте каждый ребенок, в то время как место погребения толстого Вилцыня и тощего Круминя быльем поросло.
11
Элвира приближалась к тридцати годам и все еще была не замужем. Поговаривали, будто число отвергнутых ею поклонников измерялось двумя дюжинами. Среди пострадавших был не один богатый, видный и бойкий парень в Зунте Глаза Элвиры – один зеленый, другой карий – становились как будто все больше. Зато фигура словно бы тончала, делаясь все более хрупкой, точеной, девической. Свою роль тут, конечно, играла и переменчивая мода. На смену мешковатым платьям «чарльстон» пришла плотно облегающая одежда, превозносившая прелести Элвириного стана. Свидетельством застоя и метафизической грусти, коими время неизбежно метит всякую старую деву, в ее наружности служила, пожалуй, лишь неизменная прическа; как и двадцать лет назад, Элвира носила косу с заплетенной в нее черной шелковой лентой.
О причинах недоступности Элвиры ходили разные сплетни, одна нелепее другой. А истинная причина была проста, и потому, возможно, до нее никто не додумался. Даже Леонтина, хотя это как раз объяснимо: после гибели Велло не стало прежней Леонтины, лишь к магазину продолжала она проявлять маломальский интерес. Ах да, еще к розыскам Ноасова золота, на чем заклинилось ее сознание, со временем превратившись в маниакальную идею. Настоящая причина заключалась в том, что Элвира была влюблена в своего двоюродного брата Индрикаса. Да, конечно, рассудком она понимала уродство подобной любви, но что от этого толку? Помимо всего прочего, она была на четыре года старше Индрикиса. Боже мой, боже мой…
Своего двоюродного брата Элвира полюбила, еще не видя его. Об Озолах у них в доме частенько говорилось. Индрикис живет в России, у Индрикиса отца застрелили, Индрикис едет в Зунте… По ночам ей снилось: печальный юноша среди снежных равнин. При встрече Индрикис, разумеется, оказался иным – заносчивым, важным, кичливым. Зато Леонтина прелесть, и магазин ее так и манил к себе. Под конец все смешалось. Элвире опять стал сниться Индрикис. Теперь она с ним обитала под одной крышей. Никогда-никогда не чувствовала она себя такой счастливой!
После памятной поездки в Ригу Индрикис переменился. Теперь им чаще приходилось бывать вместе, Индрикис стал больше заниматься магазином. Однако не то было главное. Взгляд у него изменился: всякая женщина почувствует, какими глазами на нее смотрят.
Однажды поздно ночью, вернувшись с какой-то попойки, Индрикис бревном ввалился к ней в комнату. Набриолиненные волосы косицами спадали на окровавленное лицо, из английской шерсти дорогой костюм был помят и порван. Немного придя в себя, омертвевшая от страха Элвира утерла ему лицо мокрым полотенцем. Жизнь Индрикиса, слава богу, была вне опасности, раны оказались неглубокими, проще говоря, царапинами.