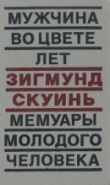Текст книги "Кровать с золотой ножкой"
Автор книги: Зигмунд Скуинь
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 23 страниц)
На этот раз Эдуард отказался от автомобиля. Спать все равно не придется, лучше пройтись по свежему воздуху. Камни мостовой пахли осенним дождем и палыми листьями. Такую тишину Эдуард помнил лишь в юные годы на опустевших сжатых полях родного Зунте. Не спеша спускался он к Москве-реке.
Вернувшись в общежитие Дома профсоюзов, Эдуард долго мылся холодной водой, затем стал укладывать чемодан. По правде сказать, укладывать было нечего, просто вынул вещи, прихваченные с собой для поездки в Латвию: отрез натурального шелка для Леонтины, всякие пустяки для обилия родственников, о существовании которых он всегда помнил и которые придавали ему смелости жить. Добра получилась изрядная куча, чемодан заметно полегчал.
Вошла Минна Николаевна с чаем.
– Тут у меня остались кое-какие мелочи, – затоварил Эдуард, испытывая смущение. Стеснительность была досадным свойством, ей всегда удавалось отыскать уязвимые места в его самонадеянности. – Будьте любезны, приберите. Пятнадцать лет домой собираюсь съездить, да все путь не лежит. Не везти же обратно за океан.
Умные, на своем веку много повидавшие глаза Минны Николаевны наполнились слезами. Можно было подумать, она ничего не расслышала. Смотрела на него как на человека, потерявшего рассудок.
Под вечер следующего дня Эдуард был уже в Хельсинки, а на исходе того же месяца вернулся в Техас.
Встретившись с другими руководителями партии и сделав сообщение о съезде, Эдуард известил о своем намерении перебраться в Мундосу. Мнения высказывались различные, однако большинство план его поддержало.
Душным и знойным февральским днем Эдуард в традиционном мундосском одеянии – белых хлопчатобумажных штанах и темной безрукавке – появился в столице Мундосы Суаресе. Само собой разумеется, на голове у него было сомбреро, на ногах медными заклепками разукрашенные сапоги на высоких каблуках. Все пожитки Эдуарда уместились в деревянном сундучке с ручкой из коровьей кожи. Время для приезда было выбрано с расчетом. В феврале, накануне затяжного поста, вся Мундоса погружается в празднества. Это пора больших коррид, и переполненный приезжими Суарес бурлил, на площадях звенели песни, ликующие голоса; толпа завыванием и криками гнала по улицам к стадиону взбешенных быков. Из окон бросали охапки цветов, конфетти. По вечерам палили ракеты, в россыпях искр крутились колеса потешных огнен.
Приноровившись понемногу к местным условиям и присмотревшись к городу, Эдуард в нешумном районе, в окрестностях церкви Санхуана Марии Вианнейи, снял квартиру в доме староиспанского стиля, нижний этаж его был приспособлен под магазин. Учитывая слабость мундосцев к огнестрельному оружию, Эдуард поначалу собирался заняться продажей револьверов и охотничьих ружей, но остановился на сувенирах. Оружейные магазины во время мятежей и путчей обычно закрывали. Нередко их громили как приверженцы нового диктатора, так и сторонники свергнутого. К тому же торговля сувенирами сулила куда более обширные контакты. Изготовлением красивых поделок в свободное время занимались и бедняки-крестьяне, и вполне обеспеченные горожане, интеллигентов привлекали новые формы народного промысла, а покупателями были в основном приезжие.
Своего единственного работника Эдуард отыскал перед домом: вытянув ноги, на запрокинутое лицо, как острие утюга, набросив сомбреро, полеживал под дверью закрытого магазина.
– Прошу прощения, но вам придется перебраться на другое крыльцо, – сказал Эдуард.
Человек не спеша указательным пальцем сдвинул сомбреро к затылку, поглядел на него и понимающе кивнул. Ему могло быть лет пятьдесят. Заострившиеся черты говорили о недоедании.
– Вам здесь нравится?
– Я в этой лавке когда-то работал.
– Кем?
– Разносчиком. Зазывалой. Мойщиком окон. Подметальщиком. Могу и стряпать. С двадцати шагов попадаю в глаз лягушке. Умею держать язык за зубами.
– Тебя как зовут?
– Родригес.
– Родригес? Вот тебе моя рука, считай, ты не менял работы. Чтобы не путаться, буду звать тебя Хосе.
Человек медленно поднялся и, протягивая руку, шагнул навстречу Эдуарду.
– Ты хром на одну ногу?
– На обе.
Так начался мундосский период деятельности Эдуарда, самый трудный. В полном одиночестве вел он долгую, неравную борьбу, ни на миг не помышляя об отступлении, не давая воли сомнениям. Но годы шли, и что-то в нем перегорело, может, просто выветрилось, выкрошилось, незаметно, буднично – как со временем даже у крепких дубов крошится и выветривается сердцевина. Что-то изменилось. Нет, это не было ощущением пустоты, напротив, его все больше давила – на плечах или в душе – растущая тяжесть. Но он научился стойкости и терпению. Уже не торопился в лихорадочной спешке распутывать каждый узел борьбы, словно последнюю застежку одежды любимой женщины, теперь он действовал хладнокровно, расчетливо, методично, как профессиональный боксер в двенадцатом раунде. Пламя из него не вырывалось с ревом к небесам, а горело с постоянным и ровным накалом; даже при желании его было не просто погасить.
Часть приобретаемых для лавки сувениров Эдуард отсылал в соседние страны, в обмен получая другие товары. Время от времени он совершал деловые поездки по городам Мундосы. Магазин на время его отлучек не закрывался, хотя Хосе не имел обыкновения стоять за прилавком и к деньгам не прикасался, а просто сидел на пороге, поскрипывая протезами. Если появлялся поставщик товаров из провинции, он вёл его наверх, в квартиру, показывал, где расположен туалет. Однажды в подвале дома довольно долго укрывался человек со свежей раной на ноге. В общем и целом случай заурядный – перестрелки в Суаресе были не редки. Многие отсиживались в подвалах. На этот раз, однако, по городу были расклеены листовки, сулившие за голову этого человека двадцать пять миллионов крузейро. Это был рабочий лидер Хесус Нико. Благополучно избежав застенков тюрьмы Пренса, он с надежными документами позже переправился на Ямайку.
Эдуард вполне доверял Хосе, хотя излишней откровенностью они друг друга не обременяли. Сидеть за одним столом Хосе отказался, во время обеда он с полотенцем на левой руке стоял за спиной Эдуарда и тихим голосом пересказывал последние городские новости, которые ухитрялся узнавать раньше, чем они попадали в специальные выпуски газет. В городе у них был один совместный маршрут – воскресным утром оба, в сомбреро, в надраенных до блеска сапогах на высоких каблуках, пересекали площадь, направляясь в церковь Санхуана Марии Вианнейи, – Эдуард впереди, Хосе, прихрамывая, в нескольких шагах позади. И в церкви Хосе становился не рядом с Эдуардом, а у него за спиной. Когда Эдуард по этому поводу сделал ему замечание, Хосе только пожал плечами.
– Не хочу, чтоб надо мной смеялись.
– Чего ж тут смешного?
– Я так скажу, мисор{16}16
Сокращение испанских слов «мой сеньор».
[Закрыть]: жир всегда сверху, вода снизу.
– С чего ты взял, что ты вода? Ты тоже жир.
– Все равно, может, и жир. Но у жира тоже есть верх и низ.
Жалованье Хосе получал первого числа каждого месяца, и тогда он на ночь исчезал из дома. А поутру бывал на месте – чисто выбритый, душистым мылом отмывшийся; трогательны были его старания дышать в сторону, чтобы перегар кукурузной водки не слишком перешибал запах лаванды.
Однажды в разгар очередного мятежа в лавку ворвались солдаты. Эдуард со сдержанной улыбкой вышел навстречу и спросил, чем может быть полезен. Солдаты вели себя странно, что-то говорили о проверке, а сами, сбившись в кучу, то ли ждали сигнала, то ли пытались о чем-то условиться. Убедившись, что улица пустынна, они убежали.
Раздвинув занавеску, отделявшую лавку от небольшого склада, Эдуард увидел Хосе с курковым пистолетом на взводе.
– Я грешным делом подумал, они собираются вас увести, – как бы извиняясь, произнес Хосе.
– И что бы ты предпринял в таком случае? Открыл пальбу, что ли?
– А как же иначе, – ответил Хосе, засовывая пистолет за пояс.
Будучи здоровым мужчиной в расцвете лет, Эдуард с первых дней переезда в Мундосу всерьез стал подумывать о женитьбе. Какое-то время он вполне мог обойтись без женщины, однако никогда не ставил себе это в заслугу. Случайные, сгоряча начавшиеся и скрепя сердце оборванные связи лишь подогрели тоску по упорядоченной жизни. Чувство неудовлетворенности, как острый обломок зуба, постоянно о себе давало знать. И от дел отвлекало, понуждая к унижающим достоинство похождениям.
К сожалению, на пути создания семьи появились препятствия, задумать оказалось проще, чем исполнить. Быть может, свою роль сыграл и возраст, но Эдуарду явно не хватало той бездумной тяги к приятным утехам, некогда естественно и просто приводившей его к женщинам, что-то для него значившим. Стоило ему со строгой меркой подойти к предполагаемой подруге жизни, и писаная красавица превращалась в скопище недостатков. Во всяком случае, отчуждение и отталкивание затмевали желание и влечение. И даже когда женщина казалась вроде бы достойной, брали верх побочные мысли: ненадежность положения, мысль о том, что силы порастрачсны, а все вместе взятое действовало отрезвляюще. Приходилось считаться и с условностями, на которые он раньше не обратил бы внимания, но здесь они становились существенными преградами: религия, социальное положение, обычай, общественное мнение. И – уж это яснее ясного – не мог он себя связать супружескими узами с человеком, принадлежность которого к той или иной политической группировке при частых сменах власти в Мундосе превратила бы его в открытую мишень.
Решение нашлось банальное, но вполне подходящее. В одну из поездок по сельским районам Эдуард познакомился с Марией Эстере, ткачихой, изготовлявшей пончо, по местным понятиям уже немолодой, но удивительно бодрой, прямо-таки излучавшей здоровье вдовой. Мария Эстере была смешанных кровей, внешне почти ие тронутая цивилизацией, зато сама по себе цельная, со всеми необходимыми для существования естественными ценностями, как клубень картофеля или зерно кукурузы. Жизнь принимала без лишних сложностей, почитая очевидным, что мужчине нужна женщина, а женщине мужчина.
Она растила троих сыновей. Ее мужа призвали в армию, но он переметнулся на сторону мятежников, заболел дизентерией и умер. Рассудив, что в одиночку крестьянский труд ей не по силам, Мария Эстере занялась ткачеством. За довольно крупную сумму Эдуард ее выкупил у местного патрона – организационные основы ремесленных промыслов в тех местах чем-то напоминали контроль мафии над проституцией. С тех пор Мария Эстере работала самостоятельно и даже скупала для лавки Эдуарда кое-какие ремесленные изделия. Для поездок в филиал Эдуард приобрел мотоцикл.
Сначала Мария Эстере ничего не говорила сыновьям о смерти их отца. Однажды, проснувшись среди ночи, маленький Алехандро прибежал к матери. Увидев в кровати Эдуарда, мальчик спросил удивленно:
– А если вернется отец, разве всем нам хватит места в одной кровати?
С годами Эдуард привязался к сыновьям Марии. Он позаботился о том, чтобы они учились в городской школе, были хорошо одеты, обеспечены учебниками. И мальчишки полюбили Эдуарда. Вернее, смирились с ним. В присутствии Эдуарда их блестящие, каштаново-карие глаза почему-то смотрели всегда печально.
Голод по родине теперь уже не мучил Эдуарда, как прежде. То утихавшую, то подступавшую боль души переносил он терпеливо и стойко, – примерно так переносят досадную, но неизбежную ломоту в суставах с переменой погоды или капризы печени, когда позволишь за столом себе что-то лишнее. «Надо быть реалистом, – убеждал себя Эдуард, – изменить сейчас ничего не возможно. Родина – это моя молодость. Вот почему так сладко саднит в душе, когда о ней вспоминаю. Наивно полагать, будто человек способен отбросить свою молодость, как ящерица хвост. Но столь же наивно полагать, что молодость может вернуться. Молодость недосягаема. Как и родина. И с этим следует смириться».
Но случалось, заглохшие чувства, словно снулые рыбы, вдруг начинали биться хвостами и прыгать. Совсем немного было нужно, чтобы он сам себя переставал узнавать.
Как-то, улаживая дела в Соединенных Штатах, Эдуард собрался с духом и отправил в Зунте открытку. Случай, казалось бы, представился идеальный: он мог дать адрес, не раскрывая своего действительного местонахождения. К сожалению, ему пришлось внезапно вернуться в Мундосу, так и не узнав, откликнулся ли кто на его призыв.
Понемногу забывался латышский язык. То, что он и думать стал по-испански, обнаружилось неожиданно. В торговых делах, приходя к какому-то решению, он имел обыкновение что-то отмечать для памяти и тут заметил, что пишет по-испански. Затем пришло еще более поразительное открытие: оказалось, и сны ему снятся по-испански. У него не было ни одной латышской книги, ни одной латышской газеты. Конечно, он мог выписать газету «Американский латыш», но воздержался по конспиративным соображениям. Иногда, стосковавшись по родному языку, Эдуард при ходьбе читал вслух еще в школе заученные стихи. И время от времени происходила осечка – язык не справлялся с произношением.
С некоторых пор в политической жизни Мундосы стало сказываться присутствие Антимессии. Объехав целый свет, последовательно выдворяемый из многих государств, он в один прекрасный день в окружении свиты секретарей, метресс, телохранителей, врачей, архивариусов и учеников объявился в Суаресе. Очередной диктатор Мундосы увлекался либерализмом, ему нравилось разыгрывать из себя демократа. Недовольный полученной в народе кличкой Karniserio de garnison{17}17
Мясник гарнизона (исп).
[Закрыть] он отказался от звания бригадного генерала, фотографировался только в белом гражданском костюме с богемного вида шарфиком вместо галстука и велел величать себя сеньором Президентом, а кроме того, навербовал целый хор подпевал, который нарек Парламентом.
Оказанное Антимессии радушие сделало Мундосу притчей во языцех. «Мундоса – единственное государство, не побоявшееся заразы суперэкстремизма». По пятам за Аитимессией следовала толпа журналистов, страницы всемирно известных газет обошли фотографии, на которых во все белое одетый сеньор Президент дружелюбно беседовал с основоположником теории активного хаоса, невысоким человечком, смотревшим на него испуганно-загнанным взглядом. И впоследствии имя Президента не раз склонялось вместе с именем Антнмессии. Это почему-то льстило сеньору Президенту и давало ему повод говорить в Парламенте о возросшем международном авторитете Мундосы.
Считалось, что Антимессия, отказавшись от политической деятельности, избрал своим призванием литераторство и философию и теперь пишет мемуары, приводит в порядок опубликованные ранее статьи, совершенствует теоретическую платформу. Однако при посредничестве многочисленных учеников по-прежнему был связан со своими сторонниками на всех пяти континентах.
Что именно проповедовал Антимессия, никто не мог толком понять, о конечных целях он говорил туманно. Его-де интересует сам процесс. Главный его тезис – отрицание. Он был недоволен и всех недовольных звал на борьбу против насилия во имя еще большего насилия, против диктата во имя еще большего диктата.
Ошибались те, кто игру Антнмессии на глубоко укоренившихся человеческих чувствах – недовольстве и озлоблении – считали недостойным внимания чудачеством или придурью. Последующие годы, когда сам Антимессия уже был надежно замурован в двадцатитонную колоду из цемента, чтобы уберечь его от почитателей, пытавшихся растерзать труп на реликвии, и от противников, намеревавшихся вышвырнуть его в сточную канаву, – последующие годы показали, что именно из идейного наследия Антимессии вырос терроризм так называемых «красных бригад», теория гражданской войны в городах, а также шантаж, своего рода атомная бомба бунтарей.
События, превратившие Мундосу в заключительную страницу жизнеописания Атимессии и, к удовлетворению сеньора Президента, еще раз приковавшие к ней внимание мировой печати, с точки обзора Эдуарда начались с незначительного и неожиданного случая. Как-то вечером, когда он уже опустил ставень на витрину, а на порог поставил стул, что означало конец рабочего дня, в лавку с улицы расхлябанной походкой зашел странной наружности священник в сутане с глубоко надвинутой на глаза широкополой шляпой.
– Чем могу служить? – спросил Эдуард, подавляя в себе безотчетную неприязнь. Предчувствие подсказало, что он имеет дело с человеком, принявшим малоподходящее для него обличье.
Сначала незнакомец притворился, будто разглядывает разложенные под стеклом амулеты, и в то же время, не поднимая головы, косился по сторонам. И вдруг, распрямившись, с театральной манерностью снял шляпу. Эдуард, возможно, и не узнал бы его, – за многие годы черты лица основательно изменились. Если бы не безобразный рубец на лбу с ритмично пульсирующей кожей, если бы не вздернутое левое веко, приоткрывавшее белок выпученного глаза.
– Да, почтенный Родригес, это я, – сказал Микаэл. – Судьбе было угодно опять нас свести. Мне требуется пристанище дня на три, на четыре. Не вздумай говорить, что ты мне отказываешь.
Эдуард и на дверь опустил ставень. Чтобы иметь хоть сколько-то времени на размышление. В голове была удивительная пустота, ни о чем не хотелось думать.
– Зайди сюда и подожди. – Он провел Микаэла в тесное помещение склада и задернул занавеску, а сам спустился в подвал и выплатил Хосе его месячное жалованье, хотя до первого числа оставалось несколько дней. Он объявил Хосе, что тот может отправиться в гости к родным не под Новый год, как обычно, а прямо сейчас. Кроме того, Эдуард повесил на дверь объявление, извещающее, что магазин в ближайшие дни будет закрыт. В гараже довольно долго не мог решить, поехать ли ему к Марии Эстере на мотоцикле или на недавно купленной спортивной модели «форда». Все же выбрал мотоцикл.
Эдуард обрадовался, встретив в селении не только Марию Эстере, но и всех троих ее сорванцов. Их отпустили домой, поскольку в школе опасались эпидемии скарлатины. Весь первый день Эдуард возился с мальчишками, катая их на мотоцикле по главной улице поселка. На следующий день Алехандро самому захотелось сесть за руль. Вначале все шло хорошо. Но подвела горячность подростка – Алехандро на полном скаку врезался в стаю индюков. К несчастью, индюки принадлежали бывшему патрону Марии Эстере, тот все еще не мог себе простить опрометчивую сделку с Эдуардом: позволить так себя провести, ясное дело, надо было запросить в два, три раза больше! Старая злоба точила. Патрон отказался принять отступное за индюков, сказал, что подаст на Эдуарда в суд.
Ночью в дом вломились полицейские. То, что его арестовали из-за нескольких задавленных индюков, представлялось невероятным. Но в Мундосе существовали своеобразные понятия о правах и справедливости, с этим следовало считаться.
На него надели наручники. В полицейской колымаге его повезли обратно в Суарес. Ни при аресте, ни в пути Эдуарду ничего не объяснили. В префектуре Эдуарда допрашивал высокий полицейский чин.
– Признаете себя виновным? – тот задал первый вопрос.
– Да, – ответил Эдуард. – Алехандро по неосторожности наехал на выводок индюков, я готов оплатить нанесенный урон.
– Разыгрывать сумасшедшего нет смысла, – возразил чиновник. – Этот номер у зас не пройдет. Вы обвиняетесь в убийстве не индюков, а Антимессии. Соучастии в убийстве.
Расследование длилось семь месяцев. Суд с перерывами на рождество, пасху и день рождения супруги Президента продолжался полгода. В Суарес съехались журналисты из шестидесяти семи стран. Различные общественные организации прислали своих наблюдателей. Защищать Эдуардо Родригеса безвозмездно предлагали лучшие адвокаты Филиппин, Новой Зеландии, Панамы и Колумбии, но он, по врожденному упрямству Вэягалов, от услуг правоведов отказался.
Обвинение было расплывчато. Версия прокурора изобиловала домыслами. Обвиняемые отказались признать себя виновными. Слуга Антимессии лишь подтвердил известное: каминными щипцами он нанес своему господину удар по голове, не приводя при этом никаких объяснений относительно мотивов поступка.
Эдуард держался первоначальных показаний – он ничего не знает – в день происшествия находился в деревне, обучал ребят езде на мотоцикле.
Человек, назвавшийся Микаэлом Чандлером, – его подлинную фамилию установить не удалось, сообщил лишь о своей принадлежности к Всемирному синдикату анархистов, – после совершенного преступления отвез слугу Антимессии на машине в аэропорт. Машина, спортивная модель фирмы «Форд», принадлежала Эдуардо Родригесу.
Версию обвинения опровергал тот факт, что Микаэла Чандлера задержал работник Эдуардо Родригеса – Хосе Родригес. Да, он уезжал погостить в родное селение и вернулся раньше, чем обычно. Ему показалось странным, что в гараже нет ни машины, ни мотоцикла. Ночью он был разбужен шумом – какой-то незнакомец пытался поставить машину в гараж.
– И что произошло потом? – спросил судья.
– Потом мы оба немножко постреляли.
– А потом?
– Потом я доставил его в полицию.
В зале послышался смех. Магниевые вспышки фоторепортеров напоминали хлопки пробок шампанского.
– Вы знакомы с Микаэлом Чандлером? Встречались с ним раньше? – обратился судья к Эдуарду.
– По существу я с этим человеком незнаком, – ответил Эдуард.
Последним показания давал тайный агент. Он утверждал, что ему было велено проследить за одним подозрительным человеком. За два дня до убийства Антимессии этот человек в одеянии священника вошел в лавку Эдуардо Родригеса. И не вышел оттуда.
Этим человеком был Микаэл Чандлер.
– Вы в этом уверены?
– Да.
– На каком основании?
– Запоминать лица моя специальность. К тому же лицо вышеупомянутого Микаэла Чандлера имеет бросающуюся в глаза примету – рубец на лбу.
Суд признал доказанным соучастие Эдуардо Родригеса. Его приговорили к десяти годам. В последнем слове Эдуардо отверг предъявленное ему обвинение.
Строгий тюремный режим не сломил ни тела, ни духа Эдуарда. Он изучал корейский, вьетнамский, китайский и японский языки, продолжал совершенствовать революционную теорию. В тюрьме он узнал о смене государственного устройства в Латвии, Эстонии и Литве.
По истечении срока заключения Эдуарду было объявлено о нежелательности его дальнейшего пребывания в Мундосе.
В Москву, как и в предыдущий раз, Эдуард приехал через Ленинград. Стоял погожий июньский день. Из репродукторов доносились бодрые мелодии, москвичи расхаживали в легкой спортивной одежде. Автомобили мчались по раздавшимся вширь бульварам, голося как перелетные птицы в осеннем небе, самоуверенно, однообразно. На привокзальной площади висел портрет с транспарантом: «Нас ведут к победе мудрость и железная воля Сталина». Из окна гостиницы открывался вид на центр города с большими красивыми зданиями.
Приняв душ, побрившись, надев свежую сорочку, Эдуард попытался позвонить Петерсу, но аппарат все время отключался. Тогда он попробовал связаться с Берзином, Эйдеманом, Алкснисом, Рудзутаком, и тоже безуспешно. В трубке слышались гудки, как будто он вообще не набирал номера.
В Латвию Эдуард не успел уехать, тремя днями позже началась война.
13
Последующие годы в памяти Вэягалов были отмечены двумя событийными вехами: смертью Августа Вэягала и поездкой Паулиса в Италию, дабы своими глазами увидеть огнедышащий вулкан, землетрясение и хождения морских вод под воздействием лунного притяжения. Между этими двумя событиями еще несколько Вэягалов умерло и сколько-то народилось. Жена Петериса разрешилась двойней, а жена Паулиса – девочкой. То, что Элвира угасла в рижской больнице, мало кого удивило, а вот жизнь супруги Паулиса оборвалась неожиданно и трагично. Пока Паулис был в Италии – или где уж там был, – как-то вечером, в метель ехала она на санках по озеру, и под нею проломился лед, как раз в том месте, где лед выбирали из проруби для погреба.
Август Вэягал в этом мире провел полных девяносто девять лет и напоследок совсем усох, стал легковесным, как пшеничная солома. Нужно было обладать богатым воображением, чтобы в усохшем старикашке разглядеть широкоплечего верзилу, способного в свое время одним махом воз с сеном опрокинуть. В последние годы Август не обременял себя лишней одеждой, ходил по дому в белой льняной рубахе и таких же портах, на ногах мягкие кожанцы. Когда его спрашивали, как он видит и слышит, обычно сердился: «Что мне нужно видеть, я вижу, и, что нужно слышать, я слышу». Все же нелегко домочадцам было свыкнуться с тем, что Август иногда, не замечая их присутствия, беседует с покойниками – Элизабетой, Якабом, Эрнестом или Ноасом.
Туговатую на ухо Антонию не раз подводило бормотание Августа. Ей все казалось, он зовет ее, а заглянет к нему, муж, спокойно сидя на кровати, объясняется с предводителем казачьей сотни князем Енгалычевым.
– Землепашец все обязан претерпеть: и худой урожай, и богатый, и студеную зиму, и мокрое лето. Потому как он землепашец. В книгах пишут: Плеттенберг, Иван Грозный, Стефан Баторий, Шереметьев. А мы их всех перетерпели.
– Август, с кем это ты разговариваешь?
– Я разговариваю? Я только сказал, что землепашец – подкова, которую в огне закаляют и молотом куют.
То ли по своей глухоте, то ли по иной причине, но сон у Антонии был крепкий. Не проснулась она и той ночью, когда Августу, должно быть, померещилось, будто пчелы в ульях пробудились, и он, набросив полушубок, вышел в заснеженный, февральской луной залитый сад. Там и нашла его поутру Антония – сам навалился на улей, ухо приставил к летку. Окоченевший, глаза снегом запорошены.
Паулис, тогда еще не помышлявший о путешествии в Италию, тотчас объявил, что похороны будут богатые. «Мы ведь не какие-нибудь такие-этакие, – сказал он. – Имейте в виду, наших свиней сам король английский кушать изволит. – И еще он тогда же сказал: – Каждый порядочный Вэягал все равно что зонтик – в нужный момент широко раскрывается».
В том, что дела у Вэягалов идут хорошо, никто не сомневался. Беконный откорм поросят оказался занятием прибыльным. Потому-то Антония в конце концов передала Паулису все бразды правления. Поначалу ей казалось, он по своей легкомысленной натуре деньги на ветер бросает – электричество проводит, расширяет скотный двор, закупает дорогостоящие машины. Но затраты вскоре с лихвой окупились. И только новая кровля Крепости – на сей раз из красного шифера – появилась, пожалуй, более по соображениям престижа, чем хозяйственной необходимости, да нельзя же от Паулиса требовать, чтобы он перестал быть самим собой. Как выразился Атис, экономику Паулиса венчает поэтический гребень.
По документам считалось, что Петерис владеет малым «ремесленным наделом». Но он ухитрился до того довести свое хозяйство, что года четыре назад от распродажи с молотка всего имущества спасла счастливая идея Паулиса: потихоньку вновь объединить оба хозяйства. Вот и получалось, что в будние дни Петерис с женой к себе возвращались только ночевать. И дети росли всем скопом, под присмотром и опекой Антонии. Одно было худо: привыкнув вблизи Антонии громко говорить, детвора орала во всю глотку и в других местах.
Прибывший на похороны отца Атис на этот раз остановился в Особняке у Леонтины, где было потише. Будь он один, Атис воздержался бы от подобного шага, но тут впервые пожаловал с дочерью, восьмилетней Лилией (слухи оказались верными!). Как нередко бывает с воскресными папеньками, в воспитании детей принимающими лишь условное участие, дочка Атису казалась хрупкой драгоценностью, которую положено хранить на бархатной подушке. Не хотелось ему Лилию, в иных условиях, в ином окружении выросшую, безо всякой подготовки кинуть в толчею чуждых ей родственников.
Атис, разумеется, тотчас про себя отметил и то, как постарела Леонтина, и другие бросавшиеся в глаза перемены, скопившиеся со времени его последнего посещения. Леонтина не пыталась приукрашивать свои беды. Магазин едва влачил существование, давно миновала пора, когда из ближних и дальних мест люди прибегали поглазеть на сидящего в окне попугая, послушать новые Элвирины пластинки. И конкуренция душила. Всем пайщикам потребительской коперации «Единство» в конце года от общей выручки большого магазина доставались не ахти какие, но все же деньги, и это, как мух на липучку, тянуло в кооперацию ее мнимых совладельцев.
А самым печальным было то, что Леонтине не везло с помощницей. Преемницам Элвиры не хватало обаяния.
Индрикис совершенно охладел к магазину. После того как его сделали ротным командиром, он был занят исключительно забавами айзсаргов. Шил себе мундиры, один другого краше – грудь все более навыкат, талия все уже; заказывал сапоги, одни форсистее других – задники все выше, голенища все глаже. Ничего не скажешь, вид у него бравый: сабля на боку, аксельбант через грудь, по козырьку фуражки медный ободок. Но каких денег все это стоило! И если даже не считать потраченных латов, многое не нравилось Леонтине в этом солдафонском рысканье. Впечатляющая внешность Индрикиса, конечно, умиляла. Какой матери не хочется гордиться своим сыном. Но каждый раз при виде Индрикиса в форме ей вспоминался Алексис Озол и его печальный конец. Винтовки, шашки, погоны, пряжки… За всем этим скрывались приготовления. Боевые стрельбы и освящение знамени, парадная шагистика и торжественная присяга куда-то вели. А стало быть, и прекрасно пошитый мундир был шагом в том направлении, о котором меньше всего хотелось думать, ибо становилось страшно.
Не сказать, чтобы будущее Леонтине рисовалось в одних только мрачных тонах, безо всякого проблеска. Неистребимые мечты о счастье вновь и вновь обращали ее взоры в стороны Нании. Нания была набухавшая бутоном с очевидными задатками в ближайшее время раскрыться во всей своей прелести. Была она с чудинкой, это так. Как и ее отец. И все же нельзя было не отметить в Нании врожденную приветливость, прилежность, любознательность, самостоятельность и умение приноровиться к любым обстоятельствам, что позволяло ей сохранять хладнокровие даже там, где терялись бывалые люди. Да вот беда, и Нания чуралась магазина, однако Леонтина не сомневалась, что с переменой своего положения она сумеет отдать предпочтение магазину, вместо того чтобы копаться в саду.
Леонтине от всей души хотелось привязать повесу-сына к Нании подвенечной фатой. В этих желаниях, хотя и смутных свадебных мечтаниях, которыми она ублажала себя в часы бессонницы и минуты черных сомнений, Леонтине чудилась развязка многих завязанных судьбой узлов. Она ведь не слепая – Индрикис притуманенным взором поглядывал на Нанию, еще когда она была плоская, словно заборная доска. Ей-ей, у Леонтины в такие минуты из груди будто жилу тянули: боже правый, что будет, что будет, Нания ей, можно сказать, дочь родная, вдруг дело до суда дойдет. Не тут-то было – Нания рано повзрослела и поразила Леонтину своим благоразумием. Возможно, у них там что-то и было, вполне возможно, но мимолетно и ничего серьезного. Последние годы Нания держала Индрикиса на расстоянии. И Леонтина понимала – все его мундиры шьются ради Нании. Ухмылки и увертки Нании доводили Индрикиса до сумасбродства. Ну вылитый Озол. Крепок и слаб до смешного. Груб, как животное, и легкоранимый.