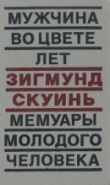Текст книги "Кровать с золотой ножкой"
Автор книги: Зигмунд Скуинь
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 23 страниц)
Но, может, в своих расчетах соединить будущее Индрикиса и Нании она была не столь уж бескорыстна, как ей самой представлялось. Возможно, тут и прорвалась наружу ее любовь к капитану Велло. Велло продолжал жить в Нании – плотью, душой и кровью. Стань Нания женою Индрикиса, произошло бы то, к чему, в сущности, и стремилась Леонтина: чудом слияния крови утвердить любовь не только Нании и Индрикиса, но и свою любовь с Велло.
Зима была суровая, земля промерзла глубоко, вырыть могилу оказалось задачей непростой и нескорой. Этим пришлось заниматься Паулису. День напролет по соседству с надгробным, черного мрамора, памятником Ноасу и Элизабете на железных поддонах пылали жаркие костры.
– Эх, папенька милый, чертов ты хрыч, скажи, как нам спровадить себя в покои вечные? – Пока пески нехотя оттаивали, Паулис для сугрева землекопов откупорил бутылку. – Похоже, не желает принимать тебя земля. С духом дело проще. Дух что башмак, слетел с ноги и – в небо, в заоблачные кущи. А плоть и кости никому не нужны, ни боженьке на небесах, ни черту в преисподней. Уж дотянул бы до лета, куда торопился. Будто не знаешь, нигде не бывает так хорошо, как в этом грешном мире. Ну да ладно, заодно и кости Ноаса немного отогреются. А то ведь, у Элизабеты под боком лежа, вряд ли согреешься_
Вечером, возвращаясь с кладбища, Паулис завернул в Особняк и рассказал Леонтине, как он, для своего отца долбя последнее место отдохновения, повстречался с ее батюшкой. Ноас, дескать, шлет сердечные приветы. Гроб за два десятка лет ничуть не затрухлявел, лишь цвет слегка переменил.
– Как! И гроб отца в самом деле виден?
– Виден, Леонтиночка, виден. С левого бока, и обе ножки золотые. Это я тебе говорю!
Относительно последующих событий существует несколько версий. Одни полагают, что Леонтине бредовая идея в голову пришла, слушая болтовню Паулиса. Другие считают – это случилось позже; дескать, ночью к Леонтине сам Ноас во сне пожаловал и напомнил, что золото его в ножке кровати спрятано, да только до сих пор они не сумели отыскать настоящую кровать. А настоящая вон где находится…
Но психологический фон происшествия ясен. Леонтина борется с денежными затруднениями, как Лаокоон со змеем. Наследство явилось бы спасением. Все эти годы ее преследовала мысль, что где-то все же должно быть золото Ноаса. Такой богач – и ничего не оставил! Тут какая-то тайна, нужно ее разгадать. Как в былые времена, Ноас придет на помощь, избавит ее от напастей. Иокогама, Алабама, кому, как не родителям, заботиться о детях? Особенно сейчас, времена такие трудные.
В доме скорби торжественная тишина. Август в белой рубахе и белых портах лежит на столе посреди комнаты с благостным выражением на бледном лице. В его больших крестьянских ладонях рожь прошлогоднего урожая, с четырех сторон, истекая сальными слезами, горят белые свечи. С минуты на минуту должен появиться Паулис с гробом. Пора решать, во что одеть Августа. Только теперь спохватились, что у него нет выходной нары, лишь белая льняная одежда да полушубок! Жена Паулиса предложила – не облачить ли Августа в капитанский мундир Ноаса? Паулис зачем-то хранит его в шкафу как невесть какую драгоценность.
О жене Паулиса последняя возможность хоть что-то сказать. Звали ее Бертой, и никто не ведал, с чего вдруг Паулис взял ее в жены. Всем было ясно, Паулис женится на Аустре. Но теперь у Аустры другой муж, а у Паулиса другая жена. Будущей зимой, когда Паулис уедет в Италию – или куда уж он там уедет, – Берта хмурым, унылым вечером вместе с лошадью и санками провалится на озере в прорубь и утонет, но пока она еще жива. На всякий случай Берта отыскала в комоде жестянку, в которой Паулис хранил срезанные с мундира пуговицы, и пришила их все до единой.
Возвращается Паулис. Ему никак не удается приспособить свои голосовые связки к тишине дома скорби, слова, отогревшись с мороза, звучат раскатисто, аж на чердаке отзываются.
– Не-е-ет, мои милые, да вы просто спятили, какие-то вы, право, бестолковые. Не надо путать божий дар с яичницей. Отца похороним в суконной крестьянской паре. И совершенно новенькой, с иголочки! Это я вам говорю!
– Но ведь одежды-то и видно не будет, – пытается Берта возразить, – покров по грудь закроет.
– Ты что, собираешься совесть покровом прикрыть? И чтобы у отца на носу были очки, как наказывал!
Появление Нании при вполне понятном многолюдстве никого не удивляет. Почему бы и ей не прийти? По просьбе Леонтины или собственному почину. В доме скорби все последние новости услышишь, можно с кем-то словцом перекинуться, о деле договориться. Нанию прямо не узнать – такая у нее стала плавная походка, белая шея, и взгляд такой пытливо-проницательный. Вся она в одно и то же время и на ветру трепещущее знамя, и стройное древко знамени.
Нания постояла в большой комнате, где Август лежал уже в гробу; заглянула на кухню, где женщины пекли и жарили, со второго этажа оглядела двор. С Паулисом столкнулась, спускаясь вниз по лестнице, и яркий румянец, заливший лицо Нании, подсказал, что Паулиса она и искала.
– Паулис, мне нужно кое-что тебе сказать
– На ухо или вслух?
– На ухо.
– Тогда подойти поближе. Ой, Нания, душечка, с прошлой недели ты опять похорошела!
– Не знаю, может, мне не стоило…
– Раз нужно, душечка, – значит, нужно.
– Леонтина была на кладбище, осмотрела могилу…
– И что сказала? Достаточно глубока?
– И говорит, теперь она знает, где золото спрятано. В ножках гроба Ноаса. Я подслушала, когда Леонтина с Индрикисом шептались. Собираются нанять Кривого Вилиса, чтобы тот ночью ножки отпилил. И мне захотелось с тобой поговорить.
– А ты пойдешь со мной ночью могилу сторожить? – спрашивает Паулис с лукавой усмешкой.
Ну дела, и каштаново-карий взор Нании будто бы подернуло шаловливой усмешкой. С виду серьезная, а там поди разберись.
– Я слыхала, если у покойников что-то возьмешь, они потом с лихвой отымут.
– А ты считаешь, там есть что взять?
– Я же говорю – ножки гроба.
Той ночью Кривой Вилис, один из редко просыхающей бутылочной братии, известный в Зунте по части подозрительных, но хорошо оплачиваемых дел, изрядно хватив для храбрости, с мешком за плечами и с «летучей мышью» в руке отправился исполнить поручение Леонтины.
Ночь ясная, как глаз у барана. В небе полная и яркая луна в желтовато-сером кружке. Нещадно хрустит под подошвами прихваченный стужей снег. Еще ни разу не перепадала Вилису работенка на кладбище, а потому сердечко так и екает. Засветло Вилис на санках привез небольшую лесенку, спрятал за оградой напротив могилы Ноаса. Лесенка на месте.
Вот и свет погас в оконце сторожки. Теперь за дело. Сначала Вилис помочился, почесал в раздумье свой заросший подбородок, тяжко вздохнул, спустил лесенку в свежевырытую могилу и полез вниз. Отпилить ножки с обращенного к могиле бока дело плевое, но ведь надо еще добраться и до тех, что в мерзлый песок впаяны с другой стороны. Ну да ладно, лиха беда начало.
– Так-то, Ноас, уж ты на меня не серчай, – долбя мерзлую землю и себя успокаивая, бубнит Кривой Вилис. – Пять латов деньги немалые, как откажешься. Оно понятно, спиливать ножки у гроба занятие паскудное. Шалой бабы шалая затея. Но ты, Ноас, зла на меня не держи, хуже тебе не будет. Зато мне будет лучше. Времена тяжелые, как упустить такой случай…
И тут гаснет фонарь. В воздухе слышен как бы шелест крыл. Что-то падает на макушку Вилису. Лошадиной попоной вроде бы запахло.
– Ах, Вилис, Вилис, до чего ж ты низко пал… – Голос заучит гулко, как из бочки, в то же время и грозно. Это голос, привыкший повелевать, у Вилиса и желания не возникает что-то возразить. Голос самого Ноаса!
У Вилиса в глотке дыхание сперло, тяжесть из брюха наружу прет. Но это еще не все, на спину с шорохом и грохотом начинает сыпаться мерзлый песок, одна лопата, другая, третья. Живым в могилу зарывают…
– Помилуй меня, сила всевышняя! – из последних сил вопит Вилис. – У меня дома жена, детишек четверо. Прости грешному, не ведал, право, что творю. Отпусти душу на покаяние!
А песок все сыплется.
– Сжалься, на сей раз помилуй! В последний раз прости. Есть у меня и вторая жена с двумя детьми! Бес попутал! Пять латов деньги большие!
– Ну ладно, так и быть, слушай внимательно да мотай на ус! Семь раз громким голосом прочитаешь «Отче наш», только тогда вылезай. На краю могилы лежит мешок с ножками от гроба, отнесешь его Леонтине. И чтоб потом семь дней духа твоего не было поблизости!
Говорят, все так и было в точности. На похоронах Леонтина вид имела потерянный. Пока пастор речь держал, все на могилу косилась, но то место, где гроб Ноаса из песков выглядывал, было густо укрыто хвоей.
После похорон слух прошел, будто Августа в двух гробах похоронили: один-де Паулис купил в Зунте, а второй в уездном городе.
Об эту пору опять стали наплывать на Зунте несусветные дали. Нечаянно-негаданно, как наплывали временами полосатые картофельные жучки или божьи коровки. Никто не мог объяснить откуда, почему. Ни с того ни с сего появятся, цветным ковром выстлав морское побережье. На воде колышется месиво из насекомых, на пляже хрустят под ногами жесткие панцирьки. Так же осязаемо и зримо наплывали дали. Все началось с того, что в один прекрасный день зунтяне увидели в небе огромный «цеппелин». Понятное дело, такое событие не прошло незамеченным. Всем захотелось узнать, что это за воздушный корабль и куда он держит путь. Затем умы воспламенил полет Пулиня и Целма в Гамбию. Газеты пространно описывали подготовку к полету, освящение самолета и проводы. Ничего путного из той затеи не вышло, вскоре после того как «Синяя птица» миновала границу, пришлось приземлиться, и оставшийся от нее металлолом доставили обратно сухопутьем. Однако мысли, интересы продолжали работать в том же ключе. Там – вдали – все было необычно, ну хотя бы в той же Абиссинии, где воины с кремниевыми прадедовскими ружьями бесстрашно выступили против вояк Муссолини, возмечтавшего о возрождении великой империи. Пехотинцы там будто бы не носят башмаков, только икры ног обматывают, офицеры же свои фуражки украшают львиными гривами. Да, опять наплывали дали, все это чувствовали и совсем как в давние времена парусников при встрече спрашивали друг друга: «Ну, что нового слышно в мире?»
Спрашивал и Паулис, это казалось вполне естественным, никто тому не удивлялся. Позднее, правда, когда зунтян всколыхнула весть – Паулис едет в Италию, – нашлись такие, кто утверждал, что интерес Паулиса к далям всегда был огромен. Сиетиньсон из библиотеки, к примеру, говорил, что Паулис брал книги о земледелии, животноводстве, музыкантах, но спрашивал также книги о далеких землях, подчас такие издания, которые в Зунте никого не волновали. Белзейс, мельник, вспомнил, как однажды Паулис дал ему исчерпывающую справку о местонахождении Карфагена, при этом высказав догадку, что латыши в свое время на берега Балтики могли переселиться из древнего латинского ареала, на что, по словам Паулиса, указывают головные уборы незамужних женщин, по форме похожих на севалки, – такие же уборы будто бы встречаются лишь у древних этрусков. Как и наши шерстяные платы наводят-де на мысль о сходстве с тогами.
И только Леонтина для подобного путешествия находила достаточно прозаических причин, все объясняя запутанностью семейного положения. «Паулис попросту сбежал куда подальше, не собравшись с духом объясниться, – сказала она. – Обычный мужской прием. Не спорьте, уж я-то их знаю». Что имела в виду Леонтина, зунтяне так и не поняли.
А последовательность событий была такова. Вскоре после первого снега Паулис уехал в Ригу разведать новые условия «Бекон-экспорта» по части закупок свинины для английского рынка. Ходили толки, что отныне английский король станет закупать не более сорока тысяч свиней в год, гораздо меньше, чем у литовцев, к тому же лишь вторым и третьим сортом. Неделю спустя, когда дома уже ждали возвращения Паулиса, от него пришло письмо (с отечественной маркой и штемпелем), извещавшее, что он поедет дальше – в Италию. Никаких причин не приводилось, однако по обычной своей болтливости Паулис в письме так распинался о возможном извержении Везувия, землетрясении в Мессинском проливе, отливах и приливах Средиземного моря, что Берта напирала именно на эти его интересы. Хотя с таким же успехом можно было бы говорить о намерении Паулиса «изучить возможность сбыта латышских свиней в Ломбардской низменности с целью подкормить нашим беконом тщедушного короля Виктора-Эммануила и воинственного обжору Муссолини».
Когда настало время хоронить трагически погибшую Берту, главные надежды по розыску Паулиса были возложены на рижан Атиса и Марту, но те ничего не могли сказать. Да, Паулис наведался к Атису, однако момент выбрал крайне неудачный – прием пациентов был в самом разгаре, толком поговорить не удалось. Марта Паулиса вообще не видела. Возможно, Марту он разыскивал, Паулис знал ее адрес, ко дню рождения посылал ей золоченые открытки, но работа вынуждала Марту вести ненормальный образ жизни. Вечерами никогда не бывала дома, а в выходные дни спала так крепко – не то что в дверь барабань сколько хочешь, а из пушки стреляй, и с тем же успехом.
В свое время, когда Атис повез Элвиру в рижскую больницу, он взял с собой и Марту – присмотреть в дороге за больной. Жизнь Элвиры угасала столь стремительно, что ей и в больнице потребовалась сиделка. И так получилось, что Марта три недели кряду кормила Элвиру с ложки, обмывала, переворачивала, причесывала, опекала. За эти три недели Марта и сама так исхудала, побледнела, что Атис не на шутку забеспокоился, не заразилась ли она чахоткой. После похорон Атис опять забрал Марту в Ригу. Рентген легких развеял опасения, короткий отдых восстановил силы. Опаснее оказались другие бациллы – Марта заболела городом.
Получить в Риге работу было непросто. Объявления в газетах, предлагали скудно оплачиваемые места нянек, прачек и курьеров. Марта считала, ей ужасно повезло, когда ее приняли уборщицей в Оперный театр. Меблированная комната пожирала треть заработка, но это пустяки. Деревенский труд никогда не доставлял ей такого удовольствия. Уборщицы работали и во время представлений, само пребывание за кулисами внушало Марте неведомое прежде чувство счастья – рвущаяся из оркестровой ямы музыка, сумрачный, публикой заполненный свод зала, загримированные, с капельками пота лица стоящих рядом актеров в пестрых костюмах, таинственная машинерия сцены. А в антрактах, пока она влажной тряпкой протирала подмостки сцены, над головой у нее проплывали стены замков, к ногам опускались колонны храмов. После балетных спектаклей на ее совок – обрывками развеянного сна – выкатывались отлетевшие от костюмов стеклянные бусинки и блестки, которые она, как драгоценность, завязав в платок, уносила домой. Вернее, увозила, – после того как выяснилось, что в районе Пардаугавы, за рекой, меблированные комнаты стоят дешевле. Поздней ночью на своем велосипеде отправляясь в неблизкий Ильгуциемс, Марта чувствовала отнюдь не усталость, а восторг и упоение.
Отоспавшись за выходные дни, Марта иногда позволяла себе сходить в цирк, где небудничный мир манежа дополняли терпкие звериные запахи, сказочные животные и сверхчеловеческие, но вполне земные чудеса акробатов. Чтобы дать читателю представление о том, что для Марты означали эти переживания, если даже при этом придется нарушить последовательность повествования, скажем прямо сейчас, что в самые кромешные минуты жизни, в лихую пору заточения в лагерях смерти, счастливую мечту отлетевшего прошлого для Марты воплощало одно-единственное воспоминание: посреди освещенной серебристым лучом прожектора цирковой арены в белом фраке и белом цилиндре стоит девушка, напевая модную той поры песенку «Говори мне о любви, Марью».
Городская жизнь изменила и наружность Марты. Вместе с мужскими башмаками исчезла и тяжеловатая, размашистая походка. Ее стройное, крепкое тело обрело гибкость, плавность и особый шарм, столь характерный для рослых женщин: не напрасно же Феллини, подыскивая для фильма «Сладкая жизнь» актрису с ярко обозначенной телесной привлекательностью, избрал пышнотелую Аниту Экберг. По натуре Марта была добродушна, трудолюбива, в театре ею были довольны.
Освободилось место хранителя париков. В том, что Марта для такой работы вполне подойдет, начальство нисколько не сомневалось, оставалось лишь овладеть парикмахерским искусством.
Паулис дома объявился на третьей неделе своего вдовства, заодно узнав, что двое его деток ровно столько же времени числятся сиротами. Точнее, дома он объявился на четвертой неделе, потому как по пути со станции завернул в новый ресторан «Единство», где на него жестоко, безо всякой подготовки свалилась недобрая весть, продержав его там семь дней, в продолжение которых Паулис и плакался, поверяя друзьям свое горе, и предавался горестным раздумьям о судьбе, принимал соболезнования, бесился, роптал и куражился, скорбел и стонал, клял самого себя, каялся в малодушии, обещал начать новую жизнь, словом, раскрывался весь нараспашку, каким он, собственно, всегда и был; задушевный, чувствительный, мужественный, но и чуточку безвольный, адской скверной и дурманом напичканный, сантиментами приправленный. При ресторане имелись «номера». Когда заведение закрывалось, Паулис с дружеской компанией перебирался туда, чтобы назавтра все начать сначала. Сообщения о затянувшихся поминках Паулиса по организму Зунте циркулировали с безупречностью кровообращения. Поток соболезнующих и сочувствующих то прибывал, то вновь спадал. Одних собутыльников отзывали через посредство специальных вестников, другие, понуждаемые обстоятельствами, на время отпрашивались. Наплывами менялось и настроение участников поминального плавания. Жалостливые речи чередовались ядреными шутками, заливистым смехом, а то вдруг вся компания, колотя по столу кулаками, начинала горланить задорные песни.
Немало разговоров, само собой разумеется, вращалось и вокруг итальянского похода Паулиса; в конце концов, безутешных вдовцов в Зунте было навалом, а вот таких, кто побывал в Италии, на весь город имелся один. На эту тему Паулис высказывался туманно, благополучно сводя разговоры к философским рассуждениям о необходимости освежающего взгляда на жизнь вообще и путешествия в частности.
– Человек, мои милые, должен страдать любопытством. Да и возможно ли иначе, в том суть бытия. Это я вам говорю! Уж коли отец небесный в поте лица целых шесть дней мир творил, этот шарик надо оглядеть. Хотя бы из уважения и вежливости к творцу. Иначе получается: хозяйка старалась, крендель пекла, а гости и миндалину с глянцевого верха брезгуют отколупнуть. Увидеть вещь с одной стороны – значит ничего не увидеть. К примеру, возьмем мою собаку: спереди грозный зверь, пасть как у тигра, зубов полон рот. Взгляни на нее сбоку – тоже вроде зверь, но поплоше: загривок не тог и ноги кривы. Погляди на нее с тыла – и вовсе смотреть не на что, оголенный поросячий зад, хвост, как у крысы, облезлый. Это я вам говорю!
– Ну, а много ль ты в чужой и дальней стороне смог уразуметь?
– Чужой и дальней любая сторона лишь на расстоянии кажется. А подойдешь к ней – перестанет быть дальней. Люди как люди, и дома как дома.
– На каком же языке ты с ними изъяснялся?
– Нашел о чем спрашивать! У парня из Зунте! На каком нужно, на таком изъяснялся.
– И стоило ехать? Чего там набрался? Скажем, ты вот был в Италии, а я не был. Чем ты от меня отличаешься?
– Чем отличаюсь? – Паулис был сама серьезность. – Похоже, у меня прибор иной.
Хихиканье за столом сменилось смехом.
– Лишь оттого, что ты побывал в Италии?
– Нет, полагаю, оттого, что на меня нашла такая притча побывать в Италии.
– Черт побери! О каком таком приборе ты толкуешь? – Мужики в восторге, кулачищами молотя край стола, утирали слезы.
– О голове, дружище! О голове!
Под вечер четвертого дня Антония через почтарку передала Паулису: ну уж будет, погулял вдосталь, пора и домой возвращаться. Паулис в свою очередь переслал матери пространное письмо, в котором божился, что пока не чувствует в себе сил вернуться, дескать, должен свалившееся на него несчастье еще пожевать и проглотить или, проще говоря, с духом собраться, чтобы «иметь смелость своим сироткам в глаза посмотреть».
В какой-то момент в ресторане появились Нания с Индрикисом. Нания в крепдешиновом, тыквенного цвета платье с плиссированными воланами, не сказать чтоб вычурное – это было бы слишком, – но довольно броское. Индрикис, как обычно, в элегантном мундире айзсарга; еще бы саблю сбоку, и считайте, прямо с парада или какого-нибудь торжества пожаловал. Ростом Индрикис не вышел, да и бравости маловато, раздобрел опять за последнее время, на рыхловатом круглом лице второй подбородок намечается. Но мундир свое дело делает, грудь на ватине колесом, талия в обтяжку. Индрикис следит за своей наружностью, тщательно выбрит, одеколоном попахивает. Волосы с некоторых пор стрижет коротко, они ежиком топорщатся. Паулис уж не раз прохаживался по этому поводу: «Я гляжу, Индрикис, ты в близнецы к вождю нашему метишь». Индрикис на это отвечает с презрительной ухмылкой: «Предпочитаю смешные, а не плоские шутки». В самом деле, отчего бы ему не зачесывать волосы на манер президента Ульманиса? В такой прическе есть воинский шик. При всяком удобном случае Индрикис уголками заплывших глаз самодовольно озирает себя в зеркале.
И на сей раз – по крайней мере со стороны Индрикиса – встреча получилась довольно прохладная. Что ему Паулис! Лишь уступая просьбам Нании, пошел он в ресторан. Голова у Нании всегда полна бредовых идей. Особенно в последнее время. И, как нарочно, все наперекор ему. Теперь вдруг эта прихоть: «Своди меня в ресторан. Паулис там уже три дня и три ночи маринованными огурцами лакомится. Я тоже хочу».
Когда такие страсти – недавно Берту схоронили, сам Паулис из чужих земель воротился, – как тут мимо пройти, и отвернуться неловко. Родственник все же.
Индрикис, прикусив губу, вобрав через нос побольше воздуха, с важным видом шествует к длинному столу, за которым Паулис в данную минуту мечется между безутешным горем и безудержным жизнелюбием. Заметив вошедших, Паулис встает из-за стола. «Корчит из себя невесть что, будто полмиром владеет. А посмотришь – ничего в нем нет, ровным счетом ничего, разве что ростом взял, – думает Индрикис, с удовольствием про себя отмечая, что костюм на Паулисе мятый. О том, как галстук модно завязать, человек этот вообще не ведает. Замшелый старикан, деревенщина! Скулы желтой стерней обросли, пугало гороховое».
– Поздравляю с возвращением. – В словах Индрикиса столько равнодушия и холода, что температура в зале ресторации должна понизиться на градус-другой. – Ах да-да… Заодно соблаговолите принять и мои соболезнования.
– Хорошо, что ты пришла, Нания-душечка, – говорит Паулис. Его большие бледно-синие глаза становятся огромными. Такое впечатление, будто синь его глаз, подтаивая, поплывет по щекам. – Сейчас мне очень худо, Нания-душечка. Сказать тебе по правде, я схоронился здесь, как кабан в чаще, всего свинцом изрешетили…
На Индрикиса Паулис, разумеется, тоже поглядывает, как же иначе. А замечать не замечает. Паулис видит только Нанию. Паулис разговаривает только с Нанией. И оттого что перед ним Нания, сбрасывает с себя все личины и маски. Незачем больше таиться. Слабый, несчастный, потерянный Паулис, который никак не соберется с духом вернуться домой.
– Я надеюсь, ты угостишь меня маринованными огурцами. Да и сам закуси. От горестей я одно лекарство знаю – поесть что-нибудь такого, что душа просит.
Все это, конечно, пустые разговоры, кто ж того не понимает. Но у Нании так славно горят щеки, а на лице столько непритворного сочувствия. И как бы невзначай она своей ладошкою поглаживает руку Паулиса. Не странно ли, у беспомощного Паулиса такие крепкие руки. Руки настоящего Вэягала. У Вэягалов руки всегда на укутанные отопительные трубы котельни похожи, так и кажется, сейчас их обтягивающее тряпье расползется по швам – и оттуда полезут клочья желтой шерсти.
– Как? – От возмущения Индрикис насилу себя сдерживает. – Ты хочешь здесь сидеть?
– Да. – Нания радостно озирается. – Чем тебе здесь не нравится?
Немного погодя опять все входит в колею. Паулис рассказывает что-то озорное и потешное про монахинь и папу римского, Бриедитис, лучший сапожник в Зунте, запевает «Был я молод, был я в силе», кельнер заставляет стол новыми напитками и закусками.
За сапожником явилась жена. Крута-На-Руку-Кача. Паулис пытается заступиться за друга, но ему приходится в свой адрес выслушать не одно ядреное словцо.
– Кача, лапонька, ты вольна бранить нас, только знай, не на твоей стороне правда. Ну да, мы поем, пьем, веселимся. Но это лучше сочетается со смертью, чем слезы и вздохи. На смерть надо смотреть сквозь светоч жизни. Чтобы знать, что есть тьма, надо знать, что есть свет.
– Все вы забулдыги, вот она, правда. Все вы безбожники, вот она, правда. Все вы распутники, вот она, правда. На моей стороне правда!
– Нет, Кача, лапонька.
– Это почему же?
И тогда Паулис, приложив ладонь к сердцу, произнесет слова, которые надолго у всех останутся в памяти:
– Потому что у правды может быть сто рук и сто ног, но ей, как и человеку, не дано забраться сразу на два дерева.
Индрикис сидит рядом с Нанией с таким выражением на лице, будто задыхается от вони. Рюмку за рюмкой пьет, а лучше ему не становится. Наоборот, все хуже и хуже. Наконец Индрикис достает часы, щелкает золотой крышкой и говорит, обращаясь к Нании:
– Пора домой.
– Ну что ж, – подхватывает Нания, – раз торопишься, ничего не поделаешь…
– Нания, я серьезно.
– Как будто я шучу, – отвечает Нания.
На седьмой день утром Паулис появился в Крепости и – сразу баню топить. Под вечер Антония пошла проведать, не случилось ли чего с сыном, а он, на полке сидя, сбривал свою отросшую желтую бороду.
– Ты чего застрял? – В разговорах Антония все еще приставляет к уху ладошку.
– Гре-ехи, маменька, замаливаю.
– Так долго?
– Все по порядку. Быстрей не получается.
– Ах, Паулис, Паулис! Пока пороли тебя, ты не был таким шалопутом… Ну и много ль хорошего в мире узнал?
– Мир, маменька, штука шальная и славная. Детские причуды с человеком навек остаются: строит он, строит песочные замки, потом возьмет и все поломает. Похоже, такой момент наступает.
– Может, на сей раз обойдет нашу сторону?
– Сторона у нас больно привлекательна.
– А как же наши дорогие свиньи? Ведь их в Англию тогда не переправишь.
– Чего раньше времени горевать. Авось нос подскажет дорогу.
На следующий день Паулис объявил Антонии, что хочет с детьми съездить на могилу к Берте. Несколько удивился, не найдя в тележном сарае выездных санок, лишь потом сообразил: санки-то в озерной проруби. Пришлось в рессорную коляску запрягать жеребую кобылу, молодого Лосиса еще не успели объездить.
Могила Берты среди осевших весенних сугробов выглядела совсем свежей, будто вчера только засыпали. Зеленела хвоя, вощеным глянцем блестели венки из брусничника. Паулис, держа Виестура за руку, стоял и плакал не выплаканными на похоронах слезами. Дочку, двухлетнюю Скайдрите, Антония взяла на руки. Антония не плакала, она была баба крепкая. «Да если б у меня глаза были на мокром месте, я бы без галош и шагу не ступила», – нередко говорила она. Не в нее Паулис уродился.
Прошла зима, наступила вссна. Антония ворчала, что не под силу ей одной вести хозяйство и целую ораву детишек растить. Паулис обещал подыскать человека. Всем на удивленье человеком этим оказалась Нания. Поначалу она лишь днем находилась в Крепости, вечером в город возвращалась, в Особняк. Но в середине лета Паулис столковался с мастером, тот на втором этаже отремонтировал для нее комнату.
Леонтина так переживала уход Нании, что килограммов десять потеряла в весе, без конца пила бром и опять зачастила в церковь. То была не прежняя Леонтина, с присущим ей хладнокровием выходившая из самых отчаянных положений. Новая Леонтина устраивала скандалы, ругалась, грозила, затем кидалась в другую крайность – умоляла, пыталась разжалобить, стонала и сетовала:
– Милый Паулис, ну зачем тебе все это? Ты же девочку погубишь. Ладно, проще скажу: ты ее из рук у меня вырываешь. А ведь кроме меня есть еще Индрикис! Если ты не в курсе дела, я тебе скажу: Индрикису девочка эта очень дорога.
– Не силком же я ее в дом затащил.
– Паулис, пораскинь мозгами, ты уже не первой молодости, сорок давно стукнуло. Не видать вам счастья.
– Это, Леонтиночка, как получится.
– Старый упрямый козел! Дьявол лупоглазый. Ну смотри, еще пожалеешь! Вспомнишь мои слова! Я Нанию как родную дочь воспитала. Раз она с таким бесстыдством растоптала мое сердце, растопчет и твое, поверь.
– Может быть, Леонтиночка, все может быть.
– Молчи, дуралей! Будешь ты ей нужен, когда станешь мочиться в подштанники и от тебя за версту будет разить, как от сортирного выгребали.
Над ухом Паулиса со свистом пролетает расписная ваза и, брызжа осколками, грохается о стену.
Паулис смеется своим озорным, задорным смехом, но ему слегка не но себе. Излив желчь, Леонтина угрюмо приглядывается, какое впечатление произвели ее слова на Паулиса. Сразу не поймешь, лицо его сияет, будто и не слышал ее слов. Но, вернувшись домой и выбрав момент, он такое же сияющее лицо Нании на миг омрачает вопросом, в котором слышатся и озабоченность, и что-то похожее на вину:
– Нания, золотце, ты все хорошо обдумала? В Крепости ждут тебя дни нелегкие. Как говорят цыгане: «Буханка хлеба от горбушки до горбушки. Вот и весь обед».
– Ну и что?
– Не хочу, чтоб ты разочаровалась.
– Ах, ах, ах!
– Как-никак я на восемь лет старше Индрикиса. Вдовец с двумя детьми. Есть еще время передумать. Это я тебе говорю!
– Нечего мне передумывать, смотри сам не передумай, – отвечает Нания. И ее густые брови своенравно вздымаются. – Индрикиса, просьба, не поминать. Дохлый номер. Я когда-то обезьянничала, на Элвиру глядя, вот и все.
– Ну тогда держись, резвая кобылка!
– Если даже у тебя мне будет худо, это все же лучше, чем в другом месте.
Осенью – на Мартынов день – Паулис и Нания тихо обвенчались. Не ломились столы от угощения, не было и гостей. Антония подала домочадцам гуся жареного, Петерс откупорил пару бутылок.
Леонтина эту свадьбу отметила своеобразным публичным поздравлением. В местной газете поместила большое, в черной рамке объявление:
«Настоящим извещаю, что Нания, дочь Юхана Велло, отныне не является членом нашей семьи, в связи с чем в дальнейшем я слагаю с себя как материальную, так и моральную ответственность за все ее долги и сделки. Леонтина Озол-Вэягал».