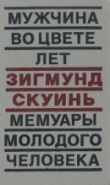Текст книги "Кровать с золотой ножкой"
Автор книги: Зигмунд Скуинь
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 23 страниц)
Наконец, когда запутанные межведомственные отношения удалось распутать настолько, что первыми сказать свое веское слово согласились аналитики химического состава воды, Марте пришла в голову мысль для страховки сделать пробу воды из кладбищенского колодца в приватном порядке. Вода для анализа была доставлена на мотоцикле в ближайший город. Опасения Марты оказались вполне обоснованными: состав воды перечеркивал все надежды, но, судя по данным анализа, повинны в том были отнюдь не пращуры зунтян, просто кому-то, понадобилось загадить колодец.
Казалось бы, все потеряно. Но Марта не сдалась. С помощью Иниты, жены Гунара, решила вычистить колодец.
Хотя ночь была звездная, но темным-темна; старый месяц всходил только под утро. Страха Марта не чувствовала, но была взбудоражена. Инита тоже беспокойно позвякивала ведрами.
– Марта, гляди: Млечный Путь! Мне бабушка в детстве рассказывала, это души покойников добела его истоптали.
– Покойников бояться нечего, иной из живущих страшнее любого покойника.
На кладбище, в тени деревьев темнота совсем сгустилась. Марта засветила фонарь. Напуганные светом, проснулись галки. В ночной тишине их галдеж растекался с многократным усилением, казалось, небосвод до краев заполнился шелестом крыльев и криками. Самая настоящая буря Судного дня, яростный вихрь разгневанных душ и глоток, дорвавшихся до проклятий. Марте чудилось, опять она спускается в преисподнюю зла, в кровью залитое жуткое подземелье…
Колодец вычерпали до дна, насыпали в него хлорки, прикрыли сруб одеялом. Затем еще раз всю воду вычерпали.
Обратный путь Марте показался коротким и светлым. Месяц был похож на поклеванное птицами яблоко.
На другой день в Зунте пошли разговоры, будто в кладбищенском колодце воду отравили, из него-де синие пары валят, трава кругом словно ошпарена. А Паулис, прищурив один глаз, шутил: это предки снизу приоткрыли краны горячих гейзеров.
На том же этапе зунтянам открылось еще одно похвальное свойство Марты – ей чужда была мелочность, ради пользы дела была готова поступиться личной неприязнью, не считаться с прежними обидами. Придя к выводу, что призыв пересмотреть решение получит больший вес, если будет исходить не от частных лиц, а от учреждения, представляющего интересы всех жителей города, Марта обратилась с просьбой к Рупейку на официальном бланке с его неразборчивой подписью поддержать единодушное требование граждан. Рупейк ничего подобного не ожидал. Присоединиться к просителям означало выступить против себя. Не присоединиться – означало, что предложение, поддержанное тысячью четырьмястами семьюдесятью шестью письмами зунтян, становилось обвинением против него. Рупейк, кряхтя и отдуваясь, долго ерзал в своем кресле – уж было взял авторучку, чтобы подписать, но отложил, уж было потянулся за телефонной трубкой, но отдернул руку. Наконец слабым голосом попросил секретаршу перепечатать заявление на большом бланке. Черт-те что, черт-те что! И ничего не поделаешь… В конце концов, руководить массами его прямая обязанность.
Так что к Вершителю дел Марта явилась во всеоружии внушительных бумаг, которые не только убеждали, но и смущали. Человек, ничего не требующий лично для себя, все еще остается явлением исключительным.
– Как вы сюда проникли? – удивился Вершитель. – Сейчас здесь начнется совещание.
– По шефской линии, – ответила Марта. – Шахматная федерация объединяет город и деревню.
– Но с какой стати вы пришли ко мне?
– Это такое дело, в котором не каждый разберется.
– Хорошо, оставьте ваши бумаги, мы разберемся.
– Нет, – сказала Марта, усаживаясь, – я никуда отсюда не уйду, пока не наложите на заявлении свою резолюцию.
И вот зунтяне вновь могли со спокойной душой хоронить своих близких рядом с почившими в разное время родичами. Марте весь следующий год приходили в Крепость письма с изъявлением благодарности. Многие из них были украшены рисунками и литературными цитатами вроде следующих строк из Яна Райниса:
Проходит все, а ничего не исчезает,
И добрые дела живут в веках.
Марта по-прежнему жила то в городе, то в Крепости. Частенько болела. Работа воспитательницы в общежитии ей пришлась не по душе, и она перешла в детский сад.
Марта Вэягал скончалась в возрасте пятидесяти четырех лет и была похоронена на Старом кладбище в Зунте рядом со своим приемным отцом Августом Вэягалом. После того как Марта перестала вставать с постели, она попросила Иниту в случае смерти все ее записки и воспоминания о военных годах, а также сохранившиеся детские фотографии передать Скайдрите Вэягал. Среди бумаг оказался и дневник, обрывавшийся такими словами:
«Борьба со злом настолько стара, закоренела, неизбывна, что невольно приходишь к выводу: борьба эта имеет какое-то особое, непреходящее значение для существования рода человеческого. Быть может, крайности добра и зла такое же двуединство, как свет и тьма, тепло и холод? Быть может, в атмосфере планеты зло циркулирует, подобно влаге, а коэффициент зла каким-то образом совпадает с коэффициентом получаемого и излучаемого планетой тепла?»
17
В один из летних ливней в комнате второго этажа Крепости, где жили Элмар и Раймонд, потекло с потолка. Вечером Виестур поднялся на чердак посмотреть, в чем дело. Паулис, как обычно, пропадал на каком-то собрании или репетиции оркестра. На следующее утро Виестур сказал ему:
– Послушай, отец, что-то надо делать с крышей. Насквозь протекает. По стропилам ручьи разливаются. Не содрать ли старый шифер и не покрыть ли новым?
Но свободных денег не нашлось, да и не просто было шифер раздобыть. Крышу кое-как подлатали кровельным толем. На стыках по-прежнему текло. После того как Скайдрите поступила в институт и уехала в Ригу, просторная верхняя комната превратилась в нежилое помещение. А позднее, когда Элмар стал студентом, весь верхний этаж уже был заставлен старыми тазами, ведрами и ваннами. Затем начали лопаться оконные стекла. Некоторые клетки рам забили фанерой, потрескавшиеся стекла не трудились заменять. В дом залетали летучие мыши и ласточки, устраивали гнезда шершни. В ночной тишине даже в нижнем этаже было слышно, как в заброшенной части дома что-то шуршало, шипело, попискивало и жужжало.
Виестуру, наблюдавшему за угасанием Крепости, становилось не по себе. Однако старый дом за долгие свои годы был так запущен, что мелким ремонтом, чисто косметическими мерами ничего не поправишь. Требовался капитальный ремонт, а подвигнуть на это отца не было надежд. В этом году вряд ли получится, надо еще оглядеться, куда жизнь повернет, – такими ответами обычно отделывался Паулис.
Конечно, не все гладко было в жизни. Трухлявые срубы тракторы свозили в колхозный центр, и там они, кривые, скособоченные, стояли никому не нужные. Ходили толки об агрогородах, о взметнувшихся поверх макушек деревьев многоэтажных зданиях. После объединения колхозов переместился и колхозный центр. Планы мелиораторов предусматривали снос многих хуторов. В газетах стыдили, высмеивали живущих на отшибе хуторян. Крупный ремонт Крепости со стороны мог показаться пустым расточительством или упрямством.
Невозможно было не считаться и с доводом, который обычно выдвигала Нания: Крепость непомерно велика, можно концы отдать, прибирая этот несуразный домище. Да и много ли их осталось, Скайдрите на фармацевта учится, едва ли к ним уже вернется. Элмар тем более. Раймонт заканчивал среднюю школу, через два года упорхнет и он. А с Виестуром все та же давняя беда Вэягалов – никак жену себе не подыщет.
Нания работала в полеводческой бригаде, домой являлась затемно, попробуй такую махину содержать в порядке. Нания гордилась своими цветочными клумбами, чисто прополотым огородом, аккуратным газоном; никогда прежде не был так хорош двор «Вэягалов». Зато в доме зачастую беспорядок полный – постели не прибраны, одежда разбросана как попало, повсюду пыль и сор. Иной раз Паулис пытался вразумить жену, а Нания в ответ как топором рубила: «У тебя тоже есть руки, не только язык, с чего ты взял, что постель положено лишь жене убирать».
С годами Нания становилась сварливой, легко раздражалась. Больше других доставалось Паулису. Впрочем, их перепалки и перебранки касались мелочей, что ни говори, а Нания пеклась о семье. Белье всегда чисто выстирано, более или менее даже заштопано. На столе каждый день горячая еда. И скотина на дворе сыта, обряжена. Хлеб, муку, крупу, сахар – все приходилось доставлять из Зунте. На Паулиса ни в чем нельзя положиться, ему всегда куда-то надо идти, вечно у него оказывалось неотложное дело, с кем-то переговорить или где-то играть.
Новый председатель по фамилии Шкинейс, сам будучи горожанином, совещался с Паулисом чуть ли не ежедневно. «Ну, как же, как же, ты для него нечто вроде справочника, – язвила Нания, – он без тебя как без рук…» И все же был свой прок в советах Паулиса. Подобно переменчивой моде на женские юбки, волнами накатывались квадратно-гнездовые способы посева, торфоперегнойные горшочки, кукуруза и еще – попробуй теперь вспомни – какие моды. Невесть откуда принесет такое облако, никто его толком не разглядит, не почувствует. А Паулис всегда что-то знал. Он имел обыкновение копаться в журналах и, бывая в разъездах, держал глаза открытыми, набирался опыта. Во время кукурузной эпопеи он, к примеру, выразился так:
– Королеву полей не след хоронить по укромным полям, королеву вдоль дорог сажайте, где ездят кареты. А клевер, усладу коровьего брюха, вторым рядом сейте, поближе к скотным дворам и молочным бидонам. Это я вам говорю!
Зунтяне сумели сохранить и здравый смысл, и рассудок, а посему не знали, как выглядят пустые кормушки, и не дожили до того, чтобы коровы давали козью долю молока. Кое-кто из соседей пыжился, старался казаться лучше, чем был на самом деле, хозяйствовал на бумаге, раздувал показатели, Паулис же при каждом собеседовании с председателем твердил:
– Как высоко ни подкидывай шапку, все равно наземь упадет. Одними разговорами дела не сладишь, приписками животы не накормишь.
Для затянувшейся холостяцкой жизни у Виестура имелись основания, хотя ни Паулис, ни Нания разобраться в них не могли. В армию Виестура не взяли – вроде бы не хром, а при ходьбе чуточку припадает. Виестур на тракториста выучился, к моторам он сызмала имел пристрастие. Парень он был симпатичный, рослый, светловолосый и, не в пример большинству Вэягалов, имел темные и длинные ресницы. Девчонки о нем сочинили такую загадку: «Угадайте – кто не черен и не бел, не цыпленок и не черт?» Светловолосая голова Виестура как-то особенно выделялась поверх замасленного ватника тракториста. Волосы Виестур всегда содержал в чистоте и порядке. «Он просто помешался на своих волосах, – сказал Паулис Нании, – каждую неделю бегает в парикмахерскую». На самом деле Виестур бегал к Валии, всегда только к Валии.
– Как будем стричь? – спросила Валия с лукавой улыбкой.
– Сделайте покороче, – раскрасневшись от смущения, Виестур тупо глядел в большое зеркало.
Неделю спустя опять явился.
– Да ведь не успели еще отрасти, – удивилась Валия.
– Не беда, сделайте покороче.
Через неделю Виестур снова сидел в ее кресле,
– Еще слегка укоротите.
– Тогда уж под бокс.
– Пусть будет под бокс.
– А в следующий раз что – под гребенку? Волос ваших жалко! – Валия в нерешительности теребила шевелюру Виестура. – Вот что, лучше как-нибудь в выходной день прокати меня на мотоцикле. Говорят, в окрестностях по берегам Светупе так славно поют соловьи.
Виестур катал Валию на мотоцикле всю весну и все лето. Это, разумеется, не осталось не замеченным ни для молодых, ни для старых зунтян. Молодые говорили: «Ты смотри, какие у Валии стройные ножки!» (В ту пору у женщин еще не были в моде брюки, и подол платья Валии на мчащемся мотоцикле развевался где-то на уровне талии.) А старики говорили: «Совсем спятил парень, не сломал бы шею, на дорогу даже не смотрит, все назад, все в глаза ей пялится». Валия, обеими руками крепко обнимая Виестура, за его широкой спиной казалась маленькой, хрупкой и счастливой.
Осенью колхоз послал Виестура на учебу. Школа далеко – на другом конце Латвии, а курс обучения двухгодичный. Что у Валии объявился новый ухажер, обнаружилось несколько месяцев спустя. Эдгар, бурильщик колодцев, тоже парень видный, того никто не отрицал. В противоположность Виестуру он в первые же десять минут умудрился весь выложиться, рассказать с десяток анекдотов, наговорить кучу комплиментов, перебрать все последние местные новости, достоинства любимых эстрадных певцов. Когда Виестур приехал в Зунте на каникулы, Валия была уже замужем. Два года спустя, когда Виестур воротился домой с дипломом в кармане, Валия по главной улице катала детскую коляску с розовыми занавесками.
Такие случаи в Зунте бывали и раньше, никто особенно не удивлялся. Одно казалось странным, что место Валии на заднем сиденье мотоцикла Виестура так и осталось незанятым, хотя хорошеньких девчонок в Зунте хватало. Что-то буркнув Паулису о барахлящем моторе, Виестур закатил мотоцикл в тележный сарай, где он и простоял все холостяцкие годы Виестура. Да и не было нужды в мотоцикле, по своим бригадирским делам Виестур разъезжал на служебном газике, а как частное лицо больше возился по дому или вместе с Волдисом Рудзитом торчал на берегу озера Буцишу, гипнотизируя поплавки своих удочек.
Погожим осенним днем вспахав картофельные грядки на приусадебном участке, Виестур в конце последней борозды объявил Паулису и Нании, собиравшим картошку:
– Значит, так, дорогие родители, я женюсь.
Нания вытерла испачканные землей руки о цветастую юбку, сняла с головы соломенную шляпу, помахала ею перед собой, словно веером.
– Вот тебе раз… И на ком, позволено будет спросить?
– На Валии. Я так считаю: любовь, как смерть, у каждого одна.
– Ну и чудак.
– Чудак иль не чудак, – сказал Виестур, – а готовьтесь к свадьбе.
Должно быть, впервые в жизни Паулис оставил без ответа вопрос Нании, только громко рассмеялся. Какого был он мнения об избраннице Виестура, осталось загадкой. Однако недовольства на его лице не было заметно, удивления тем более.
Месяц спустя Виестур расписался с Валией. Валия перебралась в Крепость. Грузовик, на котором она приехала, был пустоват. Дочке Валии Гуне шел десятый год. Пока Валия помогала Виестуру перетаскивать узлы, Гуна на кухне общалась с Нанией.
– Мебель мы пока решили ие перевозить, кто его знает, как тут у нас житье сложится. Городская квартира останется за нами, там бабушка прописана. Если понравится, буду жить у вас, а нет, уеду обратно в Зунте. Мне бабушка сказала: быть тебе там падчерицей, и только.
Затем Гуна вернулась к Валии и поспешила выложить ей то, о чем только что говорила с Нанией.
– А знаешь, мама, эта тетя ужасно любезна. Она была рада, что мы свои вещи оставили в городе, говорит, что со старой рухлядью можно ненароком в дом занести клопов. О тебе она высокого мнения: говорит, быстро приберешь к рукам Виестура, поскольку женщина ты бывалая, прошла огонь и медные трубы.
Дар словоизвержения Гуна унаследовала от отца и болтала без умолку в любом месте, с любым и каждым. А поскольку при повторных пересказах к услышанному добавлялась изрядная доля фантазии, ее труды не оставались втуне. Вместе с Гуной на широком пространстве расползались микробы подозрений, зародыши обид, вирусы огорчений, инфузории злобы.
Благодаря стараниям Гуны и отчасти извечно женской ревности к той, что отнимает у матери сына, отношения между Нанией и Валией в первую же неделю обострились настолько, что в Крепости практически был восстановлен порядок, существовавший во времена Ноаса и Августа: она снова как бы разделилась на два дома под одною, крышей. Однако ничто не говорило о том, что Валия собирается вернуться в город. Более того, мать Валии частенько оставалась на ночь в «Вэягалах», помогая дочери по хозяйству. Виестур привез из Эстонии новую мебель. Валия попросила Виестура купить теленка, овцу, поросенка, цыплят. До лета она ездила в парикмахерскую, но, когда родилась Ева, с работы ушла. Правда, и сама еще не верила, что парикмахерский инструмент отложила навсегда. Окончательно распрощалась с парикмахерской, когда на свет появилась Байба. Взгляд на мир поверх трех детских затылков сильно меняется. К тому же было ясно, что и после Байбы точку ставить рано. Виестуру хотелось сына. Но вслед за Байбой родилась Марите, а затем Солвита. Пятая по счету дочь несколько охладила пыл Виестура, хотя на словах он по-прежнему храбрился. Просто Валия заколебалась, объявив, что все желания сбываются лишь в сказках.
Паулис по этому поводу подтрунивал над Виестуром: «Сделать абы как вещь не хитрая. Сделать по своему хотению – вот высший смак. В былые времена такое хорошо получалось у итальянца Макиавелли, а в наши дни немножко у жены моей Нании. Будешь головой об стену биться, ничего, кроме шишек на лбу, не наживешь».
Со временем, особенно после того как Гуна уехала в школу-интернат, отношения между Нанией и Валией несколько улучшились. И хотя до дружбы дело так и не дошло, при раздельном ведении хозяйства подобное сосуществование никаких жертв не требовало. Девочек Нания любила и приближала к себе. По правде сказать, лишь они, девчонки, не обращали внимания на существующее разделение дома и поселившимся на его просторах центробежным силам противопоставляли свои непорочные стремления к общности.
Переписка Леонтины с Индрикисом привела к тому, что сын пригласил ее к себе в гости. Это окрылило за последние годы заметно сдавшую Леонтинию. К путешествию она готовилась восторженно, чуть ли не с энергией своих лучших лет, – шила платья, искала подарки, изучала географию Англии, у пенсионерки-учительницы брала уроки разговорного английского языка. В ту пору слава длинноволосых гитаристов-битлов была в зените, и Леонтина во что бы то ни стало решила побывать на их концерте, в Ливерпуле или в Лондоне. Из этих соображений она взяла с собой и длинное вечернее платье из алого панбархата.
Отъезд Леонтины из Зунте стал событием дня. Февраль был на исходе, в воздухе уже чувствовалось весеннее томление, за черной сеткой обнаженных вет вей светлело невесомое ясное небо. Виестур выпросил колхозную «Волгу», чтобы доставить Леонтину в Ригу. Оркестр Паулиса – в несколько уменьшенном составе – исполнил «Вальс свечей» из фильма «Мост Ватерлоо». Подруги поднесли Леонтине цветы. Сноровка побуждать герань к цветению сохранилась в Зунте со времен парусных кораблей; мужья опять бороздили моря планеты, частенько приходилось отмечать отплытия и прибытия, а планы оранжерей городского садоводства не всегда принимали в расчет потребности зунтян.
Леонтина, в шубе из каракулевых лапок, в сингапурском парике цвета перца, пересчитывала чемоданы, проверяла, все ли нужные документы при себе, и потихоньку утирала слезы умиления.
Индрикис ей от души советовал лететь в Англию на джэте, что в переводе означало турбореактивный самолет. Но к воздушному транспорту, которым Леонтина ни разу в своей жизни не воспользовалась, у нее доверия не было. Больше всего не нравилось Леонтине, что с земли самолеты казались какими-то несерьезно маленькими и волочили за собой дымные струи, словно собрались вспыхнуть в воздухе. Поезд совсем другое дело, там свое купе, toilette {20}20
Туалет (фр.).
[Закрыть] вполне нормальных размеров. Нет, даже в случае крайней нужды она бы не решилась этого сделать в самолете – на головы другим!
Что говорить, поездка через Европу была интереснейшим приключением. Уже в Москве второе место в купе занял симпатичный сенегалец. Леонтина смогла всласть наговориться по-французски, как в ту пору, когда Руи Молбердье с утра до вечера толковал с ней d’amour{21}21
О любви (фр.).
[Закрыть]. Сенегальца звали Поль Делакруа. Он изучал в Москве астрономию, а теперь ехал на каникулы. Куда? Может, в Париж, может, в Рим. Проспав станцию, где следовало сделать пересадку, он только рукою махнул: ничего, билет у него до Остенде, а там будет видно. Простите, мадам, а вы куда путь держите? В Лондон? Это идея! Уже три года, как я не был в Лондоне, черт побери, pardon, s’il vous plait{22}22
Прошу извинить (фр.).
[Закрыть], как бежит время.
Поль Делакруа был человеком широкой натуры. Его перемещение от конечной станции к парому, курсирующему через Ла-Манш, и в свою очередь от парома к таможне Дувра напоминали перемещение короля Дагомеи во время охоты на львов. Хотя багаж Леонтины и Поля состоял в общей сложности из четырех чемоданов и двух несессеров, как на континенте, так и по другую сторону Ла-Манша вокруг них юлил по крайней мере десяток носильщиков: одни забегали вперед, открывая дверь, другие расправляли складки ковра, остальные почтительно следовали позади, как бы держа над ними воображаемые опахала из страусовых перьев или позолоченные балдахины.
Королевская опека Поля Делакруа, которую Леонтина, к слову сказать, воспринимала как должное, к сожалению, оборвалась внезапно и на редкость банально. В зале Дуврской таможни Поль Делакруа, перехватив взгляд какой-то плутоватой красотки с платиновой крашеной шевелюрой, ринулся следом за ней. Пока нервозный индеец рядом с подчеркнуто спокойным английским бобби копался в содержимом ее чемоданов, Леонтина в очередной раз вспомнила Руи Молбердье, теперь найдя в нем что-то общее с Полем Делакруа. «Хорошо, что я тогда не вышла за него замуж», – еще подумала вслух она.
– Простите, мадам, – сказал индеец, на восточный манер сложив ладони. – Я вас не понял.
– А этого вам и не следует понимать.
Вокзал Виктории своим огромным стеклянным прокопченным колпаком напомнил Леонтине несколько увеличенный в размерах старый Динабургский вокзал в Риге, откуда в свое время Алексис Озол увез ее в Россию. В конце перрона у газетного киоска стоял Индрикис. Как будто они расстались всего неделю или две назад. Единственная перемена, тотчас бросившаяся в глаза, – поредевшие волосы на голове Индрикиса тщетно пытались прикрыть заполярную пустоту его макушки. Все это было как сон и вместе с тем – действительность. Она вроде бы все понимала – и между тем не понимала ничего. В самом деле: почему Лондон и почему они плакали, смеялись, говорили какие-то необязательные слова, в то время как вокруг, не обращая на них ни малейшего внимания, сновали куда-то спешащие люди? Почему, выйдя из тесных и низких дверей, они вдруг очутились среди лавчонок и пестрящих рекламами фасадов, таксометров и красных двухэтажных автобусов? Почему Индрикис сказал, что он здесь ничего не знает, и к неблизкой окраине, где остался его автомобиль, повез ее на такси?
Почти всю ночь они провели в пути. Время от времени призраками мимо проплывали освещенные, без единой живой души города. Усталость сломила Леонтину, и она погрузилась в дремоту. А когда проснулась, вокруг бушевала пурга. Узкая дорога с проволочным ограждением от скота по обеим сторонам напоминала ей Латвию. Казалось, за ближайшим поворотом пейзаж станет еще более знакомым и вскоре покажется Зунте. Но они въехали в темный лес и остановились у одиноко стоящего темного дома. Справедливости ради заметим, что ночные впечатления подвели Леонтину. Лес на самом деле оказался старым муниципальным парком, а одиноко стоящий дом – коттеджем вблизи небольшого городка; рабочие сталелитейного завода жили в окрестностях таких городков, где их подбирали и свозили к месту работы специально высылаемые автобусы.
Леонтину ждали, это стало ясно, едва загорелся свет. Дверная притолока была разукрашена бумажными цветами и лентами. По случаю ее приезда даже был вывешен государственный флаг, что осталось бы не замеченным Леонтиной, не обрати на следующий день на это внимание невестка. С постелей поднятые внук и внучка вид имели сонный. Они рассеянно целовали Леонтину и, благодаря ее за подарки, не очень убедительно восклицали: «О, какой кароший!..» Мирдза, невестка, от волнения безостановочно плакала. Как хозяйка она ничем особенно не выделялась, это Леонтина тотчас про себя отметила, зато продемонстрировала высокий медицинский класс, когда с Индрикисом после всех переживаний долгого дня за столом случился сердечный приступ.
Леонтина с головой окунулась в английскую жизнь. Ее интересовало решительно все: ее милый сын и милые внуки, окрестные замки, супермаркеты, где люди делали закупки, соборы, где молились богу, подземные гаражи в городе, где стояли их автомобили. В постоянном напряжении ее держал ералаш разноречивых чувств – новизна и что-то вроде ностальгической радости оттого, что свидание происходит наяву, возвращая ее к некой, давно отшумевшей поре. И вовсе не потому, что присутствие Индрикиса и Мирдзы к чужому и неведомому примешивало толику интимности. Нет, корни ностальгии уходили глубже. Сказка о мальчике-нищем, большой печатью английского королевства колющем орехи, была неотъемлемой частью детства Леонтины. Как и сказка уже пожившей Леонтины – о жителях Ламбета, танцующих ламбет-уок; как танцевал ламбет-уок капитан Велло! Затем еще сказка о красавце принце Уэльском с аккуратным пробором над левым виском: с какой самоотверженностью тот поступился королевским троном ради прекрасной леди Симпсон… Конечно, в последние годы память была уже не та, что раньше, но в свое время прочитанное в довоенных журналах Леонтина помнила хорошо. Столь же четко перед глазами стояли и фильмы, кадры кинохроники, просмотренные в кинотеатре Зунте, когда ее интерес был прикован к Англии.
Кое-чему пришлось подивиться. Прежде всего странному образу жизни и забавному мышлению ее милого Индрикиса. Оказалось, что Англию он знает куда хуже, чем она. Он не видел дома, в котором родился Байрон, не имел ни малейшего понятия о том, что происходит в Шекспировском Мемориальном театре в Стратфорд-он-Эйвоне. Когда она попыталась расспросить его о новой программе битлов, Индрикис скорчил такую гримасу, будто у него спросили, какого цвета глаза у Несси из озера Лох-Несс. Этого Леонтина не могла никак уразуметь.
– Послушай, – воскликнула она, – как ты живешь! Можно подумать, тебя в ящик стола запихнули! Кино! Кино! Чтобы смотреть кино, необязательно жить в Англии.
Странно было и то, что мелочность Индрикиса наглядней всего проявлялась в его расточительности, стремлении как можно лучше принять Леонтину. Индрикис позволял себе гнать машину за десятки миль, а цель на поверку оказывалась до смешного незначительной– съездили в гости в какую-то семью, к людям, которых Леонтина видела впервые, отобедали, поболтали и покатили обратно. Приведя Леонтину в дорогой ресторан, Индрикис мямлил, будто каши в рот набрал: он не знал, как заказывать и что заказывать. Леонтина раньше жила и теперь пребывала в полной уверенности, что все сущее в мире доступно и ей. А Индрикис здесь, в Англии, постоянно помнил о границах своих возможностей и жутко волновался всякий раз, когда собирался эти границы переступить. Он знал наверняка, по карману ли ему этот магазин или это развлечение, предназначена ли ему продукция этой фирмы, по его ли социальному рангу это знакомство. Нет, в самом деле, отчего Индрикис, ее сын, жил такой беспросветной жизнью, словно жучок-древоточец, забившийся в днище старого комода Ноаса? Деньги у него водились. К тому же он как будто смирился с незавидным своим положением, хотя иной раз и хвастал, куражился.
– С нами тут считаются, – разъяснял он Леонтине, как малому ребенку, – мы все-таки белые, а это кое-что да значит, когда негры валом валят, как вода в худую лодку. Я еще ни разу не был безработным. Конечно, вкалывать приходится почем зря – в будни ложусь с семи вечера, в три утра уже надо выезжать на работу.
В доме Индрикиса от вечного холода у Леонтины кости ломило. Центральное отопление включали всего на несколько часов в сутки, остальное время пробавлялись разными электроизлучателями. Мирдза очень гордилась своим изобретением – для обогрева дома пользоваться горячей водой. Ночью, когда электричество стоило дешевле, она кипятила три-четыре ведра воды и в больших емкостях разносила кипяток по комнатам.
На второй неделе Леонтина обнаружила еще одну несуразность: дети между собой говорили по-английски. Когда же Леонтина попробовала их пристыдить, младшая Лиана смутилась, а старший Карлис только ухмыльнулся:
– А зачем нам говорить по-латышски? Какой от этого прок?
Леонтина была не из тех, кого легко смутить, однако самоуверенный тон внука и сама постановка вопроса выбили ее из колен:
– Зачем? Иокогама, Алабама! Да затем, что мы латыши!
– Теоретически. А практически мы бритты.
– Что ты говоришь! Ну, прямо как Индрикис в детстве! Кто тебя этому научил? Запомни, постреленок, латышский – это язык твоих родителей.
– И родители достаточно часто говорят по-английски.
– Если мы не станем свой язык уважать, кто ж его будет уважать?
Карлис надулся и равнодушно пожал плечами; и так он ей напомнил Индрикиса в его отроческие годы, что у Леонтины сжалось сердце.
– Быть может, вы когда-нибудь приедете в Латвию. На каком языке там вы будете объясняться? – продолжала Леонтина, взяв тоном ниже.
– Мы не поедем в Латвию. – Зато тон Карлнса становился все более жестким и вызывающим. – Если бы там было хорошо, с какой бы стати па сюда переметнулся?
– Там, поросята вы этакие, покоятся ваши предки!
– Наша родина здесь. Лучше, чем в Англии, нам нигде не будет.
– Слушаю вас и диву даюсь…
– А чему вы удивляетесь, бабушка? Вы-то почему не научили па крепче любить Латвию? Здесь нам, бриттам, полагается любить Англию. Тут и без того хватает ханжей «Черной перчатки», при всяком удобном случае подчеркивающих свое особое положение, даже портрет королевы готовы грязью забросать, однако почему-то не спешат убраться в свои Сьерра-Леоне или Зимбабве. И никогда не уедут. Если б их и силком выгоняли.
Разговор оборвался, поскольку Лиана, скорчив озабоченную рожицу, напомнила Карлису, что было бы неучтиво раздражать и дальше бабушку.
– Этой темы лучше не касаться, бабушка, хорошо? Вы интересная леди, однако есть вопросы, по которым нам будет трудно друг друга понять.
Леонтина ощутила такую душевную и телесную слабость, будто ей на голову свалился камень или начался приступ радикулита. День-другой отлежавшись в постели и еще раз взвесив в уме услышанное, она в подходящий момент завела об этом разговор с Индрикисом.
– Видишь ли, мой милый сын, мы в свое время тоже жили на чужбине и все же связи с родиной не утратили. Нам и не снилось, что мы могли бы стать чем-то иным, кроме Вэягалов. И когда я сказала, что надо вернуться обратно к своим, ты тоже это счел благоразумным.
Индрикис, ссутулившись, сидел в глубоком кожаном кресле («эту рухлядь я приобрел по случаю на аукционе») и, опустив веки, слушал слова матери. Его сдвинутые брови говорили, что он не совсем с нею согласен, однако возражать не стал.