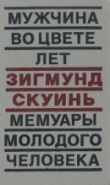Текст книги "Кровать с золотой ножкой"
Автор книги: Зигмунд Скуинь
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 23 страниц)
Казалось бы, тем самым судьба Мамзели в доме была решена, своенравная и деятельная Элизабета, надо думать, сумеет ее выжить. Но минула зима, прошло лето, а француженка все еще будоражила дом и семейство Вэягалов. Правда, не столь ощутимо, как прежде. Будучи женщиной неглупой, Клодия вовремя себя приструнила, избыточную энергию переключив на обязанности, никем особенно не оспариваемые, а именно – воспитание Леонтины.
В следующем году у берегов Ирландии затонул барк «Катрина», Якаб Эрнест повредился в уме, а Элизабета погрузилась в мрачную апатию, о чем уже рассказано. Изменившиеся обстоятельства не только отвели от француженки угрозу того, что ее услуги под необъятной крышей дома Вэягалов в какой-то момент могут оказаться ненужными, но и предоставили ей неограниченную свободу действий. В суматохе дел и неприятностей Ноас был только рад, что в доме есть человек, кому можно препоручить заботы о Леонтине. Точнее, это несколько смягчало угрызения совести из-за того, что он не способен уделить должного внимания воспитанию дочери.
В далеких портах Ноас получал от Леонтины надушенные, по-французски писанные письма, которые он самостоятельно не мог прочитать, но они приоткрывали в нем тайники нежнейших отцовских чувств. Из каждой страны, где он бывал, Леонтина получала что– нибудь роскошное. На обратном пути каюта Ноаса оказывалась заваленной коробками, картонками, узлами и свертками. Все это помимо лавины покупок, совершавшихся по заготовленным Мамзелью спискам, включавшим как интимные аксессуары туалета, так и сугубо практические предметы гардероба, диковинные санитарно-гигиенические приборы, о назначении коих он не имел ни малейшего понятия.
Сама француженка с годами раздавалась вширь, ее лицо, и без того мужеподобное, сделалось еще массивнее, суровее. И все же в глубине души ей удивительным образом удавалось сохранить какую-то толику женственности. Красота Леонтины, ее раскрывавшееся обаяние, к чему Клодия, несомненно, приложила руку, надо полагать, доставляли ей радость хотя бы потому, что самой все это было не дано. Несостоявшиеся мечты, несбывшиеся надежды помогали разгадать прелести, таившиеся в еще не распустившемся бутоне. Презрев входившие в моду идеалы эмансипированной женщины, Мамзель целенаправленно и талантливо лепила из Леонтины женщину, любовь которой полагалось завоевывать. Воспитательнице невероятно повезло в том смысле, что воспитанница – если позволено так выразиться – оказалась благодатным материалом.
Той осенью, когда Леонтине исполнилось семнадцать, разыгравшийся шторм загнал в гавань Зунте яхту с поломанными мачтами и разодранными парусами, – такого корабля тут никому еще не доводилось видеть. Страдавший от бессонницы сын Яниса Клепериса, которого все, пренебрегая его крещеным именем, называли просто Молодым Клеперисом, до самой смерти не переставал рассказывать, как он тогда, увидев выплывавший из бездны и тьмы бушприт с парящим белым ангелом, осенил себя крестным знамением, ибо решил, что к ним пожаловал Летучий Голландец. Позднее, распознав вполне человеческие световые сигналы, а главное – сплошь золотом сверкающий мостик и салоны с разноцветными окнами, он подумал: «Пусть меня отныне хоть придурком Клеперисом кличут, если там внутри не сидит по крайней мерс испанский король, заблудившийся по дороге к русскому царю!»
Молодой Клеперис был таким же пустоплетом, как его батюшка, в свое время распустивший слух о том, что к двадцати очевидным золотым пуговицам Ноасова мундира следует добавить четыре потайных. И все же следует признать, что его домыслы не слишком разошлись с истиной. Роскошная яхта принадлежала человеку, сфера приложения капиталов которого была не менее обширна, чем Испания. После безмятежного времяпрепровождения в петербургских дворцах шторм захватил денежного туза как раз, когда тот не мог по-настоящему решиться, куда отправиться дальше – прямо ли в Копенгаген или шутки ради завернуть в Ригу, об этом городе он совершенно определенно слышал что-то интересное, хотя не мог припомнить, что и от кого.
Шторм бесновался несколько дней кряду, к тому же яхта нуждалась в ремонте. Безмерно скучавшие путешественники пытались развлекаться, а местный люд не уставал глазами хлопать. Ряженые господа расхаживали с зонтиками, которые ветер рвал у них из рук, – случалось, и вырывал, один такой зонтик даже месяц спустя после отплытия яхты болтался на макушке высокой сосны; в бархатные пелерины и шали из тафты закутанные писклявые дамы перемещались главным образом на спинах господ, по временам пришпоривая их каблучками своих туфелек. Вся эта пестрая компания в различных местах иногда принимала декоративные позы, а какой-то шустрый юнец перед застывшей группой устанавливал деревянный ящик и укрывался с головой черным покрывалом. На другой день бывали готовы картинки, и на них можно было узнать фигуры и лица людей в тех местах, где их застиг ящик.
Само собой разумеется, что при осмотре туземных достопримечательностей обязанности гида и переводчика для заезжих иностранцев с восторгом возложила на себя мадемуазель Клодия. А поскольку передвижения, особенно в ветреную погоду, для нее были затруднительны, волей-неволей пришлось представить иностранцам Леонтину, единственное лицо в Зунте, способное заменить Клодию по части тонких манер и знания языка.
При виде местной златокудрой красавицы, талию которой при желании можно было обхватить пальцами рук, в то время как грудь се хотелось сравнить с пышной волной, пораженные господа разом воскликнули – ол-ла-ла! – а шустрый мастер по картинкам застыл как вкопанный, будто на самого навели глазок таинственного ящика. Очнувшись, молодой человек попросил разрешения засиять ее. В последующие дни Руи Молбердье – так звали юношу – снимал Леонтину тридцать четыре раза, что, учитывая технологию того времени, следует оценить по достоинству. Он настолько увлекся, что, кроме Леонтины, больше никого и не снимал, п это заслуживает быть отмеченным, принимая во внимание тот факт, что Рун Молбердье не был ни. крестником Дюпона, ни двоюродным братом Рокфеллера, а всего-навсего изготовителем картинок, нанятым владельцем яхты. На тех картинках Леонтина стояла в задумчивых позах, облокотись на резные тумбы и декоративные цветочные столики, прижимая пальчик к пухловатой щеке или, повернув голову, с мечтательным взором глядя через плечо, никогда не позволяя себе расплыться в беспечно-шаловливой улыбке, всякий раз затеняя ее дымкой таинственности.
Той осенью Ноас, как назло, опять задержался в теплых морях. Напрасно было ожидать, чтобы трепыхавшая от восторга мадемуазель Клодия трезво оценила ситуацию. Возможно, и она в глазах незнакомого юноши заметила огнедышащую страсть, однако некий соплеменный атавизм, присущий всем оторвавшимся от родины странникам, внушал ей столь непомерные симпатии к этим нечаянно-негаданно свалившимся с неба и на ее родном языке говорящим людям, что бдительность дуэньи на время отключилась. Ей в голову не пришло протрубить сигнал тревоги, чтобы невинность Леонтины смогла заблаговременно закрыть крепостные ворога и поднять мосты. Будучи не в силах побороть в себе одуряющего восхищения, избавиться от мысли, что появление роскошных яхтсменов стало событием в ее жизни, Клодия все это в равной степени относила и к Леонтине, в буквальном смысле слова трепеща своими расплывшимися телесами от сознания, что может наконец с ошеломляющей наглядностью показать воспитаннице «свой мир», «своих людей». И не просто показать, но ввести Леонтину в этот мир, в круг этих людей.
Влюбившись с первого взгляда и понимая, что в его распоряжении лишь несколько дней, Руи Молбердье не мешкая пустил в ход свой напористый темперамент и все припасы галантного обращения. После нескольких затянувшихся прогулок вдвоем с Леонтиной, обедов на яхте и довольно продолжительных посещений временами затемненной, временами освещенной лаборатории, Руи в какой-то момент показалось, что он близок к желанной цели. Но и когда яхта стояла готовой к отплытию, он, по сути дела, еще ничего не добился. Тогда Руи завлек Леонтину к себе в лабораторию и бросил в сражение последние резервы самых пылких заверений при мощной артиллерийской поддержке, которой можно уподобить его обещания взять Леонтину с собой «в Европу». Леонтина на это только посмеялась. Послав прохладный воздушный поцелуй, покинула яхту, отговорившись тем, что у нее насморк, а у него «ongles aigus».{2}2
Острые когти (фр.)
[Закрыть]
Отчаявшийся Руи Молбердье решился на смелый поступок в духе мушкетеров Дюма и Сирано де Бержерака. Полагаясь на изначальную отзывчивость Леонтины, он с наступлением темноты, продрогший и насквозь промокший, постучал к ней в окно. Не вдаваясь в психологические и драматические подробности, скажем коротко: Леонтина его впустила, какое-то время он, совершенно голый, находился в ее божественно теплой постели. Однако в тот момент, когда млевший от счастья любовник возомнил, будто от райских кущ его отделяет скорее символическая, нежели действительная преграда, Леонтина вновь проявила столь характерную для нее непредсказуемость. Сбросив одеяло, она объявила, что теперь он отогрелся и если сию же минуту не встанет с кровати и не исчезнет из комнаты тем же путем, каким прибыл, то услышит крик, какой ему в жизни слышать не приходилось. Как часовой, палящий в воздух первый предупредительный, Леонтина исторгла короткий, но достаточно громкий возглас. Лишь благодаря внушительным объемам мадемуазель Клодин, гасившим стремительность ее движения, в момент, когда она появилась на пороге комнаты Леонтины с высоко поднятой трепетной свечой, Руи Молбердье по крайней мере был уже не в костюме Адама. Но присутствие юноши даже в относительно пристойном виде так напугало Мамзель, что из разинутой от страха пасти вырвавшийся вопль уже никак нельзя было отнести к разряду предупредительных. Дом разом пробудился, ожил. Повсюду зажигались керосиновые лампы и светильники. В долгополой ночной рубахе притопал Август Вэягал. Пришла Антония. Последней, без ощутимого интереса, внешне вполне равнодушная, явилась Элизабета; на ее усохшей фигуре болталось черное мятое платье, можно было подумать, она и спала в нем.
– Как вы здесь очутились? – Схватив болтавшийся конец незаправленного в панталоны ремня, Август нехотя подтянул незнакомца поближе к свету.
– Позвольте представиться, – пытаясь не терять собственного достоинства, произнес юноша, – Руи Молбердье.
Клодия поспешила его слова перевести на немецкий.
– Ну ладно, ладно, а что вы тут делаете?
– У меня самые серьезные намерения. Я прошу руки мадемуазель Леонтины.
Леонтина постаралась всех заверить, что для беспокойства нет оснований, произошло небольшое недоразумение, только и всего. Находиться в комнате девицы по местным обычаям грехом не почитается, если, конечно, не преступаются пределы дозволенного. Так что пусть господин Молбердье спокойно оденется и уйдет. Он как иностранец, к тому же человек иного вероисповедания, может и не знать, что она еще не приняла первого причастия.
Дяде Августу доводы племянницы показались вполне здравыми. Во всяком случае, раздувать скандал в его намерения не входило. Пылкое желание невесть откуда явившегося мастера картинок посвататься к дочери Элизабеты скорее следовало считать несчастьем, чем счастьем. С другой стороны, и крутой отказ был столь же нежелательным: поднимется шум, пойдут кривотолки, а это повредит Леонтине. Разумней всего представлялось дождаться отплытия яхты. Что ветер принес, ветер и унесет.
Яхта отплыла, а Руи Молбердье с тремя кофрами, раздвижным штативом и ящиком картинок остался в Зунте. Поселившись в единственной комнате гостиницы, в тот момент оказавшейся свободной, он стал ежедневно появляться в доме Вэягалов – теперь уже не через окно, – в подтверждение своего решения жениться на Леонтине. Одновременно юный чужестранец развил кипучую деятельность и в других направлениях. Он повел деловые переговоры об открытии в центре Зунте мастерской картинок, обсуждал с пастором возможность перемены вероисповедания, заодно соглашаясь поступиться своим именем Руи в пользу Рудольфа или Русиня. И надо признать, дела его продвигались успешно. Месяц спустя мастерская распахнула двери, и в округе началось повальное увлечение картинками. Витрина мастерской украсилась увеличенным этюдом обнаженной: в отвернувшейся женской головке с распущенными Еолосами, скромно затаившейся в романтической дымке, достаточно четкой и в то же время смутной, скорее угадываемой, чем ощутимой, и все же выразительной, каждый мог опознать «пригожую Ноасову девчонку». Господин Молбердье, или Мелбардис, как для вящего удобства теперь его называли на местный лад, трудился в поте лица, снимая новорожденных и отошедших в мир иной, молодоженов, юбиляров и конечно же девиц и юношей первопричастников. Всем пришлась по душе деловитая простота Руи Рудольфа Русиня. Он никогда не раздражался, никто из посетителей не слышал от него резкого слова, со всеми был радушен, любезен, предупредителен. С ним можно было поторговаться о цене, поспорить о сроках. В общем, он понимал все языки и лопотал на любом, разумеется сохраняя свой французский прононс.
Хотя Ноаса ожидали дома только к осени, он появился еще до Янова дня. Поговаривали, не обошлось тут без участия Августа. Как бы то ни было, один из первых маршрутов Ноаса по цветущему городу привел его в мастерскую картинок. Постояв перед витриной и оглядев описанный выше этюд Леонтины, Ноас, подкрутив усы, огладив бороду, решительно шагнул внутрь, а заодно висевшую на цепочке эмалированную табличку с четырехъязычной надписью «Открыто» перевернул тыльной стороной, где значилось «Закрыто».
Можно лишь гадать о том, что внутри происходило. На другой день зунтяне вместо этюда Леонтины увидели двух милых собачек, одну большую, другую маленькую. А несколькими днями позже Руи Рудольф Русинь Молбердье Мелбардис бесследно исчез из Зунте. Помещение бывшей мастерской, расположенной на бойком месте, пустовало недолго. Вскоре там открылась парикмахерская, которая десятилетия спустя еще раз станет поворотным пунктом в судьбах Вэягалов: в этой мастерской сын Паулиса Вэягала, Виестур, влюбится в парикмахершу Валию.
Разные тогда ходили толки: «Ноасу это стоило кучу золота, ну да ладно, денег у него навалом». А про Леонтину шли такие речи: «Эка девка, вы только послушайте, что она говорит, – кругом, дескать, твердят «обрезанные, обрезанные», а у них все как у людей, ничуть не меньше, чем у других».
На разных широтах и меридианах перевозя рискованные грузы, Ноас твердо уверовал в истину, что существует единственный способ избавиться от тысячи подстерегающих тебя опасностей: поскорее сбыть с рук рискованный груз, доставив его по месту назначения. После очередных похождений дочери переведя эту благоприобретенную житейскую мудрость в бытовую плоскость, Ноас – ради счастья дочери и собственного спокойствия – почел необходимым Леонтину срочно выдать замуж. На рождество Леонтину повели к первому причастию, а в канун Нового года Ноас повез дочь в Ригу, и три недели прошли в нескончаемых балах и празднествах, в отцеживании сливок возмужалости из денежных и влиятельных семейств. Хотя Леонтина повсюду производила ошеломляющее впечатление и дебют ее расценивался как весьма удачный, Ноас вернулся с дочерью домой заметно раздосадованный. Рига, вопреки ожиданиям, оказалась пустоватой. За последние лет десять, с тех пор как он стал реже там бывать, многое изменилось. Столпы местного общества с кичливым высокомерием поглядывали на толстосумов из провинции, почитая их низшей кастой. Напыщенных папенькиных сынков не менее напыщенные мамаши, жеманно щурясь и выпячивая нижнюю губу, придирчиво озирали кандидаток в невестки и роняли как бы между прочим: «А вы, барышня, курс наук где проходили – в Сорбонне или в немецкой хохшуле?» Кое-что попадалось, не без того, однако ничего стоящего, чтобы тотчас бросить на наковальню и ковать, пока горячо. К тому же Ноасу не слишком понравился повышенный интерес, проявляемый Леонтиной к рослому и стройному актеру из труппы Роде Эбелинга. Влюбляться в театральных идолов в Риге считалось последней и похвальной дамской экстравагантностью. Леонтина, слава богу, лишь однажды потерялась из виду: сказала, пойдет на поэтический вечер Аспазии, а на поверку оказалась в актерском конце Рижского латышского общества. К слову сказать, и от этой Аспазии не мешало бы дочь держать подальше, стишки сочиняет складные, а в голове ералаш – долой все путы, толкайте в море лодочки и поплывем в таинственную даль!..
В Зунте много судачили о богачах Озолах, лет за тридцать до этого они, поддавшись призывам Кришьяна Валдемара в газете «Петербургас авизес», переселились в глубину России и там, успешно хозяйствуя, выбились чуть ли не в помещики. Людская молва, возможно, что-то преувеличила, но считалось, их земельные владения равнялись целой волости по лифляндским масштабам, одних лошадей у Озолов было несколько десятков.
К тому времени, когда Ноас с Леонтиной вернулись из Риги, Мария Озол после долгой отлучки гостила у сестры в Зунте. Вскоре стало известно, что сыновья Марии – молодые Озолы – до сих пор все трое не женаты. Это почему же? «Не хватало, чтоб они мне в дом привели чучмечек, которые овечьим жиром мажутся, а моются раз в год по обещанью», – объяснила Мария. Ноас помнил Марию еще с волостной школы. Бойкая, речистая, веселая по натуре. И теперь ей с виду больше сорока не дашь. Ядреная, крепкая, пепельные волосы с отливом все еще густые, без единой сединки. Конечно, в облике ее чувствовалось что-то чужеродное: в ушах крупные золотые полумесяцы, на плечах цветастый платок, ноги в сапожках.
Будто невзначай Мария встретилась с Леонтиной. Броская наружность Леонтины, здравые суждения, но особенно ее врожденное, диковатое обаяние, отшлифованное Мамзелью, сразу же пленили сердце заезжей гостьи.
– Голубушка ты моя, нельзя нам так просто расстаться, быть может, встреча эта самой судьбой предназначена, – Мария прямо-таки с цыганской настырностью улещивала Леонтину. – Глядишь, приглянется тебе один из моих Озолов. В школах, правда, и денька не просидели, зато мужики добрые. Ни быку, ни водке с ног их не свалить.
На пасху Мария вернулась с тремя сыновьями. Молодые Озолы, построенные в ряд в гостиной дома Вэягалов, исподлобья алчными и чуть испуганными глазами зарились на прекрасную Леонтину. Мария похаживала вокруг сыновей, приглаживая им кудри, похлопывая ладошкой по загорелым загривкам.
На трех линейных дрожках всем обществом отправились в лес прокатиться. Элизабета осталась дома, чтобы, как, извинившись, объяснил Ноас, позаботиться об ужине. На самом деле сватовство ей было глубоко безразлично, что явно читалось на ее лице. В лесу молодые Озолы сразу оживились, из вожжей проворно соорудили качели, разожгли костер, зажарили ежа.
Вечером в доме Вэягалов гремел бал. приглашены были и подружки Леонтины, дочки местных капиталов, судовладельцев. Молодые Озолы оказались неутомимыми танцорами. Все трое наперебой приглашали Леонтину.
%
На рассвете гости разъехались. В доме Вэягалов воцарилась тишина. Никто не заметил ничего подозрительного. На другой день обнаружилось, что Леонтина и средний сын Озолов, Алексис, исчезли. Запиской Леонтина известила, что поехала проверить, не привирает ли Алексис, посулив ей слишком многое.
Свадьбу играли дважды. Сначала в Зунте, затем на новом месте. В то лето Ноас так и не ушел в дальние моря. Приданое Леонтины заняло десять больших сундуков. До Риги их доставили по воде, дальше с Динабургского вокзала поездом. Помимо всего прочего, Ноас продал один из лучших кораблей и, наполнив глиняный кувшин золотыми червонцами, преподнес дочери, как он сам выразился, прибавку к приданому.
Некоторое время Мамзель ходила зареванная, с красными, как у рыбы, глазами, лепетала что-то про Ригу, про Париж, но под конец уложила вещички и купила билет до станции, названной ей Леонтиной.
Из России Леонтина писала редко и только отцу. В том, что ей живется хорошо, никто не сомневался. А впрочем, как знать. В письмах Леонтина слишком часто вспоминала Зунте.
5
В одном из первых дальних плаваний Ноасу явился призрак, только Ноас не распознал тогда скрытого предупреждения. На горизонте вскипало черное облако. Ноасу и раньше приходилось слышать о пароходах, но в тот момент он подумал: пожар! Лишь позже, когда сблизились, стало ясно, что дым изрыгают здоровенные железные трубы. Дымящаяся махина содрогалась и гудела от натуги. Море за кормой у нее бурлило. По обоим бортам, словно огромные крылья, молотили воду гигантские колеса с лопастями. На мачтах ни единого паруса, а скорость была вполне приличная. На причалах Кардиффа Ноас узнал, что его пути скрестились с легендарным «Грейт Истерн», чудом инженерно-технической мысли, которому на дорогах творческого поиска человечества суждено было стать провозвестником печальной участи парусного флота. Мало-помалу парусники сдавали свои позиции. После первой мировой войны два последних парусных судна Ноаса доживали свой век, перевозя дрова в пределах Рижского залива. Перед второй мировой войной их можно было видеть на приколе в Зундском канале острова Кипсала, напротив остановки пароходиков в предместье Риги – Ильгуцнемсе. Заброшенные, никому не нужные посудины, полузатонувшие призраки с поломанными мачтами, романтичные и чуточку жутковатые. Уж так получилось, что Зигмунд Вэягал, дальний, в третьем поколении сородственник Ноаса, переплывая от плотбища канал, частенько забирался на эти почернелые от времени, пригретые солнцем страшилища, хотя и было ему невдомек, что он соприкасается с реликвиями своего рода. В полуденной тишине на ветру поскрипывали ржавые петли отслуживших свое дверей. Босые ступни мягко шлепали по кренящейся палубе. В глубине трюмов затхлая, густая вода дышала тем невозмутимым покоем, который возможен лишь там, где все уже в прошлом, все позади.
Но когда Ноасу стали на ночь застилать диван в гостиной, он скорее предположил бы, что месяц с неба упадет, чем в судоходстве произойдут такие перемены. Да и вряд ли кто вообще тогда предчувствовал великие перемены во всей их взаимосвязанности. В конце концов победа механического двигателя не была единственным следствием, с «Грейт Истерн» прорвавшаяся страсть к совершенствованию решительно изменила отношения между миром и кораблями, породив манию супертанкеров, до опасных пределов загрязнив Мировой океан. И если мы сегодня знаем то, чего в свое время не мог знать и предполагать Ноас Вэягал, это не должно служить основанием для самообольщения. Дальнейший ход мирового развития нам представить себе столь же трудно, как и нашим предкам, потому что разум человеческий накрепко связан с расхожими представлениями и приобретенным опытом.
Четырехмачтовый барк спустили на воду. И в первом пробном плавании, стоя у подножия гудящих на ветру, по-летнему светлых облаков из парусины, Ноас в какой-то момент ощутил себя таким счастливым, что снял капитанскую фуражку, сложил на груди руки и во второй раз в своей жизни расплакался. Система парусов на новом барке была само совершенство, они ловили малейшее дуновение ветра, корабль резво шел при любой погоде. И какая скорость! Маневренность!
На новом корабле в капитанской каюте имелась даже ванна. Ноас велел нанести теплой воды, повесил в шкаф синий мундир с золотыми пуговицами и, покрякивая от удовольствия, залег в ванну. От усталости и радости он почти тотчас заснул и проснулся лишь под утро, изрядно замерзнув в остывшей воде, но в общем бодрый, в отличном настроении. В голове теснились свсжие замыслы, невесть откуда являлись всякие идеи. Что говорить, страховка кораблей в иноземных агентствах стоила бешеных денег. Почему бы страховую контору не создать у себя дома? И с какой стати они перевозят только чужой лес? Не мешало бы и Зунте обзавестись лесопильней, заодно и порт расширить. И протянуть узкоколейку от железной дороги.
В то утро Ноас окончательно решил построить в городе особняк. Похоже, дружба с Микельсонами в последнее время разладилась, и он не собирался просить кирпич с кирпичного завода. Собственный завод надо ставить. Чего ради прибедняться, Иокогама, Алабама!
Младший сын Ноаса. Эдуард, лет с семи рос сам по себе, почти без присмотра – мать замкнулась, отца или дома нет, или весь в делах, хлопотах. Эдуарда отличала поразительная память. Стоило ему однажды услышать какой-нибудь текст, и он спокойно повторял его слово в слово. Кое-кто мог заключить, что он умел читать еще в ту пору, когда и букв не знал. Незаметно Эдуард выучил эстонский, немецкий, русский и французский. Можно было подумать, с этими знаниями он родился.
В юные годы Эдуард был честен, правдив, чувствителен и сострадателен. Случилось так, что жарким летним днем его любимую собаку Пакана до смерти закусали шершни. Эдуард похоронил собаку, а затем отправился выкуривать шершней из их похожего на бумажный шар гнезда, прилепившегося к стропилине в сарае. Дважды шершни отбивали его наскоки, жаля Эдуарда почти до потери сознания. И все же он не сдался, добился своего, хотя вместе с гнездом чуть не спалил сарай.
Когда Эдуард сообщил Ноасу о своем намерении продолжить образование в Александровской гимназии в Риге, за толстыми стенами дома двое суток бушевала буря. Возражения отца Эдуард выслушивал молча. Молчание Ноас ошибочно принял за уступчивость сына. Неделю спустя Ноас привел Эдуарда на корабль точно так же, как в свое время привел и Якаба Эрнеста. Но в Риге Эдуард исчез с корабля. Рассказывали, что исчез он странным образом: когда судно отвалило от Селедочного пирса, Эдуард еще находился в каюте. Матросы считали, он прыгнул в Даугаву перед выходом в море – вблизи Блинного рейда, так прозванного моряками за долгие стоянки у таможни, во время которых они друг к другу в гости на блины наведывались.
Обнаружив исчезновение сына, Ноас велел повернуть судно обратно. Наняв лошадей, примчался в Зунте, чтобы собственноручно схватить беглеца. Но в Зунте Эдуарда больше не видели до первой революции.
Ходили слухи, будто Эдуард, пустив в дело свою необыкновенную память, стал в Петербурге профессиональным картежником. Другие утверждали, что видели его в Риге: дескать, устроился кучером конки, прикрываясь пышной бородой и темными очками. Но есть основания полагать, что все эти годы Эдуард провел в Дерпте, слушая лекции и готовясь сдать экстерном экзамены за курс гимназии. Во всяком случае, достоверно известно, что дядя Эдуарда, Август Вэягал, регулярно высылал в почтовую контору Дерпта деньги до востребования на имя некоего загадочного лица. Столь же достоверно известно, что в возрасте двадцати лет Эдуард был в Дерпте арестован за «участие в марксистском кружке» и под конвоем доставлен в Ригу, где проходил по делу вместе с группой «нового течения».
В последующие шесть лет его трижды фотографировали как арестанта, и на каждой фотографии он выглядел иначе. Трижды его приговаривали к высылке в Сибирь, и трижды он совершал побеги: через заснеженные просторы Севера, соляные степи Балхаша и пустыню Каракум. Закованным в цепи его везли вверх по Иртышу, баржа налетела на подводные камни, разбилась, затонула, а он умудрился выбраться на берег. Эдуард переболел цингой, тифом, желтой лихорадкой. Жандармы стреляли в него, ранили в ногу, полусумасшедший уголовник пырнул ножом, сельский поп, обнаружив Эдуарда спящим в алтаре, принял его за черта и пытался убить крестом.
В очередной раз сбежав с каторги, Эдуард Вэягал нелегально вернулся в Лифляндскую губернию. В рижском порту на иноземных кораблях нередко можно было видеть пожилого лоточника, предлагавшего морякам трубки, табак и бритвы. Некий богатый иностранец время от времени намеревался с большим багажом отправиться в Германию или Англию, но в последнюю минуту поездку отменял, и багаж по его требованию возвращался. Некоторые из заходивших в порт судов нуждались в срочном ремонте, и тогда вызывали мастера – рыжего, зубастого хромца, приезжавшего на пирс в повозке с тяжелым сундуком для инструментов.
Пожилой лоточник ютился в подвале дома одного из тихих переулков. Чтобы попасть в подвал, надо было спуститься вниз по ступеням, дверь была невысокая, узкая, как лаз в пещеру, за ней, подобно корневищам, петляли водопроводные, канализационные трубы. Богатый иностранец жил на бульваре, в богатом доме, фасад его украшали изваяния людей и сказочных животных. Рыжий мастер устроил себе мастерскую во дворе, в сарае, облепленном пристройками. Однако все три жилища между собой были связаны. В них хранилось поступавшее из-за границы оружие. Была там и каморка, чем-то похожая на театральную уборную: на столе лампа без абажура, светившая ярко и резко, зеркало, гримерные принадлежности, накладные усы и борода, в шкафу разнообразная одежда.
Рига жила ожиданиями. Все как будто шло своим чередом: работали заводы и фабрики, торговали магазины, на улицах громыхали только что появившиеся трамваи, в ресторанах пили, веселились, театры давали спектакли. Но где-то подспудно, неприметно для поверхностного взгляда, текли, сливались, набирали силу невидимые потоки, подтачивая берега. Земля содрогалась под ногами полицмейстеров, но чиновничьей машине лень было вникать в причины недовольства. Провалы правопорядка жандармы прикрывали новым списком арестантов, а неприятные для властей шероховатости судьи посылали притаптывать звенящие цепями колонны кандальных.
Но остановить подспудное течение уже было невозможно. Рабочие требовали восьмичасового рабочего дня, бедняки-крестьяне – земельной реформы. Русскую интеллигенцию беспокоило засилие остзейских немцев. Латышей, поляков, литовцев, эстонцев возмущали шовинистические законы в области культуры и политики.
Когда в Петербурге в Кровавое воскресенье солдаты открыли огонь по демонстрантам, многих убив и ранив, в Риге загудели заводские гудки. Закрылись двери мастерских и магазинов. Перестали выходить газеты, у киосков гимназистки в шнурованных высоких ботинках раздавали прохожим воззвания. Студенты митинговали перед зданием института. Из рабочих районов к центру потянулись демонстранты.
Колонну из Московского предместья на набережной Даугавы у Железного моста с ружьями наперевес поджидали солдаты. Люди пели песни, на ветру плескались красные флаги. Настроение у всех было приподнятое, праздничное.
Эдуард присоединился к шествию у Сенного рынка. Увидев шеренги солдат с их клубившимся на морозе горячим дыханием, он сразу понял: здесь все разыграют по петербургскому сценарию. Первейшее правило провинциальных дилетантов – не отступать от столичных образцов.