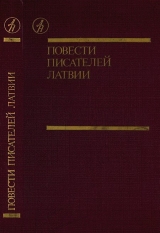
Текст книги "Повести писателей Латвии"
Автор книги: Зигмунд Скуинь
Соавторы: Андрис Якубан,Мара Свире,Айвар Калве,Харий Галинь
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 29 страниц)
Айвар Калве

Айвар Калве родился в 1937 году окончил Рижский сельскохозяйственный техникум и отделение истории искусств Латвийской государственной академии художеств. Работал техником-строителем, электриком-конструктором, инженером, преподавателем и редактором. В настоящее время заведует отделом литературы в журнале «Звайгзне».
Первые публикации рассказов А. Калве появились в 1965 году. В 1967 году вышел сборник рассказов «Роль», в 1971-м – «Красный клевер». А. Калве автор, романов и повестей «Июльский зной, Перекати-поле», «Посвящается прошедшей осени», «Прощание», «Селия – берег зеленый», «Падающий Икар», ряда сборников рассказов. В переводе на русский язык вышли книги А. Калве «Труба полуночница», «Июльский зной» и «Посвящается прошедшей осени».
Прощание

I
Я откинулся на спинку сиденья, прикрыл глаза, пальцы сами собой стиснули пакет, и он брызнул мне в лицо пастеризованным молоком. Струйки потекли вниз по обеим сторонам подбородка, собираясь белыми озерцами в глянцевитых складках кожаной куртки. Запрокинув голову, я пил молоко. Пакет оседал в моих пальцах.
Наполнить себя жидкостью из бумажной посудины, так и не почувствовав вкус молока, белого, коровьим выменем данного. Наполнить себя, как цистерну. Набить пузо молоком и бутербродами – так нужно.
Арика поучает: «Главное в твоем возрасте – это режим…» И еще: «Послушай, дорогой, ты же взрослый мужчина, у тебя голова на плечах… и ты нам как-никак дорог…»
Так остуженно звучит в устах ее: «…ты же взрослый мужчина…» Мороз по коже подирает, когда слышу, как гвоздем водят по жести, подошвами давят стекло. Трещит при раздевании наэлектризованная синтетика, или скрежещут тормоза ночью под окнами, или когда жена моя говорит: «…ты же взрослый мужчина…» Она всегда найдет случай вставить мне шпильку. Бутерброды приходится поглощать ворохами, кубометрами, штабелями, запивая их пастеризованным молоком.
Лучше вообще ни о чем не думать. Жевать, тупо уставясь в одну точку. Во имя здоровья набивать пузо энным количеством жратвы, притом в одно и то же время.
«Дорогой, но ведь это естественно!» – возмутилась бы Арика, удивляясь, как первоклассница. Это если бы я пустился в рассуждения, поставив под сомнение правомерность ее железной опеки. Необходимость нежных оков, заботливых цепей. Чего я только не способен нагородить в таких случаях!
«Арнольд, не смеши меня!» Она нашпигует меня, обваляет в муке и опять швырнет на раскаленную сковородку. И так в который раз. Я с одного бока уже подрумянился, но Арика не торопится – она сама решит, когда будет довольно, когда нужно перевернуть. У нас на кухне тридцать восемь электрических приборов.
Да когда же будет довольно! Другой бок она оставит про запас. Следующее утро уйдет на то, чтобы завернуть бутерброды… В твоем возрасте, Арнольд, в твоем возрасте, черт побери, да между тридцатью и сорока все годы одинаковы. Как волки, трусят друг за дружкой – след в след. Сверкающими лимузинами катят – колесо в колесо, расстояние между ними в ладонь, в полголовы расстояние… Отменно отлаженные механизмы, совсем новенькие, только что с конвейера. Где-то между сорока и полтинником ты должен быть превосходно отлаженным. Колеса крутятся вовсю, на счетчике, Арнольд Лусен, драгоценное наше время.
«…Мужчина, своя голова на плечах…», и завтракать всегда в один и тот же час. Что за жизнь? Отменно отлаженный механизм. Заправляемый пастеризованным молоком.
Па-сте-ри-зо-ван-ным!
Вот он идет. Недоеденный завтрак припрятать. Скорей! Он не должен заметить ни крошки.
Отец остановился в больничных дверях. Обернулся. Снял шапку. Уж это напрасно. Какой он длинный. Исхудавший. Пальто на нем висит как на жерди. Надо бы выйти из машины, поспешить навстречу. Забрать авоську с пустыми банками. Сижу, будто меня пригвоздили. Болезнь преобразила отца. Иссушила тело, все соки выпила. До чего же сер этот дом на улице Талсу! Память делает снимок отца под сенью этого дома. Сделал три шага в мою сторону. Шапку держит в руке почти благоговейно. Макушка сверкает лакированным яйцом. Улыбнулся. Я снова делаю снимок, щелк, щелк, щелк!
На память.
Так, еще разок. Эту улыбку. Какое серое лицо у него, совсем как негатив… Под сенью этого дома решительно все становится серым. Серятиной напитаны стены, асфальт —
щелк, щелк.
С ластиком я никогда не бывал в ладах: двойки из школьных тетрадей не умел стирать, то же самое с чертежами – сколько их перепортил. Никаким ластиком не смогу стереть это мгновенье. Как бы сломать затвор? Засунуть в него гвоздь, долбануть молотком? Щелчки прекратятся, как только отец заговорит со мной, сам я не в силах. Пригвожденный к сиденью машины, наблюдаю за ним. Я подобен фильтру, сквозь который сочатся краски и крохи давно отзвучавших слов, я вбираю в себя все без разбора. В поле зрения оказался отец… Мой отец, дорогой отец; припасть к его руке, спасти, вырвать из когтей обреченности!
О господи, вот идет мой отец!
Машинально включаю стартер. Хотя сначала полагалось бы выйти из машины и эти несколько шагов пройти ему навстречу. Мотор заглох, распахиваю дверцу. Хочу вылезти, но отец уже рядом, переминается с ноги на ногу. Спрашиваю его:
– Отец, где хочешь сесть? Впереди или сзади?
Он колеблется. Вижу его пальцы, желтоватые, растерявшие свою крепость в больнице. В руке у него сетка, в ней чисто вымытые банки из-под сока, связка целлофановых пакетов, свернутые в трубку журналы, которые он не успел прочитать, а может, и не начинал, зря я только приносил. С чего я взял, что отец должен их прочитать, что это его развлечет? Почему он молчит? Повернувшись к больничным окнам, отец кому-то машет; в верхнем этаже показалась взлохмаченная голова, а в нижнем, прижавшись к оконному стеклу, стоит бритоголовый, широколицый мужчина, изможденный болезнями, он пытается улыбаться, не могу я дольше смотреть, не то в память западет улыбка незнакомца —
щелк, щелк!
Поздновато спохватился: я уже отснял это лицо, теперь будет маячить перед глазами. Какие красные шишки у него на голове… Два красных рога —
щелк!
Да что ж я на него уставился?
Опять включаю стартер. Мотор послушно урчит.
– Садись-ка лучше сзади. Там Арика для тебя приготовила одеяло. Ее подарок. Говорит, тебе нужно тепло.
– Спасибо, Арнольд. И зачем только Арика тратилась.
– Для тебя старалась, ты не должен отказываться.
– Лето на носу, тепла будет хоть отбавляй, куда мне, больному хрычу, новое одеяло. Сколько уж осталось мне укрываться, вскоре сможешь увезти обратно. – Отец говорит с большими паузами.
– Нет, отец, оно именно тебе предназначено. Хотел еще под Новый год привезти, да, сам понимаешь, в праздник из Риги трудно выбраться.
Наконец отец уселся в машине. Движения его угловаты, тело отвыкло от сидения. Энергично помахал – обоим оставшимся приятелям.
Как только выехали с больничного двора, отец опять заговорил:
– Ты, верно, Балиня не признал?
– Нет, отец.
– Это он стоял у окна.
– Нет, отец, не узнал. – Нет у меня желания заводить разговор о бритоголовом рогаче. Скорей бы он сгинул. Забылся. Я должен следить за улицей, я не должен думать о больных.
– Он был нашим соседом, ты ведь помнишь, хутор Балиней рядом с нашим. Вместе в армии служили, потом он в Ригу перебрался, обженился здесь…
– Когда ж это было? – спросил я просто из приличия, чтобы дать отцу возможность вспомнить друга молодости, службу в кавалерии, где он так лихо вольтижировал и совершал всякие ухарства. Его рассказ развеял бы больничный дух, скинул с плеч тяжелые недели. Хочу, чтоб он рассказывал о годах службы; я переспрашиваю, подбадриваю, но отец молчит.
– С Балинем дело кончено, – немного погодя роняет отец. – Слишком запустил он свою болезнь.
Не знаю, рад ли был отец после стольких лет встретить друга молодости. На улице Талсу – пожалуй, нет. Шаркать в шлепанцах по цементу больничных коридоров… Там они вдоволь могли наговориться. Какое мне дело до его давнего приятеля по службе!
О господи, да ведь это приятель моего отца!
Нет, не избавиться мне от Балиня!
Глянул в зеркальце: отец устроился на сиденье, расстегнул пальто, прикрыл колени подаренным Арикой одеялом. Самочувствие у него хорошее, и, похоже, он верит, что уже здоров. Врачи умеют похлопывать по плечу. За одно это им следует сказать спасибо. Отец чувствует себя хорошо. Он выглядит почти счастливым. Хотя по выражению лица трудно сказать. Мы оба безнадежно лысы, глянцевитые макушки делают нас похожими. Я ловчу, начесываю жидкие волосы и так и сяк, терпя насмешки Арики. Пусть на здоровье смеется над моею лысиной.
Хочу быть вместе с отцом. Хорошо знаю: последняя возможность. Другой не будет. С какой стати дурацкая эта мысль заклинилась в моей рано облысевшей голове? Отец не должен о ней догадываться. Да и сам я тоже – перед каждым из нас неизбежность, как бы мы жили, не будь ее?
– Заправимся под Слокой, можно будет прокатиться по взморью. Как смотришь на это, отец? Давно, наверное, моря не видел, заодно свежим воздухом подышишь, – оживленно говорю я, подбивая отца на эту маленькую экскурсию. Не пришлось нам вместе поездить. Это в первый раз.
Опять – щелк, щелк!
Прекрасное новое шоссе на Юрмалу разглядываем с интересом, он и я, возносимся высоко и мчимся над железной дорогой, внизу под нами плывут перелески, луга. Вижу, отец вертит головой то в одну, то в другую сторону. Сбавляю скорость, чтобы он хорошенько оглядел излучины развязки и голубую даль впереди. Как раз то, что нужно после больницы, – пускай человек вознесется над макушками деревьев. – Выехав на прямую, прибавляю скорость. И это нужно – машина буравит воздушные толщи, воздух ревет и плещется за стеклами и крышей. Такая езда – настоящий эликсир здоровья. Стереть с отцовского лица серую больничную личину, проветрить его. Чем еще могу помочь?
– А ты сегодня можешь позволить себе такие разъезды? – почему-то спрашивает отец, забеспокоившись о моем времени. И как он не поймет, что у меня времени куда больше, чем у него. Но об этом помолчим.
– Машина скорей уж твоя, чем моя. Я хочу, чтоб ты хоть раз как следует на ней покатался. Деньги я тебе все еще не вернул, отец… – Нужно ж было заикнуться о деньгах! Был такой уговор, что отдам. Непременно отдам. Глупо получилось: когда я теперь расплачусь? Все отцовские сбережения в этой железной коробке с безотказным мотором. Оправдываться? Ничего глупее не придумать.
Отец сделал вид, что слов моих не расслышал. Старик мой хитер: он-то надеялся, что я стану копить денежки, рубль к рублю откладывать, сотенную к сотенной, потому как в долгах, что в репьях!
В моих же собственных интересах вкалывать, зашибать деньгу. Это выход. Один из выходов. Как в темном кинозале, где светятся красные надписи – выход, выход…
Раздвинь плюшевый занавес и выйди!
Другого случая не будет. Мои «Жигули» записаны на отца. Старый Лусен, что ни говори, упрямый старикан. Он никогда мне ничего не дарил. Ничего. Даже башмаки я покупал на заработанные деньги – пас коров по вырубкам. Сначала, правда, пас свиней да гусей и лишь потом коров.
В моих же собственных интересах… В моих интересах – я все еще принадлежу к пастушескому поколению, чумазый парнишка, вцепившийся в коровий хвост, единственный сын мельника Лусена, в общем-то я должен был стать хозяином мельницы, как и было загадано, да, слава богу, в войну она сгорела, и жизнь распорядилась иначе, но разве я стал счастливее, чем тогда, когда за коровьи хвосты держался…
– Тебе на работу сегодня не надо? – немного погодя отец повторил свой вопрос.
– Я отпросился на весь день. А завтра праздник, смогу пожить у тебя. Заедем к рыбакам, купим свежей рыбы, – продолжаю я соблазнять отца. Без отцовского согласия не хочется делать крюк на взморье. Почему он молчит? Никогда не скажет «да», никогда не скажет и «нет». Чего я жду?
Человек сам должен принимать решения. Что я от него слышал? О службе в армии, да, об этом он рассказывал – лошадей отец любил, на лошадях был просто помешан, потом еще мельница на речке Тальките, наш дом на берегу Тальките, наш старый дом с пунцовыми розами во дворе и кленом у амбара. Жаль, что никогда не сможем об этом поговорить. Даже в эту последнюю поездку. Ну зачем же сразу так! Хочу, чтоб поездка была долгой, длинной – кружным путем, через всю Курземе.
Кружить можно сколько угодно, а все равно…
Отец ведь толком ничего не видел. По крайней мере в последние годы. А на улице Талсу не бог весть какой курорт, хотя там и случается встретить друга молодости.
Дорога пряма как стрела, водители из машин выжимают все, что только можно. Сейчас переедем мост через Лиелупе. Отец со своего сиденья подался вперед, крюком изогнулся, следит за моими манипуляциями.
– Тебе нехорошо, отец?
– Нет, ничего, Арнольд.
– Устройся поудобней, подвинься вбок, вытяни ноги на сиденье, располагайся как считаешь нужным!
Он все еще не дал согласия на поездку через рыбацкий поселок. Не остановиться ли сначала где-нибудь на опушке, отец сможет…
Ну, чего он сможет? Нарвать цветочков? Букетик голубых ветрениц, наломать распустившихся веток ивы, березок в первой зелени… Мы могли бы проехаться через Алсунгу… Завернуть в Априки… Я бы показал отцу красивейшую церковь во всей Курземе, смесь барокко с рококо… Мы могли бы полюбоваться ею, потолковать о барокко и рококо…
Щелк, щелк.
О барокко, рококо ты сможешь толковать с Арикой, о них она способна говорить часами. А что отцу эта церковь? Что тебе самому барокко?
Можно было бы прокатиться в Кулдигу, посидеть там в баре, а почему бы тогда не в Скрунду, там еще лучше. В самом деле, почему не посидеть в баре, на людей не поглазеть? Немного барокко, немного токайского, отец понаблюдал бы, как люди за столом проводят время, полюбовался бы на красивых девушек, они б поднесли ему бокал токайского… Уж столько-то он может позволить себе.
– Тебе лучше, отец? – спросил я, заметив, что он откинулся на спинку сиденья.
– Да, теперь хорошо. Уже с неделю, как стало лучше.
– Ты чем-то обеспокоен?
– Нет, Арнольд, нет, ты ведь знаешь, там ничего особенного, такой пустяк… Но после облучения голова немного кружится.
– Я могу ехать помедленней, папа… Мне показалось, тебе нравится…
– Нравится, Арнольд, дорога в самом деле нравится, хорошо, что ты прокатил меня. – Голос отца как-то потускнел.
Неужели он догадался о причине поездки? Да и есть ли у нашей поездки определенная причина! Никакой, абсолютно никакой. Ведь это еще не прощание. Под нами Лиелупе. Снижаю скорость.
– Отец, давай посидим в ресторане «Перле». Оттуда отличный вид на залив… Ты ничего подобного не видел! Не дождавшись его согласия, я сворачиваю с главной дороги.
Делай как знаешь, Арнольд… Правда, я транжирить особо не собираюсь.
– Там ты сможешь передохнуть, я так считаю.
– Да, Арнольд, – наконец соглашается он. Но в голосе не чувствуется радости. Раньше бы ему наверняка захотелось поглазеть на тот «шикарный кабак», уж это точно. Только нам обоим вместе посидеть не выпало. Когда-то у него было нутро настоящего мельника, чего только не способно было в себя принять! Изрядную долю он принял в спешке, мукой побеленный, сидя на мешках. Вот были, говорит, времена… Так ли это? Как бы мне навести отца на «те времена»? А то мы словно два кулика, забились каждый на свое болото. Похоже, – отец утомился. Плохо езду переносит. Этот лысый, исхудавший мужчина – мой отец… Пускай он поспит. Останавливаю машину. Асфальт и стекла запотели от мелкого дождика.
В ушах звенит тишина. Мне кажется, я в батискафе где-то в подводной глубине.
– Чего мы встали? – немного погодя спрашивает отец.
– Мы у ресторана «Перле»…
– Я посижу в машине. А ты сходи пообедай.
– По правде сказать, я уже подкрепился…
– Ты говоришь, оттуда виден залив?
– Да, отец. Но мы можем ехать дальше, если не хочешь, в Рагциеме прямо к морю подкатим, тебе даже из машины не придется вылезать.
Я предоставляю ему выбирать. Еще не хватало, чтобы я отцу навязывал эту поездку. И все же я жду, когда он решится, эти минуты принадлежат нам обоим. Наконец мы встретились. Могли бы выйти из машины, посидеть за столиком в «Перле». Это бы запомнилось отцу. Потом бы смог рассказать старикам в своем «Риме»… уж сегодня-то вечером, надо думать, он туда не отправится…
Не торчать ему больше в прокуренном буфете поселка Нориеши… И мне было бы что вспомнить: сидели за столиком с видом на залив, за окном моросил маленький дождик – щелк, щелк, один изможденный и лысый, второй лысеющий с макушки, отец и сын, два хмурых лысача, в другой раз у вас не будет такой возможности. Никогда больше не будет.
– Как думаешь, Арнольд, какую завтра ждать погоду? – Отец первым нарушает неловкое молчание.
– Не знаю, папа, всякое может быть.
– Хорошо бы прояснилось. Занялись бы пчелами…
Я молчу. Зачем отцу это путешествие? Оно нужно мне, а не ему, и мне все это Арика посоветовала: немного барокко, немного рококо… Отец рассчитывает на хорошую погоду. Завтра займемся ульями. Давно пора их вынести из омшаника, он до болезни не успел. Я совершенно уверен, что после бензоколонки за Слокой мы повернем к дому.
Пусть помолчит. Так ему легче.
Включаю мотор. Почти бесшумно скользим мимо свежевыкрашенных дач, пивных киосков. Мужчины пьют, стоя под дождем.
Отец не открывает глаз. Почему он их не открывает? Хорошо бы повезло с погодой.
Похоже, отец всю дорогу будет молчать. Если так ему легче – пусть молчит.
Уже порядком отъехали от Слоки, и он открыл глаза. Мы свернули на кратчайшую дорогу к дому. Отец с любопытством разглядывает засеянные поля. Они похожи на только что вынутые из печи караваи хлеба. Теплый дождик моросит над полями. Воздушно-зеленые березки красуются по закраинам поля. Выйди из машины и, кажется, расслышишь, как растет трава, – за день все вокруг позеленело. И после нас будет расти трава. Возможно, с помощью всяких препаратов мне удастся дотянуть до двухтысячного года, однако на большее я не надеюсь.
Завтра же начать новую жизнь, настоящую, не в пример теперешней!
Точно курица, собираюсь снести яйцо, да все не удается. Завтра, наверное, с отцом займемся пчелами… Наши руки будут вторгаться в пчелиную жизнь, ее мы по возможности наладим, а я сам чего-то жду, жду завтрашнего дня…
– Как потеплеет, ты привези к нам Увиса, – подает голос отец.
Я доволен, что старик нарушил молчание.
– Не знаю, как Арика, я поговорю. Она его на лето к морю, в Меллужи…
– Ты парня привези ко мне, покуда я еще на ногах. Чувствую, долго мне не продержаться.
– Да что ты, отец!
– Арнольд, обещай мне! Кое-что хочу ему показать, в жизни может пригодиться.
– Хорошо, отец, мы с Арикой обсудим… А за себя не беспокойся, – утешаю его.
– Это наступит совсем скоро. Только матери, прошу тебя, ни слова. Сам скажу.
Говорит он спокойно, словно о чем-то совсем обыденном. Смогу ли я когда-нибудь так же спокойно сказать Увису? А ты все еще собираешься зажить по-настоящему, надеешься на всякие там радости, трепыханья и все еще таскаешь в клюве пушинки для своего гнезда!
– Постарайся не думать о болезни, отец. Так будет лучше. Увиса я привезу. Если надолго не выйдет, как-нибудь на воскресенье.
Понятия не имею, что он собирается Увису показать. Вроде бы все полагается мне передать, вроде бы я все должен перенять. Я независтлив, во всяком случае когда речь идет об Увисе. Было бы даже хорошо, если бы он пожил в деревне.
Арике это не понравится…
Как-то весной отец смастерил игрушечную водяную мельницу, совсем как настоящую, я дни напролет просиживал с ней, по локти засунув руки в воды нашей Тальките, несказанно счастлив я был на берегу Тальките, счастлив…
Арнольд, ты что-то хотел сказать? Ты же собирался что-то сказать?
Непонятно, то ли отец задремал, то ли просто прикрыл глаза. Еще с полчаса нужно потерпеть. На меня он взвалит пчел, это я предвижу. А что он доверит Увису?
Мать говорит: после того как сгорела мельница, он стал совсем другим человеком, мы, мол, никто и не помним, каким он был до этого, а до этого он был такой… как бы это сказать…
Из огня он вышел другим человеком. Не дано мне знать, каким он был раньше. Быть может, только мать…
Сам на себя стал непохож, говорит мать, пил и буянил, пока силы были, потом все куксился, пил потихоньку, как-то незаметно перешел в стариковский разряд. Плюнул бы на все, не глядел бы даже в ту сторону, где мельничный пруд и пепелище. Неужели отец так привязался к своей водяной мельнице и только ли к ней? Потому ли, что его мельница, его собственность, или потому, что это была водяная мельница на берегу речки Тальките, с мельничным прудом, с лягушками, с плотвой, с коновязью, с обгрызенной коновязью, до сих пор ее помню. Должно быть, и сейчас стоит в зарослях, если не сгнила. А не пробраться ли мне потихоньку вечером на берег Тальките? Перестал бы дождик моросить… Тоже нашел время в зарослях разыскивать старую коновязь!
Да, да, отец долгие годы проработал кладовщиком, пускал зерно «налево» за жалкие чекушки, но я его не осуждаю, не мне его судить.
Как глупо я тогда стыдился отца, от стыда горели щеки, когда он въехал во двор Нориешской школы, весь белый от муки и пьяный.
Щелк, щелк, щелк – телегу приволокла во двор подслеповатая кобыла Магда, отец лежал на мешке пьяный, рубаха расстегнута, ноги на весу болтаются. Директор вызвал меня с урока, да, да, он рад, что это случилось во время урока, иначе бы увидели малыши! Как будто они ничего не видели… Я сгорал от стыда. Спина даже взмокла, пока мы ехали через поселок. То была наша последняя поездка, а теперь еще вот эта. Между двумя поездками почти вся жизнь.
По какому праву ты судишь отца? По сыновнему праву? От твоей комсомольской чести убыло, пока ты пьяного отца вез через Нориеши? Сын против отца, отец против сына, и сын не отвечает за грехи отца, как и отец за сына… Пьяный, храпящий отец на мешке, куда он его вез?..
Так, ну а дальше?
Ущербная сыновняя любовь… Мои мысли чересчур цветасты, цветасты и по-детски наивны.
Щелк, щелк.
Шестьдесят третий километр от Риги: ущербная любовь к родному отцу, и этот километр на ущербе, и ты сам на ущербе! У тебя на макушке изрядная плешь.
Посмотри назад, взгляни в зеркало: там сидит отец, он послушался меня, забрался с ногами на сиденье, колени подтянул к подбородку, обхватил их руками. Посматривает на бегущие мимо деревья, поля, дома.
– Отец, тебе удобно?
– Да, Арнольд.
– Можем остановиться, если что…
– Нет, нет, езжай себе, – негромко отзывается он. Немного погодя он принимается рассказывать о том, как приятно смотреть на деревья, о том, что в больнице провалялся почти два месяца, уже май, должно быть, мать вскопала грядки под картошку…
Слышу его голос, но не успеваю улавливать смысл, дорога сделалась скользкой. Мимо мчатся встречные грузовые машины, грязь летит во все стороны. Арика наказывала: повози немного, покатай отца, пусть проветрится после больницы, она даже маршрут нам наметила, объяснила, где что следует сделать, посмотреть. Будто у меня своей головы нет на плечах. Отцу же, как оказалось, совсем не нужна экскурсия.
Остается надеяться, что завтра к утру небо прояснится и что меня не слишком покусают пчелы. Совсем не улыбается в праздничный день вернуться в Ригу с опухшей от укусов физиономией.
Так что еще старик хотел сказать о деревьях? Что, если бы возможно было жизнь начать сначала, он бы выучился на лесничего?
Светы небесные, он еще толкует о том, чтобы все начать сначала, что ж, тема подходящая, прямо во вкусе Арики: если бы можно было начать сначала!
Все мы в какой-то момент мечтаем стать лесниками!
Немного погодя я сворачиваю на проселок, ведущий к дому. Навстречу выходит мать, почувствовала наше приближение, никогда ей не сиделось дома, руки тянулись к работе, ноги сами в нетерпении двигались.
II
Янис Лусен поджидал сына с самого утра. Едва проснулся, принялся шаркать по больничным коридорам, а потом как прилип к окну, так и не отходил от него. Балинь стал над ним подтрунивать, а Лусену хоть бы что. Будто уши ватой заложило. Балинь чуть ли не силком заставил его позавтракать – ложку меда, полстакана виноградного сока. Потом оба присели на край кровати, Лусен покосился на своего друга молодости, они без слов понимали друг друга, обо всем успели наговориться вдосталь, а теперь поставили точку, подвели черту под длинным счетом.
Друзьями были в молодости, а теперь не знали, что осталось от той дружбы. Два согнутых старика, два сыча в больничных пижамах сидели на краю кровати. Лусен про себя подумал: с Балинем все кончено, поначалу казалось иначе, а теперь дело ясное… Краем глаза он видел, как во двор вкатил сын Арнольд. Ошарашенный внезапной догадкой, он не мог себя заставить подняться и уйти. Лусен видел, как сын жует бутерброды, да, близилось время обеда, от завтрака до обеда время пролетело быстро, мимо ушей просвистело так, что они с Балинем и не заметили. Лусен подождал, покуда сын закончит есть. Все равно бы он не смог с ним поесть за компанию. Как хорошо, что Арнольд приехал вовремя.
– Так что, на том свете, Балинь? – полушутя обронил он.
– Хоть там-то простишь меня за мельницу?
Лусен рассердился. Опять Балинь завел речь о его мельнице. Неужто нельзя каждому остаться при своем мнении? Так нет же, Балинь решил его окончательно донять. Придержал бы язык, зачем в чужую веру тянет?
Балинь, видя, что Лусен осерчал, попробовал зайти с другого конца:
– О райских кущах ты пока не мечтай. Кто ж корову сеном обеспечит, или, думаешь, Арнольд? Придется самому косой помахать, да и старуха твоя от скотины ни за что не откажется!
– Арнольда ты не тронь! – буркнул Лусен.
– Мне-то что, сам на сына жаловался… – оправдывался Балинь. Что правда, то правда, лежа по соседству, они и о таком, случалось, говорили, о чем в иных обстоятельствах друг другу бы не доверились. Болезнь прорвала шлюзы.
Прощались они насупленные, хмурые. Рукопожатие вышло неважнецкое, пальцы соприкасались неохотно. Балинь как-то странно сморщился, и опять у Лусена в голове промелькнуло: «Конченое дело, Балинь, до встречи на том свете, только там хрычам нам старым теперь и встретиться, и, может статься, молодыми, каждый на своем жеребце, на лоснящихся конягах с красиво расчесанными гривами…» Старик подивился такому видению. Больно уж прекрасным и глупым оно показалось, так что незачем было даже рот раскрывать.
– Ну так что, падем мы духом? – бодро выкрикнул Балинь.
– Никогда! – так же браво ответил Лусен.
– Так-то, Лусен, мы не падали духом и никогда не падем…
– Никогда, Балинь, ни за что! Твоя правда, – уже без прежнего задора отозвался Лусен. – Крестьянин, даже помирая, редьку сеет…
Он вышел, не оглянувшись. С остальными еще раньше попрощался. Кого следовало, поблагодарил. Свежим воздухом пахнуло в лицо. Лусен торопливо помахал Балиню, поздоровался с сыном и, точно куль с мякиной, плюхнулся на сиденье.
«Никогда мы не падали, Лусен…» Не то ли говорил Балинь и тогда, когда тайком являлся на мельницу. Сколько все-таки мешков муки он в лес перетаскал? Партизанский отряд Балиня кормил он, мельник Лусен, за что и поплатился своей мельницей. Сам кормил, сам заплатил. Разве не лучшая мельница была на всей Тальките? Пусть кто-нибудь попробует сказать, что не так!
Где был Балинь все эти годы? Ах, у него ответственная работа! А когда мешок муки понадобился… Как было отказать другу юности в хлебе насущном…
«И никогда не падем, Лусен…» Умел убеждать, чертяка этакий, и не упал ведь. Что стоит хорошо отлаженная водяная мельница?
«Сапоги всмятку – вот чего она стоит, наплевать на все!» – так сказал бы Арнольд.
Нет, Янис Лусен таких слов никогда не говорил.
Один друг молодости забрал мешок муки, другой – примчался и спалил мельницу. А мельник Лусен между ними посередке.
Пусть только кто-нибудь попробует сказать худое слово про Лусена! Он никогда ни в чем не был замешан и никому свиньи не подложил.
Вот если бы Балинь после войны завернул к нему с бутылкой в кармане…
Ты, Лусен, ждал от него благодарности?
Ведь он же объяснил тебе, почему не смог приехать. Весь месяц в больнице толковал об этом. Отказываешься понимать? Чего бы стоила нынче твоя мельница?
Сапоги всмятку, вот чего бы она стоила.
Старый Лусен никогда не говорил такого. И никогда не скажет! Нет, такого от него не жди. Не будь этой хвори…
Как бы сгодилась сейчас чарочка горькой! После нее можно было б растянуться на сиденье и заснуть. Так крепко, чтобы никогда не просыпаться. Все остальное предоставить Арнольду. Чего он елозит, будто на иголках?
– Ты, верно, Балиня не признал? – спросил Лусен у сына.
Нет, не узнал, говорит. Странно получается – Арнольд даже не узнал Балиня, командира партизан, друга молодости отца. Почему Лусен сам не удосужился рассказать Арнольду о тех мешках муки, о том, как сожгли мельницу? Язык, что ли, к зубам примерз? Сыну полагалось бы знать, а может, Арнольд просто притворяется?
– Он у окна стоял, ты в самом деле не узнал его, Нольд?
– Не узнал, отец.
– Помнишь, хутор Балиней был по соседству с нашим, вместе в армии служили? Потом он в Ригу перебрался…
Янис Лусен собрался было рассказать все по порядку, но потом примолк. Это он оставит при себе. Не хвастал он теми мешками муки, когда было выгодно, а теперь и вовсе трезвонить не станет. Его укачивало. Приятная усталость обнимала тело. Лусен укрылся подаренным Арикой одеялом. Дорога была широкой и гладкой. Никогда раньше он не видел такой дороги. Она выглядела совсем новой, Лусен про себя порадовался. Машины разноцветными майскими жуками проносились мимо и, казалось, вот-вот взлетят над макушками деревьев. Был момент, когда они и в самом деле взмыли куда-то вверх. Даже дух захватило, голова закружилась, стала вдруг большой и тяжелой. Лусен положил подбородок на колени и закрыл глаза. Для него это было привычно.
Вот так он когда-то подремывал в тепле зерносушильни. Так проводил в одиночестве долгие ночи, дежуря в сушильне, в полусидячем положении было лучше всего… Мимо проносились одевавшиеся в зелень деревья. Лусен не взялся бы сказать, что это были за деревья. Зелень за окном тянулась сплошной стеной. По-прежнему кружилась голова.
Ему хотелось предъявить Балиню счет, изрядный счет с хвостом процентов. А вышло иначе. Первым речь завел Балинь.
По какому праву, соседушка?
На мельника Лусена, этого толстосума, полволости косо глядело. Не спали тогда нориешские головорезы его мельницу, как знать, не записали бы Лусена попозже в кулаки.
Послушай, Балинь, счет Лусен предъявлять тебе не собирается, опоздал с ним, опоздал на три десятка лет.
Мать честная, как пролетели годы!
Старуха поедом ест: водкой все нутро себе сжег, старый хрыч!
– Ну и ладно, чтоб тебя язвило! – втихомолку поругивался старый Лусен.








