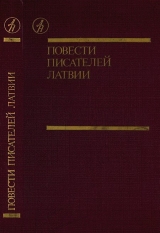
Текст книги "Повести писателей Латвии"
Автор книги: Зигмунд Скуинь
Соавторы: Андрис Якубан,Мара Свире,Айвар Калве,Харий Галинь
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 29 страниц)
ПОВЕСТИ ПИСАТЕЛЕЙ ЛАТВИИ
Харий Галинь

Харий Галинь родился в 1931 году. Окончил отделение латышского языка и литературы Латвийского государственного университета. Был рабочим сцены, работал в типографии, затем литературным сотрудником районной газеты, редактором в издательстве «Лиесма». Творческий путь начал как поэт в 1953 году. В шестидесятые годы обратился к прозе. В 1968 году вышел сборник рассказов X. Галиня «Распродажа смерти», в 1972 году – книга «Караси ловят щук», тематически и сюжетно продолжающая первую. Проза X. Галиня в значительной степени автобиографична.
X. Галинь умер в 1983 году.
Пора сеять рожь

Грузовик был с тентом, и из кузова была видна лишь убегавшая назад полоса дороги, такая же, как и десять, и двадцать километров назад. Но вот промелькнула раскидистая черемуха с двухэтажный дом вышиной, и я вдруг понял, что, даже закрыв глаза, смогу назвать здесь каждый поворот и каждый хутор, и невольная дрожь пробежала по телу.
– Замерз? – спросила сидевшая рядом. Я так и не разобрал толком ее имени: то ли Дзидра, то ли Дзедра, а может, и Дзестра, что значит «прохладная» – недаром от ее вздернутого носика так и веяло неодолимым холодом.
Причины тому были: от меня несло дешевым табаком (я взял с собой в колхоз целый блок «Ракеты»), грязными носками (вчера пришлось срочно заканчивать халтурку, и не осталось времени на всякие условности вроде стирки носков и портянок), да еще и водкой: вчерашний наниматель оказался не скупердяем, угостил щедро и, увидев, как быстро усыхает бутылка казенной, добавил самогонки. Не то чтобы меня мучило похмелье, но пить хотелось, так что, пожалуй, на первой же остановке я с удовольствием хлебну пивка. Хотя, нет, придется обойтись лимонадом: кроме моих однокурсников, с нами ехал преподаватель, – ему, по слухам, придется сдавать экзамен или, может, зачет, а береженого бог бережет. Ладно, сойдет и лимонад, поскольку вчера я не больно-то и набрался – помню, как дошел до дома, как уложил чемодан и запрятал часть денег в грамматику Эндзелиня. Туда ни моя квартирная хозяйка, ни ее сожитель уж точно и носа не сунут, когда станут искать возможность одолжить без отдачи. Пару сотен я прихватил с собой: мало ли что может в нынешние времена понадобиться в колхозе.
– Озяб? – снова спросила соседка, на этот раз дружелюбнее.
– Нет, – хмуро сказал я. – От пыли в глотке першит, и курить охота.
– Скоро будет магазин, – еще доброжелательнее проговорила она (наверное, все-таки не Дзестра ее имя, а Дзидра – «прозрачная»). – Постучим, чтобы шофер притормозил.
– Ладно, – буркнул я и опять потянул за ниточку своих воспоминаний.
Черемуха – дерево любви, и ее цветы – цветы любви. Девушки вплетают их в волосы, парни ломают целыми охапками, чтобы дарить своим милым.
Пока не облетят черемухи цветы,
Мой зов не перестанешь слышать ты.
Так или в этом роде написал недавно в стенной газете выдающийся поэт нашего факультета. И сразу же студентки стали заучивать вирши наизусть и переписывать в свои альбомы. Не успеешь оглянуться, как стишок окажется напечатанным в какой-нибудь газете или журнале, тогда к студенткам присоединятся и школьники… Тьфу!
В тот раз черемуха тоже цвела белым сугробом, а на самом толстом ее суку висела пионервожатая, темноволосая горожанка с кровоподтеками под глазами (значит, били), в окровавленной, продырявленной белой блузке (застрелили или закололи), с разодранной юбкой и с синяками на бедрах (значит, надругались).
Два «ястребка» отгоняли от черемухи старух – не базар, мол, – но те, перейдя на другую сторону дороги или отступив еще на шажок, все равно шипели:
– Вот так-то оно, красавица!
– Кхе, кхе…
– Теперь-то уж оставит детей в покое!
– Где это видано – натравливать на родителей!
– Почитай отца и мать свою…
– У большевиков другие заповеди.
– Как жила, так и померла. А лесовикам что, разве не хочется? Тоже мужики ведь… Домой хода нет, вот и поигрались с приблудной. Ну, разве это женщина, разве латышка…
Вряд ли оба «ястребка» – молоденькие, примерно в моих годах, – не слышали бабьих пересудов; один из них уже залился краской до ушей. Они никого не трогали, только повторяли, словно поцарапанная пластинка:
– Разойдись, разойдись, не на базар пришли…
За поворотом поднялось облачко пыли. Верно, поспешало на рысях волостное начальство с экспертом и прочими, кому положено. У меня не было ни нужды, ни охоты встречаться с ними: примутся еще сгоряча за меня. Я прошел мимо старух, свернул на первую же просеку и прошагал еще немного. Сел на краю канавы, под другой черемухой, только она была куда ниже первой, и закурил.
– Неужели трудно обождать, пока машина остановится, и не задевать других своими копытами? – вернул меня к действительности резкий голос.
Это была не Дзидра, сидевшая рядом, а наша групоргша во всем ее величии – плоская, как доска, считавшая своим священным долгом поучать всех и каждого. Меня она почему-то возненавидела с первого же взгляда; так, во всяком случае, мне казалось.
Я не успел сказать в ответ ни слова, меня опередила Дзидра.
– Постучите, кто там поближе. Сейчас будет магазин, попьем.
Но шофер и сам догадался притормозить, ему, наверное, тоже понадобилось в магазин. Я протиснулся к борту, спрыгнул на землю и слегка ушиб ногу.
В две затяжки выкурил папиросу. От «Ракет» мало толку: хоть и крепки, но вонь от них страшная. Каблуком кирзового сапога раздавил окурок, потянулся и не спеша зашаркал к магазину. Интересно, чем торгуют в сельской лавке.
Тем временем девичья стайка выпорхнула из кузова и унеслась, как на крыльях. Ну и ладно. Дзидра пустилась было за ними, но остановилась и оглянулась на меня.
– Что, расхотелось пить?
– Еще как хочется!
– Надо было поспешить, теперь придется стоять в очереди.
«Что пристала, чего ей надо? Белых булок или…» – грубо выругался я про себя, а вслух вымолвил только три слова:
– Ну и что?
Дзидра засмеялась, потом участливо спросила:
– Нога болит?
– Утром, в темноте, верно, портянку плохо намотал. Ничего, потом перемотаю.
– Ты что, в армии служил, что умеешь портянки навертывать?
Ну что ей надо? Вот навязалась на мою голову! Прямо не оторвать! И я проворчал:
– Я и плавать умею, да не рыба.
Дзидра захлопала глазами, а я уже миролюбивей объяснил:
– К сапогам портянки – самое удобное. А вообще-то – дело привычки.
И, все еще прихрамывая, подошел и положил руку ей на плечо. Высвободится или нет? Не стала! Значит, хоть одна в нашей пестрой компании оказалась не из маменькиных дочек. Может, и еще найдутся такие, будет хоть с кем поговорить.
В магазине девчонки суетились, как первоклашки на перемене. Той бутылку лимонада, этой сто граммов конфет, нет, других, вон тех. Продавщица отпускала им без особой охоты: возни много, а дохода мало. Я неспешно приковылял к прилавку, и она, хотя в очереди было еще человек пять, сразу же повернулась ко мне.
– Что вам, пожалуйста?
– Для начала – две бутылки портера.
Было ясно и понятно, что в этих местах, и во всяком случае в этом магазине, живут по законам патриархата: женщины со своими спичками и солью могут потерпеть, не говоря уже о школьницах, какими продавщица наверняка сочла молодых студенток, а мужчинам ждать не полагается, их вечно томит жажда. И хотя только что я собирался обойтись лимонадом, продавщица отнеслась ко мне с таким почтением, что просто нельзя было уронить мужское достоинство. Да и к тому же, портер попадается вовсе не так часто. Обойденные вниманием девчонки свирепо глядели на меня, но никто не сказал ни слова: может быть, постеснялись, а возможно, дома в них вдолбили, что старших надо уважать, – и правильно сделали.
Я протянул продавщице десятку – то были еще старые деньги, – взял бутылки и небрежно заявил:
– Мелочь не надо. Только карманы рвет.
А девчонки передо мной пересчитывали каждую копейку! Множество глаз уставилось на меня: и удивленных, и сердитых, в том числе глаза преподавателя, групоргши, Дзидры и мало ли еще чьи.
Ну, пускай глазеют, если человека не видали. Жалко, что ли?
Одну бутылку я сунул в карман синего эстонского плаща, расстегнул его, за ним – пиджак и пряжкой от ремня открыл вторую бутылку, успев на лету подхватить в ладонь металлическую пробку. Нельзя же сорить на пол!
Тут уж окаменели все. Они открывали лимонад при помощи колец или о край ящика, а такого циркового номера никто из них, наверное, не видал. Можно было бы, конечно, открыть бутылку и зубами, но тогда во рту остался бы железный привкус, а я его не люблю. Я уже поднял бутылку, чтобы поднести горлышко к губам, как вдруг заметил, что из конца очереди на меня смотрит Дзидра, и тут же, не задумываясь, протянул бутылку ей:
– Прошу!
В магазине стояла мертвая тишина, в которой мое «прошу» раскатилось как удар грома. Дзидра нерешительно взяла бутылку, девчонки стали перешептываться, я под шумок открыл вторую и осушил, не отнимая от губ, потому что пить мне и в самом деле хотелось.
Дзидра отпила из своей бутылки от силы пятую часть; сразу было видно, что пить из горлышка она не умеет. Тут к нам подошла групоргша и неуверенно – от смущения, наверное, – объявила:
– Употреблять алкогольные напитки студентам не рекомендуется.
– А это и не алкоголь, – улыбнулась Дзидра. – Это портер.
Я не расслышал, что ответила групоргша, потому что улыбка Дзидры показалась мне до боли знакомой. Только никак не вспомнить было, где же я раньше встречал девушку. Так я и стоял, задумавшись, пока Дзидра не протянула мне посуду, где оставалось еще больше половины:
– Пей, и поедем. Мне больше неохота.
Где же и когда я встречал ее? А она меня тоже знает? Предупредила, что впереди по дороге попадется магазин, – выходит, она из этих мест. А значит, могла запомнить меня с тех времен, когда, вскоре после войны, я шатался в этих краях; могла заприметить, когда я мешочничал, или же…
…Или же лучше сказать Нориным брату и матери, что я поленился пройти лишний десяток километров, чтобы передать ей гостинцы, что я испугался, как заяц, потому что в лесу, где мне пришлось бы пробираться, шла перестрелка. Пусть уж они сами позаботятся вручить Норе узелок, что лежит сейчас в моем рюкзаке. Тем более, что ничего срочного там нет. Саша посылал сестре книги, без них пионервожатой Норе уж, конечно, никак невозможно было обойтись, – стишки, вернее всего, а также общую тетрадь для дневника и еще, наверное, какой-нибудь крем для лица или шампунь для волос, того сорта, каким торговали старухи на толкучке. Когда немцы в дни разгрома распахнули двери своих складов, люди хватали что под руку попало, а потом пытались ненужное барахло обменять или продать на базаре. А содержимое узелка Нориной матери я знал точно, потому что сам помогал собирать его: две пары белых бумажных носков домашней вязки, белые теннисные туфли и две коробки зубного порошка, чтобы содержать их в чистоте. Белые тенниски, по убеждению Нориной матери, были самой подходящей обувью для деревенской грязи и пыли. Стоило бы посмеяться, не будь так погано на душе.
Ну, зачем Нору понесло в деревню? Подышать свежим воздухом – у нее, видите ли, с малых лет слабые легкие, попить парного молочка… А теперь она с петлей на горле дышит запахом черемухи и запивает бабьими ухмылками, если только эксперт или другое должностное лицо не успели еще выпростать ее из белого сугроба.
Саша безуспешно пытался доказать своим женщинам, что в деревне еще неспокойно, что в лесах полно бандитов. Он даже меня позвал на помощь, чтобы убедить их. Ничего не помогло.
– Норочка ведь не станет там заниматься политикой, она будет учить деток петь, танцевать, ставить спектакли…
Комедия, да и только – если бы она не обернулась трагедией.
Да, и на Норе ведь была та самая черная комбинация, которую мы с Сашей подарили ей к шестнадцатилетию. Недаром она была похожа на черную, не ко времени созревшую на белой черемухе ягоду.
Раздобыть такую вещь в те времена было не просто. Хорошо, что в порту работали свои ребята. И они достали полный комплект: черную шелковую комбинацию, такие же чулки и духи; все это было украшено то ли подлинным, то ли поддельным «Made in USA». Я отдал за это добро последний кусок сала, справедливо рассудив, что картошку можно есть и просто так, с солью. Саша обещал рассчитаться со мной, но сделать это парню будет трудно. И, в конце концов, разве я не мог поздравить Нору от себя? Так что у нас получилось два шикарных подарка: он, как брат, преподнес бельишко, а я – чулки и духи.
Нора не могла нарадоваться, не зря Саша шепнул мне, что у сестренки с бельем совсем труба дело, после стирки и не понять, с какого конца приниматься латать и штопать. А чулок нет не то что шелковых, но и бумажных – только шерстяные, на зиму.
Зато их мамаша, увидев наши подарки, в голос заревела. Черное белье, мол, носят только непотребные девицы, шелковые же чулки кавалеры дарят своим шлюхам за проведенную вместе ночь.
Для нас с Сашей это было, как открытие Америки, и я стал уже сожалеть об отданном сале, в особенности когда поглядел на праздничный стол, накрытый более чем скромно. Нора тоже сперва растерялась, но потом обняла мамашу, стала к ней ластиться и успокаивать, и говорить, что зря она на нас накинулась. Откуда нам знать такие тонкости? Мы ведь от всей души и с наилучшими намерениями. Под платьем никто все равно не увидит, какого цвета у нее комбинация. К тому же соседка, мадам Элсинь, тоже носит черные чулки.
– У нее траур, – отвечала Норина мать сквозь слезы. – Ее муж погиб на войне, два сына пропали без вести, и она решила не снимать траур до самой смерти.
– Нашего папу тоже убили немцы. Почему я не могу носить траур? А духов у меня никогда еще не было. Это первые духи в моей жизни!
– У отца был одеколон. Он и тебе частенько разрешал подушиться.
– Он держал одеколон под замком и доставал только, если случалось порезаться бритвой. А это бывало редко…
Так или иначе, Нора в конце концов утихомирила свою мать, а когда из духовки извлекли подрумянившуюся курицу и на столе появилась пара бутылок яблочного вина, я сразу позабыл о том, что дома не осталось ни кусочка сала.
В тот день Нора впервые в жизни узнала, как пахнут духи. Меня она тоже слегка надушила, прикоснувшись кончиком указательного пальца к рубашке. Ничего особенного я не ощутил. И стал вспоминать, когда же я сам понюхал духи в первый раз.
Дома у нас раньше держали одеколон, но мне он не нравился. Отец с матерью душились им, когда собирались в гости. Духи у нас никто не покупал, они были не по карману.
Пожалуй, впервые я вволю нанюхался духов первой военной осенью. Три перепившихся шуцмана в развалинах пустили по кругу Ханеле, которой из-за матери приходилось носить желтую звезду. Отец ее был поляк, он пропал без вести при обороне города. Кончив свое дело, шуцманы кинули Ханеле маленький флакончик и несколько конфет. Она ела конфеты и плакала, а наши ребята ее утешали:
– Тебя же от этого не убавилось…
– Им это так не пройдет!
– Эй, Ханеле, теперь тебе терять нечего! Живи в развалинах, а мы будем платить тебе больше, чем они…
– Интересно, а что может быть в пузырьке?
Ханеле горевала не так уж долго. Она вылила весь пузырек на камень, а мы молча расселись вокруг, молчали и нюхали, сидели и нюхали, и молчали.
Позже мне не раз приходилось стоять на стреме, пока Ханеле в тех же развалинах валялась с парнями постарше, а потом ела их бутерброды. Сам я для любви тогда еще не созрел.
Вскоре Ханеле увели в гетто и, наверное, убили. Ничего больше о ней слышно не было. Но наши ребята долго ее вспоминали.
Да, в тот раз я нанюхался досыта; что же это был за запах? Горьковатый, совсем как у моих, выменянных на сало духов. На этих, правда, было написано «Made in USA».
Мне так никогда и не довелось увидеть Нору в черных чулках, а что до белья, то она была не из тех девушек, которым я осмеливался задрать подол.
Однажды, вскоре после дня рождения Норы, Саша решил сделать мне внушение.
– Слушай, – сказал он. – Ты оставь Нору в покое, не то… – И он замолчал, стараясь, наверное, придумать угрозу пострашнее.
– Не то ты ладошкой прикроешь, да? – ощерился я.
Саша побледнел. Мои слова, кажется, его так задели, что я решил сжалиться над парнем.
– Да успокойся! За кого ты меня принимаешь? Без ее воли у нее и волосок не упадет. Нора мне, конечно, нравится. Но скорее как… Ну, как… луч света в темном царстве, – закончил я словами, позаимствованными из одной умной книги.
И в общем-то я не врал. Мне действительно казалось, что Нора куда светлее, куда солнечнее, чем все мы, чем я сам. Даже дотронуться до нее с нехорошей мыслью уже казалось мне святотатством. Каждому человеку нужна святыня… Так почему же именно ей пришлось висеть на суку цветущей черемухи? Лучше бы уж я оказался на ее месте, но я, наверное, и для петли больше не годился.
Что поделаешь, когда ангелы умирают, строить жизнь дальше приходится чертям с корявыми пальцами и немытыми лицами. Я всегда смотрел на Нору, как на богоматерь, как на икону, но сейчас, когда она, поруганная, висела там (хотя нет, ее наверняка успели уже снять), ощутил сожаление: как-никак, я мог бы стать для нее больше, чем просто другом. Возможностей хватало. Взять хотя бы тот раз в дюнах, когда я продекламировал ей «Тараканий ансамбль», первое стихотворение, выученное просто так, для себя и для нее, а не ради учителей и отметки. Тогда она на мгновение прильнула ко мне и первая поцеловала в щеку. Я тоже потянулся было, но если любишь кого-то по-настоящему, то даже дыхнуть боишься, не то что… И ведь каждому человеку нужна святыня.
Луч света в темном царстве… Нора всегда казалась мне не такой, как мы, – лучше, возвышенней, словно бы она была не от мира сего, и уж никак не с нашего форштадта. Нора была единственной из нашей компании, кого учителям не приходилось подгонять, чтобы она выучила стишки. Правда, порой она могла до смерти разозлить человека какой-нибудь ерундой вроде:
Я стал нереален, и буду, и пусть,
Но, ставши мудрее совы,
Над вами, быть может, порой усмехнусь —
Ведь гнева не стоите вы.
Зато мурашки так и бегали по коже, когда Нора скандировала:
С тех самых пор, с того вот часа, мать,
Когда весенним утром сизый голубь
Над нашей старой крышей пролетел
Так низко, что задел концами крыльев
Травинки, что на крыше проросли,
С тех самых пор, с того вот часа, мать,
Во мне вдруг пробудилось что-то,
Что больше не могу унять…
Мне, правда, больше нравился сам ее голос, а не слова. Стишки долго казались мне просто придурью. Но вот однажды она нам прочитала:
Хорошо сестренка пляшет,
Я ж умею ловко красть, —
и мы насторожились. Это были «Мой рай» и «Зеркала фантазии». Это был Александр Чакс.
А «Мой тараканий ансамбль» был первым стихотворением, какое я затвердил наизусть, хотя никто меня не заставлял. Но когда Нора на взморских дюнах прильнула ко мне, я вспомнил слова из другого стихотворения:
Лучше, о губах мечтая,
Так и не коснуться их, —
и отстранился, потому что, клянусь всеми чертями, должна же быть у каждого человека какая-то святыня, если он не хочет превратиться в скота.
Нора и была для меня такой святыней, потому что именно она открыла мне, что читать можно даже книги, в которых нет ничего, кроме стихов, и я сам стал искать их, хотя такого добра на нашем форштадте было не густо. И все-таки они были, а на толкучке сборники стихов вообще стоили гроши: туда ходили больше за Уоллесом или Курт-Малером.
Саша по секрету шепнул мне, что Нора и сама кое-что сочиняет, но вот написанного ею она никогда никому не читала и не показывала. Да, воистину она была не от мира сего, и уж никак не с нашего форштадта. Недаром соседки, когда речь заходила о ней и ее мамаше, многозначительно крутили пальцем у виска. Ну и пусть. Блаженны нищие духом… Нора была богата духом, а значит – блаженны богатые духом, ибо время наполняет все старые речения новым смыслом, во всяком случае, так говорили нам на комсомольских политзанятиях.
Но гостинцы Норе слали не только Саша с матерью. У меня для нее тоже было кое-что припасено, только об этом никто не знал. И вот я… вот я сижу на краю канавы, словно выброшенный из лодки, и никак не могу уразуметь, что Норы больше нет! И тут я взвыл, как пес, хотя глаза, как назло, оставались сухими, – но сразу же тяжелая рука легла мне на плечо.
Я вскочил и огляделся, моргая. Не было ни канавы, ни цветущей черемухи – только множество растерянных и испуганных лиц.
– Дайте-ка лоб, – велел преподаватель, и я покорно подставил голову.
– Жара нет… Вы под утро так бредили, что я уже собрался вызывать скорую помощь. Мыслимое ли дело: ходить босиком по мерзлой земле!
– Не впервой, – отмахнулся я. И хотел добавить: хорошо, что, наклонив голову, мне сейчас не нужно закладывать руки на затылок, как под дулами немецких или бандитских автоматов. Но сказать это я не успел, потому что меня стал колотить обычный утренний кашель.
– Кашляете все же.
– Это от курения. С утра надо прочистить дымоход, чтобы весь день можно было дымить. – Я нашарил в кармане пиджака папиросы и как был, босиком, направился к выходу.
– Курите здесь, – великодушно разрешил преподаватель. – Все равно будем проветривать комнату.
– А зачем бродить босиком по морозу? – полюбопытствовала одна из девчонок.
– Чтобы собаки не нашли по следу.
Та, что спрашивала, так и застыла с разинутым ртом, а преподаватель усмехнулся:
– Если бы так, этим приемом пользовались бы многие. Но собаки находят. Точно знаю, что находят.
Чувствовалось, что преподаватель знает, что говорит. Но и я знал.
– Находят – если ноги поранены, если из них сочится кровь, ну хоть самая малость. А если ноги целы, ни одна собака не возьмет след. Если же убегать в обуви, выручить может лишь проточная вода.
– Для этого надо быть факиром – чтобы бежать по промерзлому жнивью и не поранить ног.
– Факиром или не факиром, только если человек привык с весны ходить босиком, то может прогуляться и осенью, по морозцу.
Я пощупал портянки. Сырые. А у меня ступни и икры слегка ныли. Нечего делать. Я раскрыл чемодан, вытащил поношенную тельняшку, раскрыл карманный нож, отрезал рукава, а саму тельняшку располосовал пополам. Мягкий трикотаж приятно прильнул к ногам. Если нет запасных портянок, ничего другого не придумаешь. А без тельняшки обойдусь, в запасе остался еще шерстяной джемпер. Я натянул сапоги; по ногам, ощутившим тепло, сразу забегали мурашки. Значит, ноги я вчера все-таки подморозил.
А что еще оставалось? Общество собралось донельзя утонченное, спать предстояло всем вместе – на соломе в горнице. Я уже совсем собрался разуться и вымыть ноги там же, где и все прочие, у колодца, но спохватился, что, кроме портянок, на ногах у меня – длинные женские чулки. Покупать их куда выгоднее, чем мужские носки: когда они проносятся, их можно обрезать, а концы зашить или просто завязать. Одни чулки заменяют три пары носков. И чтобы я просто так, ни за что, за прекрасные глаза, открыл всей почтеннейшей публике свой патент? И не подумаю!
Но тут я вспомнил, что раньше из колодца здесь поили только скотину, а воду для людей носили из бочажка. Надо, кстати, взглянуть, не зарос ли он.
И я не спеша похромал по едва заметной в сумерках тропинке. Когда-то эта дорожка была основательно нахожена, раз и сейчас ее можно было различить даже под высокой, пожухлой от заморозков травой. А вот зарослей кустарника здесь раньше не было: какой же хозяин позволит всякой дряни разрастаться на своей земле?
Когда-то бочажок укрывала от солнечного жара пышная липа. Я разыскал оставшийся от нее пень; кора уже отвалилась, но древесина была еще крепкой. Дубовый сруб позеленел, но держался так же прочно, как и в былое время. Рубили его не на один век. Я нагнулся и стал пить. От воды заломило зубы. Потом прошел чуть дальше – туда, где ручеек вырыл промоинку. Я разулся и едва не вскрикнул, так холодна была вода. Зато вмиг прошла усталость, и натертый и прорвавшийся пузырь перестал болеть. Я вымыл ноги, простирнул с песком портянки, а дырявые чулки засунул подальше в ольховые коряги. И, неся сапоги в руке, пошел к дому. Уже подмораживало, и длинные стебли травы обжигали ноги, словно были посыпаны солью.
В Дижкаулях – так назывался хутор – наши уже сидели за столом, пили горячий чай, чистили картошку и уплетали ее с каким-то соусом.
На меня, босого, уставились, как на ненормального. Топилась плита, лежанку уже успели завалить всяким тряпьем.
– Вода в колодце скверная, – заметила одна из ужинавших. – Даже в чае остается привкус.
– Ни в коем случае не пейте сырую, – сказал преподаватель то, что ему и полагалось сказать.
– Тут из колодца поили только скотину, счел нужным сообщить я.
Мои слова вызвали замешательство. Ко мне повернулись лица – удивленные, раздраженные, обеспокоенные.
– Что же пили люди? – деловито спросил преподаватель.
Я так же деловито ответил:
– Ходили по воду к бочажку.
– Что это такое?
– Если ключ забирают в дубовый сруб, его в этих местах называют бочажком.
– И далеко он?
– Тут рядом. Я вот сходил, напился.
– Неужели ты и ноги там мыл? – ужаснулась одна.
Ее ужаса я не понял: известно ведь, что всякий родник очень быстро очищается.
– Мыл, только не в бочажке. Где родник, там всегда бывает и промоинка.
– Что еще за помойка? – это спросила, кажется, групоргша.
– У тебя в голове. Не худо бы ее промыть, – довольно дружелюбно ответил я, потом объяснил, совсем как малым ребятам: – Пора бы знать; ручейки, особенно заросшие, тут называют промоинами и промоинками. Между прочим, промоинка из здешнего бочажка течет прямо на восток. Пасхальным утром надо в ней умыться. Тогда целый год будешь здоров, как огурчик, да и красоты прибавится.
– Суеверие, – решила групоргша.
– Это фольклор, который вам еще предстоит изучать, – вступился за меня преподаватель. – Ты жил тут, на хуторе? – по-прежнему деловито спросил он.
– Нет, – односложно ответил я, наливая остывший чай и пытаясь проглотить хоть одну картофелину: аппетита не было ни на грош.
– Откуда же ты знаешь, кто пил из колодца, кто – из родника?
– Бывал здесь, – неохотно пояснил я. – Тогда меня, правда, сажали за стол там, на кухне. В горницу сегодня попал впервые.
Кое-как я проглотил пару картофелин, запивая их горьким чаем. К соусу и не притронулся: не очень-то я доверяю умению молодых хозяек приготовить на скорую руку что-нибудь съедобное. Потом улегся на солому и притворился, что засыпаю, чтобы ко мне больше не лезли с дурацкими вопросами.
Но перед этим заметил:
– Надо бы достать белого песка и оттереть сруб бочажка, он совсем обомшел.
И сделал вид, что сплю, – чтобы дать волю памяти…
…Прежде в Дижкаулях я и в самом деле дальше кухни не заходил. Здешние хозяева покупали и выменивали то же самое, что и все окрестные жители, никаких особенных пожеланий или заказов у них не было. Хозяин, правда, был истый скопидом, торговался за каждый рубль, каждый грамм, за каждую крошку, словно бы отрывал от себя последнее; похоже, что торговаться было для него удовольствием. Хозяйка больше помалкивала, говорила лишь тогда, когда без слов нельзя было обойтись. Зато никогда не забывала покормить. Хозяин против этого не возражал, но у меня после торгов с ним кусок застревал в глотке. Когда мы достигали соглашения насчет денег, он отсчитывал их, копейка в копейку, и уходил в горницу, предоставляя хозяйке расплачиваться съестным. И каждый раз оказывалось, что она дала больше, чем даже я запрашивал вначале, словно и не слышала, сколько успел выторговать у меня хозяин. Таких чудес со мной раньше не приключалось. Обычно как раз хозяйки и оказывались самыми прижимистыми, с мужиками договориться бывало легче. Здесь же обстояло наоборот, и поэтому я нет-нет да и заворачивал снова в Дижкаули.
Хозяйка была лет на пятнадцать, а то и на двадцать моложе своего супруга. Она еще выглядела красивой, хотя у нее была уже взрослая дочь, молва о красоте которой шла далеко. Дочь, однако, была еще сдержаннее и молчаливей матери, ни разу не удостоила меня хоть словечком, точно бы я был пустым местом. Словом, странное это было хозяйство, от которого в те дни осталась едва треть, а раньше, говорят, у них было чуть ли не сто гектаров. Странным казалось даже название хутора: если его перевести на литературный язык, оно звучало бы как «Большие свиньи». Но, вопреки названию, никакого свинства здесь не происходило.
Правда, однажды в сумерках я нечаянно заметил, как пригожая и гордая Гундега, хозяйская дочь, прогуливалась с несколькими вооруженными парнями. Но в тот миг я думал лишь об одном: как бы не попасться им на глаза. Если мешочничаешь в одиночку, приходится бояться всего. Хорошо еще, если только отнимут тощий сидор, а то ведь могут и кокнуть – просто так, для развлечения: морда твоя не понравится или слишком уж слабо выразишь восторг по поводу неожиданной реквизиции. А если парни окажутся «ястребками», то задержат, отправят в город, а там пойдешь под суд за спекуляцию, подрывающую нормальные отношения между городом и деревней. Уже сколько я обещал себе: вот схожу еще раз, и все – лучше буду щебенку дробить. Но всякий раз кто-нибудь обязательно сбивал с пути. То просили привезти мыльнянку, потому что свинья на беду околела, нельзя же, чтобы пропало столько жира. То ребенку требовалось лекарство от глистов, в деревне его не достать, а в городе у меня в аптеке знакомые барышни. То нужен был частый гребень, то средство от коликов, то гвозди, то семена редиса и огурцов, то батареи для приемника, то йод и бинты… Только для своих людей, дело верное! А я знать не знал этих своих, да и дело было не такое уж верное, и все же я снова шел: жить-то надо. И потом, по правде говоря, меня тянуло к Норе. Маршрут я всегда составлял так, чтобы можно было невзначай забежать к ней, повидать, поговорить хоть немножко.
Да и Саша с матерью не давали покоя:
– Когда же ты пойдешь в те края? Захватил бы что-нибудь. Нора письмо прислала, шлет тебе привет и сердечно благодарит за прошлый раз.
Нашли дармового курьера, словно свои ноги я в лотерее выиграл! Что же они сами не отшагивают все эти километры, не прячутся под вагонной лавкой – без билета, без пропуска? И все-таки Нора оставалась Норой, и я не хотел, да шел, хотя порой мне вместо благодарности от нее крепко доставалось. Она взывала к моей комсомольской совести: когда же я, наконец, брошу мешочничать? Можно ведь и подтянуть ремешок.
Можно, конечно. Не спорю. Только тогда у меня не останется времени на то, чтобы привозить ей гостинцы из города, а на обратном пути ее мамаше – то-се из деревни. Но что уж тут! Если я не могу собраться с духом и сказать Норе, что она мне нравится, если не могу отважиться даже на это, если боюсь и дотронуться до нее по-настоящему – как же мне спорить с ней о таких вещах?








