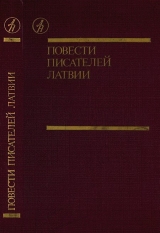
Текст книги "Повести писателей Латвии"
Автор книги: Зигмунд Скуинь
Соавторы: Андрис Якубан,Мара Свире,Айвар Калве,Харий Галинь
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 29 страниц)
– Ну, думай на здоровье, – снова перешла Гундега на «ты».
Мы долго ели молча, так, что за ушами трещало, потому что варево действительно оказалось вкусным. Только сейчас Гундега заметила на столе мясо и разрезала его пополам.
– Вам всю ночь работать, а я только подброшу вас до сушилки, поставлю мотоцикл и буду свободна.
Я взял свою часть, а Дзидра, покачав головой, разрезала свою еще раз пополам и половину положила на тарелку Гундеги.
Когда мы поели, хозяйка снова пригласила нас в комнату и открыла буфет, одна из полок которого пестрела разноцветными этикетками.
– Может, посошок перед работой? – предложила она и взяла стакан. – Что налить?
Я хотел уже ткнуть пальцем в бутылку «советского джина», но ощутил прикосновение Дзидры к своему локтю и покачал головой.
– Спасибо, только лучше не надо. Ночью может отказать мотор.
Я вспомнил, как минувшей ночью чефирьный кейф боролся во мне с сивушным хмелем.
– Вот чайку – с удовольствием, он дает силу.
– Ради бога! – Гундега недовольно, как мне показалось, захлопнула дверцу буфета, и мы вернулись на кухню, где она включила электрический чайник. Дзидра принялась мыть посуду.
– Оставь, милая. Я сама, – запротестовала Гундега, но так неуверенно, что Дзидра не сочла нужным даже ответить.
– Утвердили план мелиорации, – ни с того ни с сего начала вдруг Гундега. – Начнут с моей бригады. Так выгоднее и мелиораторам, и колхозу. Тогда и в самое сырое лето комбайны смогут добраться до любого закоулка. Сейчас на многих полях застревают.
Помолчала и заговорила опять совсем о другом.
– Придется все-таки выручать драчунов. Люди все-таки, а мне работники нужны, как воздух.
И еще:
– Студентов у меня забрали. Я, мол, уже картофель копаю, а у других еще яровые на вешалах. Но вас двоих я отстояла, вы мне нужны здесь. Я друзей не забываю.
По моей спине пробежали мурашки, потому что я вспомнил, какими друзьями мы были некогда.
– Да, непонятно получается, – продолжала она. – Работать студенты будут в других бригадах, а за ночлег и кормежку отвечать должна я.
…Первая колхозная неделя прошла весело. Были ночи, когда работы в сушилке хватало всего часа на два, а случалось и всю ночь просидеть у истопника, играя в дурака. Это было единственное, во что Дзидра умела играть. С муками мы обучили ее играть в «тысячу», а до постижения всех хитростей «соло» ее мозги еще не доросли. Чем учить таких, лучше рассказывать сказки лошадям. Чувствовалось, что ей недостает логики в мышлении, хотя она обладала прекрасной механической памятью.
За игрой мы болтали о том о сем. Дядюшка Янис рассказывал о своем колхозе, и рано или поздно все его истории заканчивались словами «наша Гундега».
Наша Гундега сделала то, это и еще вот что. Вообще, если верить старику, с той поры, когда Гундега приняла бригаду, дела стремительно рванулись вперед, а жизнь – вверх. Если бы еще и в остальных двух бригадах были такие же бригадиры… Гундега себя не жалеет, с утра до вечера на мотоцикле, ни один лентяй от нее не укроется. От нее и муж ушел потому, что она однажды ночью, ругаясь с мужиками своей бригады, всех их называла по именам, и муж, бедняга, решил, что все они – ее любовники; тут старик рассмеялся.
– Нашел Екатерину Великую!
Тогда она отдала дочку свекрови – раз нет, так уж нет, – и стала вкалывать еще похлестче, прямо как оглашенная. Любой из ее бригады был бы рад ее на руках носить, но она ни с кем не связывается.
Самые заядлые пьянчуги, крикуны и хулиганы слушаются ее с полуслова, потому что ходят слухи, что у нее ухажер в милиции, и стоит ей сказать словечко, как людей из кутузки доставляют прямо на поле, и мужики вкалывают до седьмого пота и еще руку Гундеге целуют.
– Но самую хитрую штуку, – и старик довольно ухмыльнулся, – она учудила с самогонными аппаратами. Понимаешь, вместе с милиционером отобрала у всех и оставила только свой. А ее аппарат сделан в мастерской, по всем правилам. И она выдает его на похороны, свадьбы, крестины – но только тем, кто хорошо работал. А зимой пускает по списку, но только самым лучшим. Не знаю, может, и еще у кого-нибудь уцелел, а у меня она отнимать аппарат не стала, только строго-настрого запретила давать кому-нибудь, разрешила гнать только для себя. Иначе и мой пригрозила сдать в лом.
О более отдаленном прошлом старик, правда, не распространялся. Я его и не спрашивал. Зачем сыпать соль на старые раны? И так он изувечен на всю жизнь.
Однажды только он заметил:
– Что же удивительного, что Гундега такая: мать ее была настоящая ведунья и знахарка.
– Да ну? – удивленно откликнулся я.
– Да, многие болезни она заговаривала, от многих отчитывала, лучше докторов, на всякую хворобу была у нее своя травка. И сама не без волхвовства стала хозяйкой Дижкаулей.
– Чудеса, да и только; такого еще не слыхано.
– И слыхано, и видано. Мать Гундеги все наговоры переняла от своей бабки, которую еще и посейчас вспоминают старики. Но, кроме заветных слов, у девушки ничего не было, только то, что на ней, ну и выходная юбчонка; своими заговорами она не зарабатывала, а если и помогала кому, то платы не брала. У меня, мол, руки-ноги есть, вот когда не смогу больше работать, тогда и станете платить за лечение. Заветные слова, мол, не для того даны, чтобы умножать добро, которое ржа ест и моль точит, а чтобы людей спасать. Так и батрачила она то на одном хуторе, то на другом, пока не пришла в Дижкаули. Аккурат тем летом хозяин заболел рожей. Сколько ни ездил по врачам, сколько ни наезжал к известным знахаркам, даже в литовскую церковь гонял лошадь, – ничего не помогало. Как не мог избавиться от хворобы, так и не мог.
И тут новая батрачка вызвалась попробовать.
Хозяин только посмеялся да отмахнулся: столько славных докторов и ведунов не помогло, где уж батрачке справиться. Посмеялся и сказал:
– Ну, если вылечишь, я тебя сразу к алтарю поведу, – а жил он холостяком.
А батрачка наговорила, дунула, плюнула – и вся болезнь.
Дижкаулис слово сдержал: заложил дрожки и повез батрачку к священнику. В немецкое время хозяйка помогала беглым военнопленным и партизанам, а после – лесовикам. Рука ее всегда была готова отрезать кусок хлеба для голодного.
– А теперь что с ней? – решился спросить я.
– Да кто знает? Гундега вернулась без нее – с мужем, он работал шофером, трактористом, автомехаником – и еще с маленьким ребенком на руках. Тут же впряглась в работу. Делала в поле все самое тяжелое, пока не назначили бригадиром. Она еще при немцах окончила сельскохозяйственное училище, там, далеко, заочно сдала за техникум, теперь учится дальше, тоже заочно. Муж ее – из соседской волости, лет на двадцать постарше, оттого и ревновал без меры. А заветные слова Гундега знает. У меня у самого однажды зуб так схватило – хоть на стенку лезь, не помогали ни сивуха, ни табачная крошка, ни аптечные таблетки, ни рябиновая зубочистка. А Гундега заговорила зуб – и по сей день не болит.
…Это была легкая и веселая неделя. На мешки с зерном мы больше не забирались: в нашем распоряжении была отдельная квартира с двуспальной кроватью, но такой невыразимой близости, как в первую ночь, больше не возникало.
А однажды утром, на заре, в сушилке появился незнакомый человек и попросил Дзидру выйти на минутку.
Разговаривали они не минутку, а битый час. Дзидра вернулась заметно оживленной и отозвала меня в сторону.
– Знаешь, кто это был?
– Откуда же мне знать?
– Мой дядя, теткин муж. Ругал меня за то, что удрала: поговорила бы, мол, с ним, и все устроилось бы как следует. Говорит, они обыскались по всем больницам, потом обратились в милицию, и там – не сразу, правда, – им сказали, где я нахожусь. Говорит – хорошо, что я хочу учиться. Многим они мне помочь не смогут, но что-нибудь придумают. Мало ли я его детей нянчила, стряпала… Говорит, – рад, что я стала студенткой, зовет приехать хотя бы за вещами, поговорить по-человечески. И учительница тоже спрашивает, куда я исчезла. Он говорит – неужели все вместе не придумают, как высшую школу одолеть? И денег оставил, – показала мне Дзидра несколько бумажек. – Тебе не надо?
– Глупая, куда я их сейчас дену? Сколько мне нужно, я всегда заработаю. Да и дома у меня кое-что припрятано.
– Когда нам дадут выходной?
– Спроси у бригадирши. Я рад, что у тебя все начинает улаживаться. Горизонт проясняется.
– Только бы не начало лить, – улыбнувшись, сказала она.
Выходной настал, как по щучьему велению. В то же самое утро Гундега сказала:
– Ваш преподаватель каждый день интересуется, как у вас дела. Уверяет, что ночная работа вредна молодым. Так что сегодня и завтра гуляйте, а с послезавтра придется работать вместе со всеми. Тех двух полудурков мне в конце концов удалось выцарапать из милиции. Хорошо хоть, что передрались они между собой, других не задевали. Сейчас я закину вас домой, отдохнете, а вечерком посидим на прощание. Втроем.
Дзидра замялась:
– Я бы лучше съездила к родственникам. Тут недалеко. Через полтора часа пойдет автобус.
– Не поев, не поспав? Поезжай завтра!
– Ничего, поем и высплюсь дома, а послезавтра буду тут как тут. Хочется навестить двоюродных братишек.
Ох ты, как умеет она врать, когда нужно!
– Как хочешь. Тогда я быстренько отвезу тебя на остановку, там рядом столовая, хоть что-нибудь перекусишь. С пустым животом из моей бригады еще никто не уезжал.
Так мы и сделали.
После этого Гундега долго молчала, прежде чем спросить:
– А ты? Что ты собираешься делать? Может быть, тоже больше не хочешь ехать ко мне?
В ее голосе прозвучал вызов, который мне оставалось только принять.
– Нет, почему же.
Гундега слегка оживилась: вообще, я чувствовал, что последнее время ее тяготят какие-то неприятные мысли.
В молчании доехали мы до трехэтажного дома. Гундега отдала мне ключ и едва слышно проговорила:
– До вечера…
Я выспался в одиночку, застлал кровать – до сих пор это делала Дзидра, – потом крутил ручки «Даугавы» и рылся в библиотеке Гундеги. У нее было много книг по сельскому хозяйству и политэкономии – на латышском, русском и немецком языках – и очень мало художественной литературы. Но разве у колхозного бригадира, к тому же студентки-заочницы, остается время на чтение всякой чепухи?
Гундега вернулась раньше обычного.
– Ой, а я только собрался готовить тебе ужин.
– На такую честь претендовать я не осмеливалась и постаралась вернуться пораньше, – и она сделала книксен, точно школьница.
Вскоре в комнате был уже накрыт стол, не хуже, чем в лучших рижских ресторанах; перед каждым прибором – три рюмки, посреди стола бутылки с коньяком, джином, «Саперави» и лимонадом.
– Прошу! – пригласила Гундега.
Некоторое время мы пили и закусывали молча. Гундега не только не отставала от меня, но, напротив, все убыстряла темп, как если бы мы устроили тут соревнование. Недоставало только судьи. Но может быть, он был тут, рядом с нами: время.
Когда уровень в бутылках заметно понизился, Гундега неожиданно сказала:
– Что же ты ничего не спросишь о своей Норе? Или ты совсем забыл ее?
– А я все время жду, чтобы ты рассказала, если хоть что-нибудь знаешь. Не хотелось обижать тебя такими вопросами. Ты колхозный бригадир, я – простой студент…
Гундега нервно теребила бахрому скатерти. Без сомнения, она уловила скрытую в моих словах иронию и начала рассказывать, опустив глаза:
– Я, честное слово, не виновата. Под черемухой, у дороги она заболталась с их долговязым учителем пения. Те, из леса, велели им стать на колени и петь «Боже, благослови Латвию». Учитель пения сразу же так и сделал, его и пальцем не тронули, а твоя Нора осталась стоять и что было силы ругала и его, и нас. Парням кровь ударила в голову, и… Я убежала, чтобы ничего не видеть, и тысячу раз прокляла тот час, когда связалась с ними. Но было поздно.
– Да, многое в жизни мы понимаем слишком поздно, – согласился я. И странно – в душе моей больше не было ни жалости, ни печали, ни горечи, – только бескрайняя, неизмеримая пустота. – Но найти дорогу к нам было вовсе не так трудно.
И, видя, что Гундега молчит, я прибавил, словно себе самому:
– А меня однажды фрицы не пристукнули только потому, что я не стал на колени перед дулами автоматов. Наткнулся на таких, кто еще уважал – ну, как это назвать, – простую человеческую смелость.
Гундега медленно налила рюмки.
– Выпьем, чтобы земля была Норе пухом!
– За это пей одна. Я уже достаточно пил и достаточно выл, словно волк на луну.
Она выпила в одиночку.
Потом мы снова долго молчали, пока Гундега не налила себе.
– Слушай, только не отказывайся выпить со мною за наш колхоз. Ну да, я бывшая пособница бандитов, бандитская подружка, но крови на моей совести нет. В конце концов, свое наказание я отбыла, разве не так? Мне доверили самую отстающую бригаду в колхозе, потому что туда больше некого было послать. Скоро минет третий год, как я ею командую, и она прочно занимает первое место в колхозе. Прочно! Догнать меня больше никто не может. Так человек я или нет?
– За колхоз я с тобой выпью. – И я поднял рюмку.
Гундега чокнулась со мной, рука ее дрожала. Затем облегченно вздохнула:
– Спасибо. Твое мнение для меня важнее десяти приговоров и десяти амнистий, потому что это ты вывозил меня отсюда. И еще не дал доругаться с твоим напарником. «Разоралась, как испанская шлюха из Барселоны», – и Гундега резко рассмеялась.
Я махнул рукой.
– Расскажи лучше, как тебе удалось вытащить твою бригаду на первое место.
– Ну, в этом мало интересного. К каждому нужно найти правильный подход. Одному пообещать, другому пригрозить, третьего выручить из беды, четвертого помирить с женой…
– И пустить самогонный аппарат по хуторам, по списку…
– И это тоже, – утвердительно кивнула Гундега, даже не поинтересовавшись, кто выдал мне ее производственный секрет. – По закону или в обход – лишь бы это шло на пользу моей бригаде. И еще: надо соблюдать дистанцию. Можно выпить стаканчик с колхозниками, иначе обидятся, но нельзя с ними напиваться. Я уже полтора года живу без мужа, мужики за мной косяками бегают, но связаться с одним – значит разозлить других; и приходится воздерживаться – ради дела воздерживаться. Улыбнуться, пококетничать – и все. Мои работники меня слушаются и вкалывают, как звери. Моя бригада…
Теперь мы пили не так стремительно; Гундега рассказывала еще и еще, а я чуть ли не с ужасом подумал: «Неужели эта женщина не знает других местоимений, кроме „я“ и „мой“? Даже колхозников своей бригады она назвала „мои работники“. И все же – если бы все сделали столько, сколько она, чтобы поднять сельское хозяйство, дела на селе шли бы куда лучше. Диалектическое противоречие? Пусть так, диамат я изучал только в кружке, в университете придется сдавать, кажется, лишь на третьем курсе…»
И, словно в подтверждение моих мыслей, Гундега искренне сказала:
– Да, можно говорить что угодно, но колхоз и правда хорошее дело. Кем была бы я раньше? Хозяйкой каких-то Дижкаулей. А теперь я хозяйка целой бригады, и хорошая хозяйка. Почетных грамот полон шкаф. А что такое Дижкаули по сравнению с колхозной бригадой?
Я согласно кивал, думая тем временем:
«Какого же черта дижкаульской Гундеге вместо отцовского хутора дали в руки колхозную бригаду? Объекты сменились, субъект – нет. Но раз она хорошо работает – пусть работает. Я ей не судья. И потом, с бригадирского поста ее можно в один прекрасный или не прекрасный день снять».
Мы выпили еще немного, слушая музыку, а потом Гундега подсела ко мне, обняла за шею и зашептала:
– Возьми меня. Чтобы я поверила, что ты простил.
Мне ничуть не хотелось, чтобы она, хотя бы в мыслях, могла назвать меня «мой любовник», и я снял ее руку.
– Слушай-ка, Гундега, не только у каждого человека должна быть святыня, у свиньи – и то есть сердце в груди. Как могу я лечь с тобой в постель, где Дзидра дарила мне себя?
Гундега отстранилась, прикусив губу.
– Ты любишь Дзидру?
– Наверное. Как не полюбить приблудного, ласкового, смешного и послушного щенка? Как причинить ему зло?
Я думал, что этим уложил Гундегу на лопатки, но где уж Адаму превзойти Еву в хитрости! Еще после пары рюмок она пьяно зашептала:
– А на полу ведь можно?
Выпитое делало свое.
– На полу можно.
Куда больше хотелось бы мне уложить дижкаульскую Гундегу в грязную лужу или на навозную кучу. Но можно и так. Дочке нищей вдовы – кровать гордой и прекрасной Гундеги из Дижкаулей, а самой Гундеге – только пол, как она сама захотела.
В ушах у меня прозвучал ее ненавидящий голос:
«Давно надо было прихлопнуть, никто и не почесался бы. Шлялся по волости, как легавая собака, ко всем льнул, везде пролезал. Откуда только берутся такие люди без принципов, и еще осмеливаются называть себя латышами!»
Наутро я не смог подняться без четвертинки, да и выпив ее, прослонялся весь день ни живой ни мертвый. А назавтра мне предстояло выйти на работу вместе с группой, где самое малое два индивида будут исследовать меня, как под микроскопом.
Гундега ушла, но уже через час примчалась, чтобы лечить меня, словно настоящего больного: чефирем, кофе, капустным рассолом, фруктовой водичкой; сказала, чтобы я пил все, чего душа ни пожелает, у нее есть таблетки, отбивающие запах. Рассказывала анекдоты и всякие веселые истории из жизни бригады.
Я медленно потягивал коньяк, боясь переусердствовать. Уснуть днем с похмелья – значит обеспечить себе сумасшедшую ночь, когда не поможет никакой алкоголь и изо всех углов полезут умершие и погибшие, чтобы потолковать о жизни. А если среди них появится еще и Нора с цветущей веткой черемухи в волосах… Бр-р… Ее я никак не хотел бы встретить этой ночью. В другой раз…
Когда перед вечером я попросил у Гундеги теплого легкого бульона (потому что с тяжкого похмелья брюхо приемлет пищу только в жидком виде), она вышла на кухню, а я взял Швейка и проглядел лучшие места, особенно сцену похмелья фельдкурата Каца, которая всегда помогала мне в трудные минуты.
На следующее утро я принял еще сто граммов, позавтракал, проглотил таблетки Гундеги от запаха и прибыл в группу достаточно бодрым. Дзидра была уже на месте.
– Молодожены возвратились из свадебного путешествия. А почему пешком? Где бригадирская карета? Они катаются, а нам работать!
Примерно так нас встретили. Но когда выяснилось, что они – человек двадцать – выработали только в четыре раза больше трудодней, чем мы с Дзидрой вдвоем, все рты захлопнулись, а лица повытягивались.
Эти сведения Гундега уже успела подбросить преподавателю.
Мы с Дзидрой держались рядом, но работали молча и на картошке, и на свекле, и на других работах. В этой толпе мы не искали близости друг друга.
Лишь через несколько дней она поделилась со мною своими планами.
– Знаешь, я думаю перейти на заочное. В школе мне предлагают место библиотекарши. Зарплата маленькая, зато работа с книгами. А летом подработаю в колхозе.
– Дело твое. Может, так будет и лучше. У тебя плечи не широки, чтобы одной продержаться в университете. А от родных известно, какая помощь. Родич родичу черт.
– Того вдовца со всеми его детьми дядя обещал колом вышибить из теткиной головы и на порог не пускать.
– Ну видишь, как все устроилось.
– А ты?
– А что я? Стану писать тебе письма и ждать в гости. Тут, в деревне, я оставаться не собираюсь, а в Риге мне некуда тебя пристроить. Расстанемся и испытаем любовь друг друга, как советуют газеты.
В дни, когда нам выпадало работать в бригаде Гундеги, она обращалась с нами, точно с незнакомыми. Лишь когда мы уезжали, отозвала меня в сторону и сунула в руки объемистый сверток.
– И не отказывайся, пожалуйста! Тут немного харчей. Там, на булыжнике, тебя ведь ничего не ждет.
Я взглянул на ее руки – они были такие же большие, обветренные и натруженные, как когда-то у ее матери, – и не отказался.
В Риге Дзидра сразу же стала оформлять перевод на заочное отделение и уехала. Я написал ей пару длинных-предлинных писем. Она отвечала очень кратко: дела, мол, хороши, работаю там же, в библиотеке. Я постарался встретить ее на сессии заочников; на все мои вопросы она отвечала односложно, отказалась даже пообедать со мной – сослалась на недостаток времени. На последующие письма она вообще не ответила, на очередную сессию не приехала. Случайно я узнал, что она перешла на заочное отделение пединститута в другом городе, поближе к дому, и уже преподает в своей школе.
Гундега, та разыскала меня сама. Похвалилась тем, что муж ее на коленях просил прощения и вернулся вместе с дочерью. И опять звучало: «я», «мой». Мой муж, моя дочь, моя бригада, а под конец – адресованное мне «мой друг».
Горбатого могила исправит; но я от души радуюсь успехам бригады и колхоза.
Вот на могиле Норы я давно не был. Можно, конечно, разговаривать с девушкой и в мыслях, но весной, когда цветет черемуха, и осенью, когда созревают черные ягоды, сердце сжимается и хочется глотнуть чего-нибудь покрепче.
Авторизованный перевод В. Михайлова








